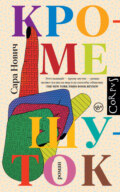Сара Нович
Девочка на войне
Sara Nоviс
Girl at War
* * *
Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
© 2015 by Sara Novic. All rights reserved
© А. Измайлова, перевод на русский язык, 2024
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2024
© ООО «Издательство ACT», 2024 Издательство CORPUS®
* * *
Моей семье и А.
Я приехала в Югославию, чтобы увидеть историю во плоти. И теперь я поняла, что когда погибает империя, даже мир, населенный стойкими мужчинами и женщинами, полный богатых яств и хмельных вин, может казаться театром теней: ведь самый выдающийся человек порой сидит у огня и греет руки в тщетной надежде вытравить холодок, затаившийся отнюдь не во плоти.
Ребекка Уэст. Черный ягненок и серый сокол
Я читаю эту фразу – и картины полевых дорог, пойменных пастбищ и горных лугов сливаются у меня перед глазами с картинами разрушения, и странным образом именно эти последние, а не ставшие совершенно нереальными идиллии раннего детства вызывают во мне что-то вроде любви к родине.
В. Г. Зебальд. Естественная история разрушения[1]
I. Обоих сбили
1
Войну в Загребе развязали из-за пачки сигарет. Обстановка давно накалялась, слухи о беспорядках в других городах передавались шепотом у меня над головой, но без взрывов, ничего такого явного. Зажатый в горах, летом Загреб изнывал от зноя, и на самые жаркие месяцы большинство людей сменяли город на побережье. Сколько я себя помню, в отпуск наша семья ездила с моими крестными в рыбацкую деревушку на юге. Но сербы перекрыли дороги к морю – или по крайней мере так все говорили, – и впервые для меня мы провели лето вдали от побережья.
В городе все стало липко-влажное – дверные ручки и поручни в поездах осклизли от чужого пота, воздух набряк от запахов вчерашнего обеда. Мы то и дело залезали под холодный душ и разгуливали по квартире в нижнем белье. Стоя под струями прохладной воды, я воображала, будто кожа у меня шкворчит, испуская пар. По ночам мы лежали на простынях в ожидании прерывистого сна и горячечных сновидений.
В последнюю неделю августа мне исполнилось десять – праздник, ознаменованный отсырелым тортом и омраченный жарой и тревогой. Родители в те выходные пригласили на ужин своих лучших друзей – моих крестных Петара и Марину Дом, где мы обычно проводили лето, принадлежал деду Петара. Так как мать работала в школе, у нас было целых три месяца каникул – отец к нам приезжал попозже, поездом, – и впятером мы жили на утесах Адриатики. Но теперь мы оказались взаперти на суше, и ужины по выходным превратились в нервную пантомиму обыденности.
Перед приездом Петара и Марины я поругалась с матерью по поводу одежды.
– Ты же не в зверинце, Ана. Чтобы к ужину надела шорты, или ничего не получишь.
– А в Тиске я вообще в одних купальных трусах хожу, – возразила я, но под сердитым взглядом матери оделась.
В тот вечер взрослые опять затеяли свой вечный спор о том, сколько же они все-таки знакомы. Как они любили повторять, в моем возрасте они уже дружили, и неважно, сколько мне на тот момент было, а с добрый час спустя под бутылочку «Феравино» на том и сходились. Петар с Мариной не обзавелись детьми, и поиграть мне было не с кем, так что я сидела за столом с младшей сестренкой на руках и наблюдала их состязание за самое давнее воспоминание. Рахела, всего восьми месяцев от роду, побережья ни разу не видела, и я рассказывала ей про море и про нашу лодочку, а она улыбалась, когда я корчила рожицы, изображая разных рыб.
После ужина Петар подозвал меня и протянул горстку динаров.
– Посмотрим, сможешь ли ты побить свой рекорд, – сказал он.
Игра у нас была такая – я бегала в ларек ему за сигаретами, а он засекал время. Если побью рекорд, он отдаст мне пару динаров со сдачи. Я сунула деньги в карман рваных джинсовых шорт и мигом преодолела девять пролетов лестницы.
Я не сомневалась, что установлю новый рекорд. Свой маршрут я отточила до совершенства: знала, где вплотную огибать углы домов, а где остерегаться кочек в переулках. Я пробежала мимо дома с большущей оранжевой табличкой «Осторожно, злая собака» (хотя не помню, чтобы там вообще жила собака) и перемахнула через бетонные ступени, еле увернувшись от помойных контейнеров. Под бетонной аркой, где все время пахло мочой, я задержала дыхание и понеслась прямиком в город. Обогнув самую крупную рытвину перед баром, облюбованным охотниками пропустить стаканчик днем, я только чуточку притормозила, пробегая мимо старика-зазывалы за складным столиком, торговавшего краденым шоколадом. Красный навес газетного киоска трепыхался под редкими порывами ветра, словно финишный флажок, маячивший передо мной.
Я оперлась локтями о стойку, чтобы привлечь внимание продавца. Господин Петрович знал меня и знал, что мне нужно, но улыбка у него сегодня больше походила на усмешку.
– Тебе какие сигареты, сербские или хорватские?
То, как он нарочно разграничил две национальности, звучало неестественно. Из новостей я уже знала, что люди в том же духе говорят о сербах и хорватах из-за стычек в деревнях, но напрямую мне никто такого не высказывал. А взять не те сигареты я не хотела.
– Можно мне, пожалуйста, как обычно?
– Сербские или хорватские?
– Ну такие. В золотой обертке которые.
Я пыталась выглянуть из-за его здоровенного торса, указывая на полку у него за спиной. Но он только посмеялся и махнул рукой другому покупателю, а тот с ухмылкой глянул на меня.
– Эй! – попыталась я еще раз обратить внимание продавца на себя.
Но он пропустил мой оклик мимо ушей и стал отсчитывать сдачу следующему в очереди. Игру я уже проиграла, но все равно побежала домой со всех ног.
– Мистер Петрович сказал мне выбрать либо сербские, либо хорватские сигареты, – сказала я Петару. – Я не знала, что ответить, и он ничего мне не дал. Извини.
Родители переглянулись, а Петар жестом подозвал меня присесть к нему на колени. Он был высокого роста – выше отца – и раскраснелся от жары и вина. Я взобралась ему на широкую ляжку.
– Ничего, – сказал он, похлопав себя по животу. – Я все равно слишком наелся, чтобы курить.
Я достала деньги из кармана шорт и вернула их Петару. Он сунул мне в ладошку пару динаров.
– Но я же проиграла.
– Да, – ответил он. – Но сегодня ты тут ни при чем.
Тем вечером отец зашел в гостиную, где я спала, и присел на скамью перед стареньким пианино.
Пианино нам досталось в наследство от тети Петара – у них с Мариной дома ему места не нашлось, – но вызвать настройщика нам было не по карману, и первая октава так просела, что все тона звучали одинаково уныло. Я слышала, как отец жмет на педали, по привычке нервно двигая в ритм ногой, но клавиш он не касался. Некоторое время спустя он поднялся, подошел к дивану, где лежала я, и присел на подлокотник. Мы собирались скоро покупать матрас.
– Ана? Не спишь?
Я попыталась приоткрыть глаза и ощутила, как они забегали под веками.
– Не сплю, – выдавила я из себя.
– Фильтр 160. Они хорватские. В следующий раз не ошибешься.
– Фильтр 160, – повторила я, запечатляя в памяти его слова.
Отец поцеловал меня в лоб и пожелал спокойной ночи, но спустя пару секунд я заметила, что он так и стоит на пороге, загородив собой свет кухонной лампы.
– Был бы я рядом, – прошептал отец, но я не поняла, мне он это сказал или нет, поэтому лежала тихо, а он больше ничего говорить не стал.
Утром по телевизору передавали речь Милошевича, и от одного его вида я расхохоталась. У него были большие уши, толстое багровое лицо и обвислые щеки, как у понурого бульдога. Говорил он с гнусавым акцентом, даже близко не похожим на гортанный мягкий голос отца. Он рассерженно стучал кулаком по столу в такт своей речи. Говорил что-то про чистку страны, повторял это снова и снова. О чем он, я не понимала, но чем дольше он говорил и стучал, тем больше багровел. Я так хохотала, что мама выглянула из проема посмотреть, что там такого смешного.
– Ну-ка выключай.
Щеки у меня так и вспыхнули – я подумала, она разозлилась, что я смеялась над какой-то важной речью. Но лицо ее быстро смягчилось.
– Иди поиграй, – предложила она. – Могу поспорить, что Лука тебя уже опередил и сам доехал до Трг[2].
Тем летом мы с Лукой, моим лучшим другом, колесили на велосипедах по площади и гоняли в футбол с одноклассниками. Мы были все в веснушках, загорелые и неизменно в пятнах от травы, а теперь, когда до школы оставалась всего пара недель свободы, стали встречаться даже раньше и задерживаться позже обычного с твердым намерением не потратить зря какие-никакие каникулы. Луку я нагнала на нашем привычном маршруте. Мы ехали бок о бок, и он то и дело вихлял передним колесом в мою сторону так, что мы чуть не падали с великов. Это была его любимая забава, и он хохотал всю дорогу, но у меня из головы никак не шел Петрович. В школе нас учили не придавать значения отличительным этническим признакам, хотя определить происхождение по фамилии было нетрудно. Вместо этого нас приучали бездумно декламировать панславянские слоганы: «Bratstvo i Jedinstvo!» – «Братство и единство». Зато теперь, похоже, оказалось, что различия все же важны. Родные Луки были родом из Боснии, государства разношерстного, какой-то непонятной третьей категории. Сербы писали на кириллице, хорваты – на латинице, а в Боснии использовали оба алфавита, и выговор там отличался еще незначительней. Мне стало интересно, есть ли особый сорт боснийских сигарет и курит ли отец Луки такие.
Добравшись до Трг, мы увидели толпу, и я сразу поняла: тут что-то неладно. В свете недавнего сербо-хорватского раскола все – включая статую бана Елачича с саблей наголо – теперь казалось приметой волнений, которые я прозевала. Во времена Второй мировой саблю бана нацелили на венгров как бы в оборонительном жесте, но потом коммунисты снесли этот памятник в знак нейтрализации национальной символики. Мы с Лукой видели, как после прошедших накануне выборов мужчины с помощью веревок и тяжелой техники вернули Елачича на постамент. Теперь уже лицом на юг, в сторону Белграда.
Трг всегда была излюбленным местом для встреч, но сегодня люди с исступленным видом толклись у подножия статуи среди нагромождения грузовиков и тракторов, припаркованных прямо на булыжной мостовой, где в обычные дни машинам даже проезжать не разрешалось. На площади повсюду валялись пожитки, ящики для перевозки и целая уйма неприкаянной домашней утвари, которыми были битком набиты грузовики.
Мне вспомнился цыганский табор, мимо которого мы с родителями как-то проезжали на машине, когда ездили навестить могилы дедушки с бабушкой в Чаковце, – целые караваны повозок и трейлеров, скрывавших внутри таинственные инструменты и краденых детей.
«Вот возьмут и как плеснут в глаза кислотой, – пригрозила мать, стоило мне заерзать на церковной скамье, пока отец ставил свечи и молился за упокой своих родителей. – Слепые дети-попрошайки зарабатывают в три раза больше, чем зрячие».
Я взяла ее за руку и сидела тихо весь оставшийся день.
Мы с Лукой слезли с великов и стали робко пробираться к скопищу людей и пожитков. Но эти люди были не из кочевого племени с окраин северных деревушек – никто не разводил костров, не устраивал цирковых представлений, здесь не звучало музыки.
Весь лагерь держался буквально на одних лишь веревках. Канаты, бечевка, шнурки, обрывки ткани разной плотности хитросплетением узлов протянулись от машин и тракторов к горам скарба. На веревках раскинулись, образуя импровизированную палатку, простыни, одеяла и самые объемные предметы одежды. Мы с Лукой поглядывали то друг на друга, то на чужаков, не зная, как описать увиденное словами, но понимая, что хорошего тут мало.
Временный лагерь был опоясан свечами, таявшими возле коробок с надписью «Пожертвования в пользу беженцев». Большинство прохожих что-нибудь в коробку да кидали, кто-то даже выворачивал карманы.
– Кто это? – шепнула я.
– Не знаю, – отозвался Лука. – Может, тоже что-нибудь дадим?
Я достала из кармана полученные от Петара динары и отдала их Луке, побоявшись подойти поближе сама. Лука тоже нашарил пару монет, и я осталась сторожить его велосипед, пока он ходил до коробки. Увидев, как он наклонился, я жутко перепугалась, что веревочный город проглотит его, будто ожившие лианы из ужастиков. Когда Лука вернулся, я сунула руль ему в руки в такой силой, что он отшатнулся и чуть не упал. На обратном пути живот у меня будто в узел скрутило, и только много лет спустя я узнала, что это называется синдромом выжившего.
Мы с одноклассниками часто устраивали футбольные матчи ближе к восточной части парка, где в траве было поменьше кочек. Из девчонок я одна играла в футбол, но иногда другие тоже приходили на поле – попрыгать на скакалке и посплетничать.
– Почему ты одеваешься как мальчик? – спросила меня как-то девочка с косичками.
– В футбол удобнее играть в штанах, – ответила я.
На самом же деле я одевалась так потому, что одежду мне отдавал наш сосед, а ничего другого мы себе позволить не могли.
Мы стали собирать истории. Начинались они с перечня замысловатых связей и знакомств – троюродный брат лучшего друга, дядин начальник, – и тот, кому удавалось забить гол в условно обозначенные (и неизбежно подлежавшие дискуссии) ворота, рассказывал первый. У нас возникло негласное состязание в кровавых подробностях, и лавры доставались тому, кто умел изобретательнее всех описать, как вышибли мозги его дальним знакомым. Двоюродные братья Степана видели, как какому-то мальчику миной оторвало ногу, и прилипшие кусочки кожи еще целую неделю находили в ложбинках на тротуаре. Томислав слышал о мальчике, которому в Загоре снайпер прострелил глаз, и глазное яблоко растеклось, словно сырое яйцо, у всех на виду.
Дома мать ходила взад-вперед по кухне, разговаривая по телефону с друзьями из других городов, а потом высовывалась из окна и передавала новости соседям из ближайшего многоквартирного дома. Я стояла рядом и слушала, как она обсуждает с женщинами на другом конце бельевой веревки нараставшие на берегах Дуная волнения, и впитывала все, что только можно, а потом неслась на поиски друзей. Словно охватившая весь город сеть разведчиков, мы обменивались подслушанной информацией и передавали рассказы о жертвах, которые по кругу знакомств подбирались к нам все ближе и ближе.
В первый день после каникул учительница проводила перекличку и обнаружила, что кое-кто в классе отсутствует.
– Никто не знает, где Златко? – спросила она.
– Может, в Сербию свою вернулся, где ему и место, – сказал один мальчишка, Мате, которого я на дух не переносила. Некоторые сдавленно захихикали, и учительница их сразу одернула. Мой сосед по парте, Степан, поднял руку.
– Он переехал, – объяснил Степан.
– Переехал? – Учительница бегло полистала бумаги у себя в папке. – Ты уверен?
– Мы живем в одном доме. Пару дней назад я видел, как его родные вечером тащили в грузовик большущие чемоданы. Он сказал, им надо уехать, пока не начались авианалеты. Просил со всеми за него попрощаться.
В классе развернулось бурное обсуждение:
– А что такое авианалет?
– А кто у нас теперь будет за вратаря?
– Ну и скатертью дорожка!
– Захлопнись, Мате, – огрызнулась я.
– Хватит! – прикрикнула учительница. Мы затихли.
Авианалет, объяснила она, это когда самолеты пролетают над городами и бомбами пытаются разрушить здания. Она нарисовала мелом карту с местоположением убежищ, перечислила необходимые вещи, которые нашим семьям нужно взять с собой в бункер: АМ-приемник, канистру с водой, фонарик, батарейки для фонарика. Я не понимала, чьи это самолеты, что за здания они хотят взорвать и как отличить обычный самолет от опасного, но радовалась передышке от уроков. Вскоре учительница стерла все с доски, подняв сердитое облако меловой пыли. Она вздохнула, будто эти авианалеты ей уже осточертели, и стала стряхивать осевший на оборках юбки мел. Мы переключились на деление в столбик, и на вопросы времени у нас уже не осталось.
Случилось все, когда я бегала кое-куда по поручению матери. Мне нужно было добыть молока, а выдавали его в скользких пластиковых пакетах, которые выворачивались из рук при любых попытках слить содержимое или ухватить пакет покрепче, так что для перевозки строптивого груза я приспособила себе на руль картонную коробку. Но во всех ближайших к дому магазинах молоко закончилось – в магазинах теперь все кончалось, – и я зазвала Луку отправиться на вылазку вместе. Расширяя зону поисков, мы забирались все дальше в город.
Первый самолет пролетел так низко, что мы с Лукой потом любому, кто хотел послушать, клялись, что видели лицо пилота. Я пригнулась, руль перекрутился, и я свалилась с велосипеда. Лука тоже уставился в небо, но машинально продолжал крутить педали и, налетев на мой поваленный велик, грохнулся лицом об мостовую и рассек булыжником подбородок.
Мы кое-как поднялись на ноги и, не чувствуя боли – боль заглушил прилив адреналина, – наспех выправили велики.
И тут завыла сирена. Сквозь трескучие помехи паршивой аудиоаппаратуры. Сирена выла так, как будто женщина вопила в мегафон. Мы бросились бежать. Через улицу и дальше, по закоулкам.
– Какое тут ближе всего? – перекрикивая шум, спросил Лука.
Я мысленно представила карту на школьной доске, где звездочки и стрелочки обозначали разные пути.
– Есть одно под детским садиком.
На нашей первой детской площадке под горкой были цементные ступеньки, ведущие к стальной двери, в три раза толще обычной, похожей на толстенный том словаря. Двое мужчин придерживали открытую дверь, и со всех сторон люди стекались вниз, в потемки. Оставлять велосипеды на произвол судьбы перед лицом неотвратимой гибели нам с Лукой не хотелось, и мы подтащили их как можно ближе ко входу.
В убежище я уловила запах плесени и несвежих тел. Когда глаза привыкли к темноте, я осмотрелась.
В комнате стояли двухъярусные койки, деревянная скамья у входа и велосипед для выработки электричества в дальнем углу. Потом мы с одноклассниками воевали за этот велосипед, локтями выбивая себе право покрутить педали ради выработки электроэнергии, питавшей освещение в убежище. Но в первый раз мы на него едва обратили внимание. Слишком увлеченно мы рассматривали странное сборище людей, вырванных из повседневной жизни и сгрудившихся вместе в логове времен холодной войны. Я оглядела ближайшую ко мне компанию: мужчины в деловых костюмах и в спецовках с накинутой поверх курткой, как у отца, женщины в колготках и строгих юбках. Другие в передниках с детьми по бокам. Я задумалась, куда могли пойти мама с Рахелой; общественных убежищ рядом с домом не было. Тут я услышала крики Луки и поняла, что нас разделило наплывом новоприбывших. Я двинулась по направлению к нему, узнав его по мелькнувшей в толпе копне непослушных волос.
– У тебя кровь, – сказала я.
Лука вытер рукой подбородок и стал искать кровавый след на рукаве.
– Так и знал, что сегодня начнется. Я слышал, как отец вчера об этом говорил.
Отец Луки работал в полицейской академии и отвечал за обучение новобранцев. Меня расстроило, что Лука не сказал мне о возможности налета заранее. Он спокойно переносил темноту и стоял, свесив руку через перекладину лесенки, ведущей на верхнюю койку.
– А мне почему не сказал?
– Не хотел тебя пугать.
– Я и не боюсь, – ответила я.
Я и правда не боялась. Пока что.
Опять взвыла сирена, просигналив отбой. Мужчины, навалившись, отперли дверь, и мы поднялись по лестнице, сами не зная, чего ожидать. Снаружи было еще светло, и солнце ослепило меня, точь-в-точь как тьма в убежище. В глазах зарябило. А когда рябь рассеялась, площадка приняла привычные очертания. Ничего не стряслось.
Домой я ворвалась с парадного входа и объявила матери, что молока во всем Загребе нигде не осталось. Она резко выдвинула стул из-за кухонного стола, за которым проверяла стопку домашних заданий, встала и крепче прижала Рахелу к груди. Рахела заплакала.
– Ты цела? – спросила мать.
Она сгребла меня и с силой сжала в объятиях.
– Я в порядке. Мы ходили к детскому садику. А где были вы с Рахелой?
– В подвале. Около шупы.
Подвал нашего дома имел всего две отличительные черты: грязища и шупы. У каждой семьи была шупа, такая деревянная кладовка на замке. Я обожала заглядывать в щель между дверными петлями и косяком, словно на закрытой церемонии по досмотру скромнейшего семейного имущества. В нашей кладовке мы хранили картошку, и в темноте ей неплохо жилось. Подвал казался местом не самым надежным: ни тебе громадной металлической двери, ни двухъярусных коек, ни электрогенератора. Но когда я позже об этом спросила, мать как будто помрачнела.
– Одно другого не лучше, – сказала она.
Тем вечером отец пришел домой с коробкой из-под обуви, набитой доверху катушками коричневого скотча, который он стащил из трамвайного депо, где иногда подрабатывал. Он натягивал на окна по диагонали большущие липучие кресты, а я следом за ним придавливала скотч, разглаживая воздушные пузыри. Створчатые окна в пол, которые из гостиной вели на балкончик, мы проклеили в два слоя. Балкон был моим любимым местом в квартире. Если на меня вдруг накатывал острый приступ обиды после похода в гости к Луке, в дом, где его маме не приходилось работать и где он спал на настоящей кровати, я выходила на балкон, ложилась на спину, свесив ноги с карниза, и убеждала себя, что ни в каких частных домах не бывает таких высоченных балконов.
Теперь же я испугалась, что отец заклеит створки наглухо.
– Но мы же сможем выходить туда, да?
– Конечно, Ана. Мы просто укрепляем стекла.
Скотч, по идее, должен был не дать окнам разбиться при взрыве.
– Да и вообще, – усталым голосом добавил он, – немного скотча все равно не спасет.