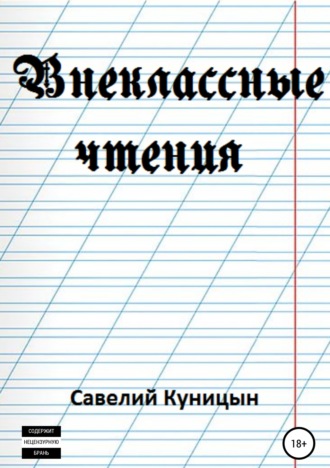
Савелий Куницын
Внеклассные чтения
3
Через два дня у тебя опять урок литературы. Ты его просто прогуливаешь, шатаясь со своим драным портфелем по окрестностям. Лазишь по давно уже ведущимся стройкам высотных домов, а сам всей силой своих юношеских, совсем ещё зелёных мозгов, пытаешься сообразить, что же делать дальше.
С высоты прожитых лет ты понимаешь, что та проблема для пятнадцатилетнего юнца-девятиклассника действительно была неразрешимой. Слишком ты был шокирован произошедшим, чтобы найти хоть какой-то мало-мальски разумный выход, кроме банальных прогулов всех уроков литературы и русского языка.
В тот вечер, когда ты был у Нины Васильевны в гостях, ты приходишь в себя на её кровати. Разгоняя послеобморочный туман перед глазами, ты смотришь то на обои, то на потолок.
Пусть ты и лежишь на кровати, но вся одежда на тебе: и свитер, и штаны, и носки.
Ширинка застёгнута.
Нина Васильевна выходит из кухни и подносит тебе стакан чая. Она присаживается рядом на кровать и говорит, глядя на включенный торшер:
– Вы очень слабы, Стебунов. Вам нужно потреблять больше витаминов.
Приняв сидячее положение и поставив ноги на пол, ты молча принимаешь протянутый стакан из рук учительницы. Делаешь глоток сладкого чая и, глядя в пол, отчётливо понимаешь, что тебе сильнее всего на свете сейчас хочется убежать отсюда.
Или снова упасть в обморок.
– Вам нужно идти домой, – говорит Нина Васильевна, переместив своя взгляд в сторону не задёрнутого окна. – Уже темно.
Когда завязываешь шнурки в коридоре, она говорит тебе, твоей скрюченной спине:
– Приходите завтра в семь часов.
Твои пальцы на мгновение замирают.
– Вы ведь так и не закончили читать Байрона.
Обратно домой ты не бежишь, хотя очень хочется. Ты просто идёшь, как обычно, потупив свой взгляд в самую землю, но при этом тебе кажется, что все прохожие смотрят на тебя – на сопливого пацанчика, который только что круто согрешил. И все эти осуждающие взгляды в твой адрес, все они говорят: как можно, молодой человек, как можно?
Эти взгляды, полные укора, говорят тебе: что скажут родители, если узнают?
Эти взгляды говорят: и как Вы теперь, молодой человек, будете выкарабкиваться из этого дерьма?
Но, конечно же, ты не знаешь ответа ни на один из этих вопросов.
Ты просто бредёшь по тёмной вечерней улице, как сомнамбула, и вокруг только мерещатся осуждающие взгляды.
И всё бы ничего… Ты бы тогда, наверное, пережил бы этот инцидент…
Всё было бы хорошо, но придя домой и ответив отцу и матери, что гулял с друзьями (которых у тебя отродясь не было, и все об этом знали), ты раздеваешься, проходишь в туалет, чтобы опорожнить мочевик, наполненный сладким и не сладким чаем, и обнаруживаешь, что твой юношеский член обильно покрыт чьей-то слюной…
Именно из-за этой слюны ты и начинаешь шариться по окрестным стройкам вместо уроков литературы. Шаришься там неделю, шаришься вторую.
Скоро ты будешь знать все тончайшие нюансы ближайших новостроек – где под лестницей насрано, где спят бомжи и где ловят кайф токсикоманы, оставляя после себя пустые тюбики клея «Момент» или грязные тряпочки, пропитанные ацетоном.
Однажды, в очередной раз прогуливая урок литературы, ты забредаешь в лесопарковую зону в вашем районе. Уходишь в неё поглубже и присаживаешься на ствол поваленного дерева. Кладёшь потрёпанный портфель рядом, достаёшь учебник биологии и с угрюмым видом принимаешься готовиться к следующему уроку.
В тот весенний день на тебя надета синяя болоньевая куртка, но погода выдалась в меру погожей, и ты её даже не застёгивал. Под курткой виден твой старый школьный пиджак, к его нагрудному карману прицеплена язычком-держателем металлическая авторучка.
Казалось бы, такая мелочь, но, возможно, именно этот незначительный факт в тот день и спас твою нелепую серую жизнь от бесславной кончины. Ну, или в лучшем случае, спас твоё коричневое юношеское очко от постороннего вмешательства.
В общем, ты сидишь на огромном бревне среди зарослей сосен и всяких мелких кустарников, читаешь цитологию – раздел про устройство биологической клетки.
Ты не сразу замечаешь этого здоровенного детину рядом, одетого в какую-то робу серо-зелёного цвета.
– К урокам, что ли, готовишься? – спрашивает у тебя этот мордатый мужик, опуская рюкзак на землю у одной из сосен.
Ты слегка вздрагиваешь от неожиданности. Мельком и испуганно окидываешь его силуэт взглядом.
– Да, – отвечаешь ты, глядя на незнакомца исподлобья.
– А что за предмет? – снова спрашивает верзила и, как-то недобро улыбаясь, делает в твою сторону несколько тяжёлых шагов, ступая резиновыми сапогами.
– Биология, – тихо отвечаешь ты, глядя на мужика из-под прядей ровно остриженных волос, свисающих на твой прыщавый лоб.
– А, – произносит верзила и довольно улыбается. Он уже стоит в полутора метрах от тебя. – Биология – вещь полезная…
Ты вновь опускаешь глаза в учебник и пытаешься читать, но две огромные лапы в резиновых сапогах всего в полутора метрах от тебя, попадающие в пределы твоего периферического зрения, не дают покоя.
Они настораживают и пугают.
Водишь по тексту учебника глазами, но никак не можешь себя заставить понимать смысл написанного. А верзила стоит рядом и молчит.
Так продолжается, наверное, целую вечность. А если объективно, то секунд пятнадцать-двадцать. Потом мордатый мужик произносит:
– А я к себе в сад иду.
Он машет рукой куда-то в сторону, где через сотню сосновых метров и через дорогу действительно стоят садовые участки, и добавляет:
– Да вот что-то поссать захотелось…
Верзила в садовом камуфляже говорит тебе всё это, а сам и с места не шелохнётся.
Ты сидишь читаешь учебник.
Верзила стоит рядом и смотрит на тебя.
Ты сидишь читаешь учебник.
– А ты, парень, поссать не хочешь?
Бац…
Сидишь, читаешь учебник и тебе становится как-то страшновато от таких вопросов.
Рибосомы, лизосомы, митохондрии…
– Не хочешь? – настойчивее спрашивает верзила, слегка склоняя к тебе голову.
Рибосомы, лизосомы, митохондрии…
Ты весь словно сжимаешься внутри от страха.
Мужик несколько мгновений ждёт твоего ответа, и затем вслух добавляет:
– А я поссу…
Ты читаешь учебник, низко склонив голову, и видишь, как резиновые сапоги проходят мимо тебя и направляются к одной из сосен.
Чтобы облегчиться, мужик не встаёт к тебе спиной. Он поворачивается слегка боком, ровно так, чтобы было видно тебе, достаёт свой прибор и принимается обильно смачивать чёрствую кору многолетнего дерева.
Ты наблюдаешь всё это исключительно периферическим зрением, потому что на деле ты читаешь:
Рибосомы, лизосомы, митохондрии…
В жизни бывает так, что ощущаешь на себе чей-то взгляд. И боковым зрением тебе даже кажется, что этот конкретный человек смотрит прямо на тебя. Но в большинстве случаев, когда ты набираешься смелости обернуться к нему, выясняется, что смотрит он не на тебя, а куда-то мимо.
Но вот тогда, много лет назад, когда ты, будучи сопливым затюканным девятиклассником, сидел в том лесном массиве… Ты готов поклясться, что тот верзила, пока поливал мощной струёй сосну, смотрел прямо на тебя. Держал лапищами свой здоровенный прибор, ссал на дерево и внаглую пялился на тебя, сопливого затюканного пацанчика.
Периферическое зрение не могло тебя подвести. Ты готов в этом поклясться даже годы спустя. Даже двадцать лет спустя.
А тогда ты сидишь читаешь учебник…
Рибосомы, лизосомы, митохондрии…
Замечаешь, что мужик прекращает ссать, поворачивается и медленно так, вразвалочку, направляется в твою сторону.
Что-то мимолётное кажется тебе странным в его походке. Поднимаешь глаза и через прямые пряди своей чёлки видишь, что мужик направляется к тебе, так и не убрав член в штаны.
Он держит его своей правой лапой, плотно обхватив по кругу, потряхивает им снизу-вверх, будто сбрасывая оставшиеся капли мочи. И, совершая всё это, он идёт к тебе.
Если бы ты тогда был чуточку посмышлёнее, то тот факт, что член в руке мужика почему-то был в полуэрегированном состоянии, заставил бы тебя мгновенно ломануться со своим драным портфельчиком прямо через кусты малины и плотные заросли крапивы и бежать до ближайшего места с живыми людьми.
Но ты тогда не был достаточно смышлёным во всех тонкостях половой сферы. И тот факт, что в руке у мужика почему-то вдруг оказался полуэрегированный член, не внёс в твою мальчишескую голову дополнительных беспокойств.
Тебя просто сильно смущал уже сам факт того, что в тихом местечке незнакомый дядька гориллоподобной наружности и так и сяк ненавязчиво демонстрирует тебе предмет своей сомнительной мужской гордости, о котором ты даже думать боишься, не то что уж демонстрировать его прохожим.
Верзила останавливается всего в двух метрах от тебя. Он продолжает трясти членом снизу-вверх, по кольцу зажатым в ладони.
– Ты, парнишка, точно поссать не хочешь? – спрашивает мужик, свысока глядя на тебя и стряхивая с члена капли мочи, которых там давно уже нет.
Ты опять опускаешь глаза в учебник и пытаешься читать там:
Но твоё сердце бьётся в груди с такой силой, что ты от волнения даже двух слов разобрать не можешь.
– А то пошёл бы поссал, – всё не унимается мужик.
Ты сидишь, якобы читаешь…
Внутри тебя всё трясётся, но снаружи ты, видимо, само спокойствие.
Верзила стоит перед тобой с членом в руке ещё несколько секунд. Затем он с досадой принимается убирать его в прореху своих дачных штанов.
Но на душе твоей легчает лишь чуть-чуть.
Ты, совсем зелёный пацан, закомплексованный, зажатый и серый, но не как волк, а как мышь, сидишь, жутко ссутулившись, на бревне в глубине лесопарка и делаешь вид, будто читаешь биологию. А всего в двух метрах от тебя стоит огромный мужик, только что как бы невзначай размахивавший своим членом у самого твоего носа. В лесном воздухе чувствуется не запах начатого дня, а повисшее напряжение.
Мужик убирает руки в карманы своего дождевика и ещё некоторое время продолжает на тебя смотреть.
– А ты чего ручку на карман цепляешь? – говорит он.
Косишься на нагрудный карман своего школьного пиджака, к которому прицеплена металлическая авторучка.
– Зря так делаешь, – говорит мужик.
Якобы рибосомы, якобы митохондрии…
Мужик говорит: а то споткнёшься и сам же на ручку упадёшь.
Ты сидишь, якобы читаешь.
Он говорит: убери её лучше в портфель.
Сидишь, якобы читаешь.
Говорит: от греха подальше.
Внутри тебя сковывает столь сильный страх, что ты теперь просто не сможешь ломануться отсюда прочь через кусты.
Твои ноги словно наливаются бетоном.
– Сам же и поранишься, на фига тебе это? – говорит мужик, засунув руки в карманы своего дождевика.
Он стоит перед тобой и будто бы ждёт ответа. Эта горилла стоит рядом и смотрит на тебя сверху вниз.
– Нет, – доносится хриплый голос из твоей пересохшей гортани.
Мужик, наверное, не ожидал услышать такой грубый голос от пацана твоего возраста. Всё дело в пересохшей глотке, но ему этого знать не надо.
Секунду он растерянно соображает, что сказать. И говорит:
– Ну так тебе же лучше будет. За тебя же беспокоюсь…
– Нет, – ещё раз хрипло отвечаешь ты. Внутри тебя всё напрягается. Ты не знаешь, что может быть дальше. И внутренне ты готовишься к чему угодно…
А мужик возьми да и скажи:
– Ну и ладно.
Он разворачивается, подходит к своему рюкзаку. Поднимает его, закидывает на плечо и, растерянно ухмыляясь, говорит:
– Странный ты какой-то, пацан.
Это тебе говорит мужик, который только что ссал, глядя на тебя.
О твоей странности тебе говорит мужик, который минуту назад размахивал членом почти у самого твоего носа.
– Ладно, я пошёл… Учись, давай, – говорит тебе верзила и удаляется по тропинке меж сосен и кустарников.
Как только спина в дождевике и с рюкзаком исчезает из поля зрения, ты сразу же собираешь все свои манатки и валишь из леса. Несколько раз даже возникало желание побежать сломя голову. Но ты всё же шёл ровно, с трудом переваривая случившееся.
Такого страха ты не испытывал никогда в жизни.
Это без преувеличения.
В голове возникает даже какой-то туман от пережитого стресса.
В конце концов, ты не выдерживаешь и по тропинке сломя голову несёшься к школьному стадиону.
4
Твоя осведомлённость о половой сфере человека и физиологических отличиях мужчины и женщины в твои пятнадцать лет была поразительной. Ты не знал почти ничего. Только самые общие факты.
Ты мог нарисовать голого мужчину. Очень приблизительно мог нарисовать голую женщину. Вот, в принципе, и всё.
А что там дальше, ты не в курсе.
Твоё знание сексуальной сферы человека ограничивалось тайным зашифрованным стишком, который ты услышал в девять лет от ребят во дворе.
Ложись на поле боя, Звони в колокола И суй свою морковку В пещеру Арара…
Ты и не полагал, наивный пацанчик в шортиках, что за этими словами кроется хоть какое-то символическое значение.
Когда в девятом классе, вас собирают в кабинете физики для общей фотографии, всех расставляют, как положено для таких снимков.
Первый ряд – девочки, сидящие на стульях.
Второй ряд – девочки в полный рост, несколько мальчиков и ваша классная руководительница в самом центре.
И третий ряд – исключительно мальчики, стоящие на стульях.
Всего двадцать семь человек.
Ты стоишь во втором ряду близ классной руководительницы – учительницей физики преклонных лет. Прямые пряди лоснящихся волос свисают на твой прыщавый лоб…
Фотограф делает несколько снимков и уходит.
Девочки убегают в коридор.
Мальчики, расставьте стулья по местам, говорит ваша учительница и тоже выходит из кабинета.
Ты берёшь два стула сразу и несёшь их к пустующим партам. В этот момент по кабинету разносится чей-то удивлённый вскрик. Ты оборачиваешься.
Это один из парней. Он стоит у стула из первого ряда, на котором фотографировались сидящие девчонки. Он растерянно улыбается и показывает всем на поверхность стула.
На нём виднеется пятно крови. На стуле, где сидела одна из девчонок.
– Офигеть! – якобы истерично выкрикивает кто-то из парней, улыбаясь при этом.
– Кто здесь сидел? – через улыбку и удивлённые глаза спрашивает другой.
– Вроде бы, Потехова, – отвечает третий.
– Точно Потехова! – восклицает четвёртый.
И все ребята стоят, сгрудившись вокруг стула, и с улыбками до ушей смотрят на пятнышко крови, оставленное после себя девочкой по фамилии Потехова.
Её звали то ли Ниной, то ли Галей, то ли Лидой – через годы ты уже и не упомнишь.
Но и спустя всё это время ты не забудешь удивлённо-восторжённые лица улыбающихся парней и то, как они разглядывают стул и произносят странные слова.
Одни, как заклинание, говорят: течка.
Другие говорят: потекла.
Третьи: менструация…
Тогда ты ещё не знаешь значения этих слов. Для тебя это простая абракадабра.
Ты выглядываешь из-за спин парней, смотришь на пятнышко крови и никак не можешь понять, почему те часто произносят «фу» и брезгливо воротят носы, но при этом всё равно улыбаются.
Ты полагаешь, что у Нины-Гали-Лиды какой-то порез, рана или что-то в этом духе. А парни стоят и смеются.
– А где сидит Потехова? – восклицает один из них. – Давайте этот стул ей и поставим!
И ребята аккуратно берут стул в руки и тащат в другой конец кабинета.
С высоты прожитых лет на многое смотришь иначе. Когда по телеку показывают, как православная братия бьёт копытом, с пеной у рта выступаю против введения в общеобразовательных школах такой дисциплины, как "Половое воспитание", ты не можешь не смотреть на это с прискорбием.
В такие моменты ты всегда вспоминаешь совсем ещё юного себя. Серую мышь, выросшую в семье двух других серых мышей.
Очень вероятно, что если бы не твоя несколько странноватая учительница литературы, ты так никогда бы и не узнал всей правды о капусте и аистах. И хрен знает, как тогда сложилась бы вся твоя нелепая жизнь.
Наверное, стала бы ещё нелепее.
Ты вспоминаешь эпизод из своей уже более зрелой жизни. Из позднеинститутской поры, когда довелось проходить практику на геофизическом факультете Горной Академии.
Тебе двадцать два. Ты сидишь где-то почти в тайге в коморке каротажного ЗИЛа с руководителем геологоразведочной группы Степаном Геннадьевичем Жуковым по прозвищу «Фольксваген». Вы пьёте крепкий чай со сгущёнкой.
Степану Геннадьевичу уже за пятьдесят. Половина жизни в разъездах геологоразведки. Весёлый, шебутной.
Он много интересного поведал тебе за полтора месяца заполярной вахты, которая в Академии зачитывалась тебе как практика.
"Фольксваген" наливает себе вторую кружку горячего чифиря и принимается рассказывать очередной случай из жизни.
Тогда вы в виде монолога Степана Геннадьевича беседуете на тему распущенности современной молодёжи.
За стенками каротажной будки – холодное лето 93-го…
И в контексте своих рассуждений о сексуальной озабоченности тогдашней молодёжи говорливый и юморной руководитель геологоразведочной группы задорно щурится и, словно для самого себя неожиданно, вспоминает кое-что забавное.
– О! Что я тебе сейчас расскажу! – глотая горячий чай, Степан Геннадьевич делает жест кистью снизу-вверх. Мол, слушай, обоссышься. – Какие забавные вещи в жизни бывают… Такое, наверное, только в те давние времена произойти и могло. Сейчас такое трудно даже представить…
"Фольксваген" делает ещё глоток и говорит:
– Так вот, это было, когда я сам ещё в Горной Академии учился. Курсе на пятом, вроде…
Прикидывает что-то в уме, бросает взгляд на потолок.
– Это, вроде как, год 66-ой был… Так вот, была в нашей группе пара – Он и Она. Как её звали, не помню, но его – Саня Кирдяпкин. Редкая фамилия и смешная, потому и запомнил. Так вот…
Швыркает горячим чифирем.
– Они познакомились ещё на первом курсе и летом, аккурат после экзаменов, свадьбу сыграли. И потом стали они вместе жить в отдельной комнате в нашем же общежитии. Он, Саня, то есть, парнем был тихим, спокойным, и она тихоня редкая. Нашли, в общем, два сапога друг друга.
Делает ещё глоток.
– Так вот… За всей учебной суетой и пиршеством молодости незаметно пролетел второй год обучения, за ним – третий, четвёртый, а там и пятый подкатил. И вот как-то мы с одногруппниками – исключительно парнями, то есть, – по какому-то вшивому поводу собрались вместе и сидели, опорожняли целый ящик «Анапы». Весело, надо сказать, пили, задорно. Защита диплома скоро, как никак, близилась, и вольные хлеба потом… Хотя, кому вольные, а кому – нет. Я вот от Качканарского ГОКа ведь в Академии учился по направлению. Так что мне вольные хлеба не светили ещё как минимум три года после окончания. А… Ну хотя я не о том…
Ещё раз швыркает горьким чифирем, кашляет в кулак и продолжает:
– Так вот… Весело мы тогда сидели с ребятами, а тут попозже и Саня Кирдяпкин подтянулся. Смурной, правда, весь, как туча над Петрозаводском. Налили мы ему безмерную кружку «Анапы» и дальше все веселиться. И чем дальше, тем веселее всем и безудержнее, а Саня, наоборот, всё мрачнее и мрачнее. И вот примерно через час веселья кто-то спрашивает Саню, который весь уже мрачный, как проводница с тестом на беременность… Спрашивает его, значит, что стряслось, отчего он весь кислый такой?
"Фольксваген" делает ещё глоток чая и заедает ложкой сгущёнки.
– И тут Саню нашего словно прорвало, – продолжает Степан Геннадьевич, слегка вскидывая брови. – После хрен его знает скольких кружек «Анапы» чуть не разрыдался он там перед нами от одного этого вопроса. А потом таки голосом, будто предсмертным, от которого сразу становится понятно, что у мужика на душе тяжесть огромная, Саня нам и говорит, глубоко вздыхая: "Ой, мужики, не знаю, что и делать больше… Столько времени уже прошло, а детей у нас до сих пор нет".
– Это он про себя и супружницу свою говорил, – поясняет Степан Геннадьевич и отхлёбывает чай. – Так вот… Мы сразу к нему с советами душевными кинулись и расспросами всякими. Кто что знает, то и советует, а Женя Семагин говорит, мол, у меня отец – врач как раз по этой части. Обратись, мол, к нему. А потом спрашивает, не застудился ли Саня когда, и как с эрекцией, вообще, дела?
А Кирдяпкин делает непонимающее лицо и спрашивает, мол, что такое, эта твоя эрекция? Женя Семагин по-хмельному серьёзно отмахивается: про «стояк», мол, я. Как стоит у тебя? Проблем нет?
"Фольксваген" по-быстрому несколько раз швыркает чифирем, будто и сам хочет поскорее узнать развязку истории, и продолжает:
– А Саня так в ответ немного выпрямляется, наливается краской, как спелое яблоко, и переспрашивает у Семагина: а причём здесь это? Женя поясняет, мол, во время половых актов никаких трудностей не возникает? Всё ли в порядке?
Лицо Кирдяпкина становится всё менее мрачным и всё более озадаченным. И у нас у всех был просто настоящий ступор, когда Саня спрашивает, недовольно хмуря брови: какие половые акты?…
Степан Геннадьевич на секунду замирает, глядя на тебя с улыбкой и театрально вскинутыми бровями.
– И, в общем, получилось так, что за все четыре года супружества эта тихая парочка Кирдяпкиных ни разу не переспала в самом пошлом смысле этого замечательного слова.
– У них ни разу не было секса, – улыбается тебе «Фольксваген» и швыркает чифирем. – Все четыре года они лишь обнимались и целовались.
Перед сном.
Каждую ночь.
И даже не знали, что такое секс.
Степан Геннадьевич улыбается во всё лицо, а ты пытаешься изобразить искреннее удивление.
И не важно, что ты сам впервые узнал о сексе лишь в пятнадцать лет. Ты изображаешь искреннее удивление.
– Ну а как же эрекция? – удивлённо спрашиваешь ты. Всем своим видом ты показываешь, что в твои двадцать два у тебя уже было хотя бы два десятка женщин. – Во время обниманий и поцелуев ведь должен был «вставать»… Это наталкивало бы на определённые мысли… Да и инстинкт подсказал бы, что там дальше нужно…
Ты говоришь это, а лицо твоё пусть и якобы уверенное, но ты всё же чувствуешь, что оно напряжено со своей маской.
– Определённые мысли у них, конечно, возникали, – усмехаясь, кивает «Фольксваген». – Как только у Кирдяпкина «вставал», и его супружница ощущала Это, соприкасаясь с Ним бедром, так оба тут же, зардевшись, отстранялись друг от друга, отворачивались в разные стороны и, неимоверно стыдясь произошедшего, засыпали…
"Фольксваген" ещё раз швыркает чифирем и заедает ложкой сгущёнки.
– А что касается инстинкта, – говорит он и задумывается, – то очень сомневаюсь, что у людей такой инстинкт есть. Сомневаюсь, что таковое знание присуще человеку от рождения. Априори, как сказал бы Моня Кант.
Он бросает взгляд из маленького окошка каротажной будки на улицу – на огромные размашистые ели и густые стаи комаров прямо за стеклом.
– Если представить себе парня, который был выращен вне всяких контактов с людьми, в изолированном помещении, скажем… Где его через окошечко кормили три раза в день и всё… Этакий Каспар Хаузер, – говорит Степан Геннадьевич и наливает себе уже третью кружку добротного чифиря. – И вот если такого вот хлопца в день его восемнадцатилетия свести с абсолютно такой же девицей, то очень уж сомневаюсь, что он тут ж оседлает её, как ретивого мустанга.
"Фольксваген" опять улыбается и отхлёбывает чай.
– Вообще-то, такой парень даже и ходить-то не будет уметь, поскольку никогда не видел, каким образом ходят люди. Так что ему и в голову не придёт встать на две ноги со своих четверенек… Чего уж и говорить тогда о том, чтобы отпердолить бабу по полной программе?!
И Степан Геннадьевич громко и от души смеётся. А ты сидишь напротив него и по-деловому так, довольно ухмыляешься, будто в твоей половой жизни было уже три десятка женщин.
А была-то лишь Нина Васильевна в девятом классе аж шесть лет назад да Марина уже как три месяца.
Она-то и станет твоей женой ещё через год. Но тогда ты этого ещё не знаешь…
Всего две женщины в твоей жизни. Но в тот вечер в будке каротажного ЗИЛа в глухой тайге под Ивделем в твоей ухмылке – все сорок женщин…
– Секс – такая штука, – говорит «Фольксваген», поглядывая на тучи комаров за окном, – что о нём узнаёшь или от своего старшего брата, или от более шустрых и продвинутых друзей с их старшими братьями. Ну или же узнаёшь о нём путём подглядывания в замочную скважину двери в комнате старшей сестры, которая в момент отъезда ваших родителей на никому не нужную дачу почти выпинывает тебя, салагу, из квартиры и тащит к себе дерзковатого парня из соседнего двора, а ты, испачкав футболку, ненароком тихо возвращаешься домой и слышишь все эти странные звуки из её комнаты…
Отхлёбывает ещё чая.
– И уж поверь, дети из глубоко религиозных семей узнают о сексе, совсем не из Библии, а от всё тех же плохих парней, которым любые запреты чужды… И род человеческий продолжается не благодаря завету Господа "Плодитесь и размножайтесь", а исключительно благодаря людям, которые про бога-то никогда и не слышали… Если бы все были такие, как Кирдяпкин, то давно бы все повымерли. Видать, поэтому интеллигенты на Руси и повывелись как класс…
Тут неожиданно Степан Геннадьевич вскидывает правую руку вверх и вскрикивает, улыбаясь:
– О! Сейчас тебе расскажу, как мы этого Кирдяпкина потом учили, как там и что делается! Слушай, обоссышься!!!
Так что, после всех этих забавных до смешного историй для тебя не стоит вопрос, преподавать ли в школе половое воспитание. Этот вопрос для тебя однозначно закрыт.
Ты лично на своём примере знаешь, каково это – ощущать нехватку информации о столь важном вопросе.
* * *
После того, как ты обнаруживаешь в своих трусах обслюнявленный член, тебе волей-неволей приходится заинтересоваться половым вопросом.
На каждой перемене ты выходишь из кабинета к окну в коридор и делаешь вид, что общаешься с тихим очкариком-заучкой. На деле ты просто слушаешь, о чём говорят опережающие тебя в развитии одноклассники у соседнего окна.
Один из них говорит: слово «дрочить» есть даже в словаре Даля.
Он говорит: и значило оно раньше то же, что и «поднимать», "взбивать".
Это всё рассказывает Коля Смиренко. Почти все познавательные рассказы здесь, у коридорного окна, принадлежат ему.
Немного косишься в его сторону. Ходячая энциклопедия, думаешь ты про него. Ты восхищаешься им. Такой степенный, статный, умный…
Тебе таким никогда не бывать. Даже рядом не стоять.
Максимум – это стоять в двух метрах от него и слушать, как он рассказывает своим друзьям на перемене у окна что-то новенькое и интересное.
Твой очкастый визави Гриша Соловей в этот момент увлечённо, но скромно рассказывает тебе об одной хорошей книге.
Ты киваешь Гришиным словам, а сам слушаешь в двух метрах: был и второй смысл слова «дрочить» – это холить, нежить, баловать, ласкать. Раньше запросто могли сказать "дрочёное дитя".
Ребята рядом с Колей Смиренко прыскают от смеха.
– Но это означало лишь "избалованное дитя", – спокойно улыбается Коля. – Дрочить дитя по головке – значит просто его гладить. Так что, раньше «дрочить» было самым обычным словом. Это только сейчас оно прилипло исключительно к члену.
А Гриша Соловей в это время рассказывает тебе о толстенной иллюстрированной книге под названием «Почемучка», которую мать привезла ему из Новокузнецка.
Ты смотришь на него, киваешь его словам, но всеми силами слушаешь разговор в двух метрах от вас.
Застенчивый Гриша Соловей увлечённо повествует о цветных рисунках зверей в "Почемучке".
Гриша Соловей… Через несколько лет он умрёт от укуса осы, когда проглотит её вместе с куском персика. Укус во внутреннюю область глотки приведёт к интенсивному воспалению, и парень просто-напросто задохнётся, не дождавшись приезда "скорой".
Но тогда, в 1987-ом, ты всего этого не знаешь и попросту позволяешь себе делать вид, что его слушаешь. А сам же ты слышишь: кстати, на американском жаргоне «дрочить» – это «wank», – говорит Коля Смиренко. – И ещё "choke the chicken".
И вот по таким крохам ты собираешь информацию о том, чем твои родители занимались, возможно, всего один раз в жизни.
Всю правду про аистов и капусту…
По разговорам своих соклассников ты понимаешь, что кто-то из них уже имел сексуальный опыт. Это в девятом-то классе. Может, эти парни лишь делали вид друг перед другом, что всё в их жизни уже было, но говорили они о таких вещах, тебе казалось, со знанием дела.
В очередной раз слушая, как кто-то из твоих одноклассников кинул Зинке Прокофьевой три «палки» (тоже новое для тебя слово), ты начинаешь ощущать себя прескверно. Будто ты – это парнишка из школы-интерната для умственно отсталых, вяло плетущийся по шпалам вслед убегающему поезду. На этом поезде несётся в неведомую даль, в светлое будущее всё твоё окружение, все сверстники, а ты неуверенно перешагиваешь щебень между деревянных шпал, бредёшь и эдак глуповато пялишься по сторонам – на кусты рябины, на тополя, на поющих соловьёв… Жизнь несётся вперёд, а ты плетёшься чёрт знает куда и чёрт знает зачем. И плетёшься очень вяло, а надо стараться настигнуть этот уходящий состав.
Но серая мышь от своей норки бегает недалеко.
Внутри тебя столько страхов, что ты даже и не надеешься вырваться из объятий своей серости.
И Маша Брауберг – скромная и умная девочка, всё время тихо сидящая за своей партой – никогда и не узнает, что Витя Стебунов питал к ней нежные чувства.
А не узнает она этого потому, что он серый и зажатый, как останки альпиниста среди булыжников горного завала.
Он прячется от внешнего мира, как и его юношеский прыщавый лоб под его засаленной чёлкой.
Каждый учебный день он стоит с очкариком Гришей в коридоре у кабинета и слушает его рассказы о всякой детской чепухе.
В очередной раз ты стоишь у окна и делаешь вид, что слушаешь повествование Соловья. Он рассказывает о том, как дома уже несколько месяцев ходит в туалет, не включая там свет. Чтобы потом купить себе набор юного химика, он экономит на свете.
Ты делаешь вид, что слушаешь этот бред, а сам стараешься разобрать, о чём на этот раз говорят твои более продвинутые в жизни одноклассники у соседнего окна. Смотришь в окно, которое ведёт в школьный двор, и в этот момент сзади слышишь:
– Стебунов…
Твоё тело невольно немеет от этого властного голоса. Холодная волна прокатывается от кончиков рук к голове и вниз, к ногам.
Тебе даже не нужно оборачиваться, чтобы понять, что за твоей спиной стоит Нина Васильевна.
Как шест, вкопанный в землю, ты медленно проворачиваешься вокруг своей оси, но глаз поднять так и не смеешь.
Нина Васильевна говорит: почему не посещаете мои уроки, Стебунов?
Ты стоишь и молчишь. Ты не знаешь, что ответить.
Не говорить же "Нина Васильевна, поскольку я обнаружил в своих трусах обслюнявленный Вами член, то решил не ходить на литературу и русский"…
Тугой ком подкатывает к горлу, а под чёлкой на прыщавом лбу выступает холодная испарина.
Нина Васильевна смотрит на окно за твоей спиной и говорит: девятнадцать часов прогулов…
Ты стоишь поникший, не в силах поднять глаз, готовый провалиться хоть в Преисподнюю, и ничего не слышишь, кроме Её голоса.




