
Сборник
Бородинское поле. 1812 год в русской поэзии (сборник)

© Гулин А. В., составление, вступительная статья, 2012
© Панов В. П., наследники, иллюстрации, 1984
© Оформление серии, комментарии. ОАО «Издательство «Детская литература», 2012
Поэзия восторга и любви
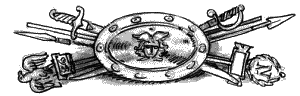
Не столь уж большая по объему книга, которую сейчас держит в руках читатель, полна громадной светоносной силы. Под ее обложкой – стихи очень разных поэтов: прославленных в веках или оставшихся только в истории литературы, а порой даже и тех, кто сегодня совершенно забыт. У каждого из них своя неповторимая судьба. Они принадлежат разным поколениям и нередко разным направлениям в искусстве. Различна мера их таланта. Их поэтический язык в одних случаях близок нашей современной литературной речи, а в других выглядит устаревшим, тяжеловесным, требует определенных усилий для его понимания. Но есть одно, что объединяет здесь таких непохожих художников. Перед нами поэзия, рожденная войной 1812 года – эпохой скорби, утрат, жертвенных подвигов и великого национального торжества, всенародного ликования. Все, кто жил тогда в России, испытали огромный душевный подъем. Поэзия тоже несла в себе этот возвышенный дух. И долго еще по окончании невиданной освободительной войны память о ней продолжала светить русским поэтам, укреплять их в трудные времена, оживлять в душе родные святыни. Потому что сколько бы лет ни прошло с той поры, победа над Наполеоном в 1812 году предельно ясно открывает живому русскому сердцу правду о человеке, о мире, о Родине.
* * *
Русские современники Отечественной войны 1812 года стали участниками и свидетелями небывалых в новой истории событий. Все говорило об этом: вторжение в Россию колоссальной по численности, какой не видел свет, вражеской армии во главе с гениальным полководцем; кровавые битвы на родной земле – прежде всего, беспримерное по своей жестокости и упорству Бородинское сражение, оставление Москвы не только русскими войсками, но и всеми почти мирными жителями; пожар, испепеливший за несколько дней огромный цветущий город… Столь же невиданным, потрясающим воображение, оказался исход войны: страшное отступление, гибель в снегах чуть ли не всех посягнувших на Русь неприятелей, позорное бегство еще недавно всемогущего их предводителя… Всего за шесть месяцев наша страна побывала на краю гибели – и поднялась до вершин своего могущества, одержала грандиозную всемирную победу. В ближайшие за этим полтора года Россия освободила пленную Европу, окончательно – при поддержке освобожденных народов – сокрушила казавшуюся непобедимой наполеоновскую Францию. Наши войска вошли в Париж.
Между тем этот поистине чудесный ход событий стал воочию зримым выражением духовного чуда, которое совершилось в потрясенном русском мире 1812 года. У писателей того времени иногда встречается словесный оборот «воспламенение сынов Отечества». Часто, стремясь передать испытанное всеми духовное состояние, они говорили: «восторг». В нашем современном обиходе это слово почти утратило свой изначальный смысл. Мы не задумываясь называем так любое, часто мелкое, но радостное для нас переживание. А для русских людей начала XIX века восторгаться – значило подниматься над суетой и страстями грешного мира, прикасаться к Вечности, созерцать Бога и его промысел о нас, мыслить и чувствовать в духе Божием. Конечно, в любой день и час русской истории стремление ввысь не покидало наших соотечественников. Православная вера веками окрыляла многих из них. Но 1812 год стал эпохой всенародного восторга. Он вырвал человека из пут повседневности, воззвал к небесному в его душе, очистил в нем образ Божий. Самый знаменитый русский поэт XVIII века Гаврила Романович Державин, переживший на склоне лет великую войну с Наполеоном, писал тогда:
Восторг пленит, живит, бодрит
И тлен земной забыть велит.
Юный Пушкин в том же духе говорил о русских воинах, вставших на защиту Родины:
За строем строй течет, все местью, славой дышат,
Восторг во грудь их перешел.
И он же, обращаясь много лет спустя к праху Михаила Илларионовича Кутузова, победителя Наполеона в 1812 году, напишет: «В твоем гробу восторг живет!»
А Петр Андреевич Вяземский, вспоминая о своем участии в битве при Бородине, будет рассказывать: «Не только мое частное, неопытное впечатление, но и общее мнение было, что Бородинское сражение нами не проиграно. Все еще были в таком восторжен ном настроении духа, все были такими живыми свидетелями отчаянной храбрости наших войск, что мысль о неудаче или даже полуудаче не могла никому приходить в голову».
Русский восторг 1812 года, пожалуй, до сегодняшнего дня остается единственным в народной судьбе последних веков по чистоте, силе и христианской определенности душевных устремлений. Писатели и поэты того времени вместе со всем народом испытали самое праведное воодушевление. Они увидели свое Отечество, исторические пути мира и человека так ясно, как никогда прежде. Увидели не по отдельности, а сразу. Увидели в себе и вокруг себя. То, что давалось их потомкам огромными усилиями, что требовало впоследствии глубокого анализа, сосредоточенного «всматривания» в действительность, открылось очевидцам событий Отечественной войны 1812 года в живом непосредственном опыте. И задача литературного творчества состояла для них не столько в том, чтобы выявить те или другие ценности национальной жизни (это сделала сама эпоха войны с Наполеоном), сколько в том, чтобы назвать, провозгласить и утвердить все самое бесспорное в народной судьбе.
Литературная полемика, столь обычное и даже непременное явление в русской культуре XIX столетия, на протяжении 1812 года и нескольких лет, наступивших вслед за ним, совершенно исчезла. Национальный мир на короткое мгновение слился «в одну душу», и русская литература испытала такое же единство. Последователи художественных направлений той поры: классицизма, сентиментализма, набирающего силу романтизма, оставили на время былые споры. Замолкли общественные, идейные разногласия. И разве можно было думать об этом в такой момент, на такой вершине! Конечно, приверженность тому или иному литературному направлению, гражданские убеждения и склонности, особенный строй личности в те годы по-прежнему напоминают о себе в творчестве каждого писателя и поэта. Но куда важнее другое: все они стремятся высказать по-своему одну истину, живут общими мыслями и чувствами. Само художественное совершенство оказывается хотя и важнейшим, но далеко не единственным достоинством написанного. Не менее важно то, насколько произведение созвучно народному духу. Этот всеобщий характер, эта сила переживания всегда таковы, что художнику или публицисту непременно требуется говорить как бы со всеми сразу, обращаться ко всей нации. В прозе 1812 года всеми красками расцветает риторическое начало: пишутся воззвания, обращения, послания, манифесты. Звучат необыкновенно яркие для того времени церковные проповеди. Но и поэты, в каких бы жанрах они ни выступали, тоже, как правило, взывают ко всему русскому миру или даже к целой вселенной.
В этом общенародном прозрении, стремлении слить свое слово с душевным порывом всей нации участвуют Державин и Капнист, Карамзин и Вяземский, Жуковский и Батюшков, Федор Глинка и Милонов, совсем юный Пушкин, еще десятки больших и малых творцов.
Люди 1812 года сильнее, чем это бывает обыкновенно, испытывали чувство, что происходящие события совершаются не только на земле, что здесь через явные признаки человеку дано созерцать волю Всевышнего.
Что се? Стихиев ли борьба?
Брань с светом тьмы? добра со злобой? —
риторически, в духе времени, спрашивал Державин. Мысль о дьявольском покушении на самые основы жизни, на самого Творца, о русской победе как новом, невиданном торжестве Божественной правды часто, хотя и не всегда, звучала у поэтов – современников великой борьбы. И кто же еще должен был попытаться высказать ее развернуто и масштабно, если не сам Державин, написавший в XVIII веке классическую духовную оду «Бог», вечно стремившийся проникнуть словом в сокровенные тайны мироздания? Приведенные ранее строки взяты из написанного поэтом в 1812–1813 годах «Гимна лироэпического на прогнание французов из Отечества». Одно из самых выразительных мест державинского «Гимна…» – аллегорическое изображение наполеоновской угрозы, которая нависла над миром.
Открылась тайн священных дверь!
Исшел из бездн огромный зверь,
Дракон иль демон змеевидны;
Вокруг его ехидны
Со крыльев смерть и смрад трясут,
Рогами солнце прут;
Отенетяя вкруг всю ошибами сферу,
Горящу в воздух прыщут серу,
Холмят дыханьем понт,
Льют ночь на горизонт
И движут ось всея вселенны.
Бегут все смертные смятенны
От князя тьмы и крокодильных стад.
У многих современных читателей эти стихи могут вызвать недоумение и своим очевидно устаревшим русским языком, и чуть ли не до последней крайности «сгущенными» красками. Но ведь нас при этом нисколько не удивляют былинные сказания древности о русских богатырях, которые побеждали Змея Тугарина, Соловья-разбойника и другие порождения ночной тьмы! Конечно, торжественный гимн, созданный по очевидному историческому поводу, – не фольклорное произведение. Однако и здесь и там идет речь о чудовищных силах, которые хотят погубить христианский мир, грозятся уничтожить весь белый свет. Язык державинского «Гимна…» часто архаичен даже по сравнению со знаменитыми, намного раньше написанными одами великого поэта. Но тут говорится о вещах, явно превосходящих человеческое разумение, для них требовались такие же особенные слова и сочетания слов. Картина действительно получилась единственной в своем роде. И перед нами не только традиционная для поэзии классицизма аллегория. Своими выразительными образами Державин хочет открыть нашему взгляду самую подлинную духовную реальность происходящего. Он постоянно помнит Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис – евангельскую книгу, с наибольшей полнотой предвещающую неизбежный приход конца света.
Французская революция конца XVIII века принесла с собой огромные потрясения. «Чему, чему свидетели мы были!» – восклицал годы спустя изумленный Пушкин. «Тьма покрыла запад, – говорил московский архиепископ Августин (Виноградский). – Народ, который паче прочих хвалился мудростью, объюродел. Отрекся Творца своего, опроверг Его алтари и возвестил Вселенной нечестие и безбожие».
О том же в духе отеческой проповеди напишет и Державин:
О новый Вавилон, Париж!
О град мятежничьих жилищ,
Где Бога нет, окроме злата,
Соблазнов и разврата;
Где самолюбью на алтарь
Всё, всё приносят в дар!
Революционеры и в самом деле покушались начать новую, безбожную эру в истории человечества. Совсем не случайно они закрыли и осквернили во Франции чуть ли не все католические храмы, заменили традиционное для Европы летоисчисление от Рождества Христова новым революционным календарем, по которому их страна жила десять лет! Это означало, прежде всего, отречение от христианских нравственных законов. Тут же, как будто выпущенные незримой рукой, вышли на волю всевозможные страсти, искушения, соблазны. Свобода греха, равенство вседозволенности, братство в этом общем падении стали божествами новой эпохи. И как воплощение безумных энергий века сего явился миру «маленький корсиканец» Наполеон Бонапарт.
Все было неподлинным, ложным в той реальности, которую несли с собой его полки: самозваный император, самозванцы короли, герцоги, князья, лукавые понятия о чести, величии, славе, о смысле и ценностях человеческой жизни. Империя, возникшая из крови и тьмы Французской революции, представляла собой какую-то огромную, стремившуюся воплотиться в жизнь иллюзию, до времени торжествующий обман, подлог. Для современников было очевидно, что Наполеон покушается на весь духовный строй русского народа, стремится завладеть не только землями, но умами и сердцами. Вражеская сила в 1812 году действительно была страшна и огромна. «Против чрезвычайно го, – писал прозорливый наблюдатель, – надобно найти средства чрезвычайные, крайность крайности противопоставить должно. Стезями неведомыми, средствами неслыханными надо сражаться против того, что невиданно, неслыханно».
Источником сопротивления Наполеону стала сама Русская земля, ее прекрасный и древний уклад: неомраченная вера, строгая православная государственность, утверждение истины, добра в больших и малых делах – жизнеутверждение. «Чрезвычайной» оказалась только сила русского прозрения, очищение в каждом из участников событий вечных ценностей национального мира. И чем страшнее подступала опасность, чем меньше оставалось надежды на спасение, тем глубже было прозрение, тем сокрушительнее становился отпор. Главное сражение войны – Бородинская битва вознесла ход событий на огромную, трудно постижимую высоту.
«Битва», «сражение», «баталия» – ни одно из этих слов не передает истинного смысла того, что происходило у села Бородина 26 августа (по современному стилю – 7 сентября) 1812 года. Да, конечно, было сражение. Но и нечто неизмеримо большее, чем сражение. Русские участники этого события даже годы спустя с трудом находили слова, чтобы передать трудно выразимое, но испытанное всеми чувство прикосновения к чему-то величественному, имеющему высший смысл. Конечно, было налицо столкновение в открытом бою двух армий: русской и французской. Но прежде всего было противоборство духовных начал, питающих каждую из них. Именно эти вечно враждебные начала, сопричастные одно – свету, другое – тьме, арена битвы для которых и сердце человеческое, и весь мир, сошлись в смертельной схватке на Бородинском поле в ста с небольшим верстах от Москвы. Предельно простой и откровенный смысл происходящего (сгущение тьмы и ответное слияние света) явил себя в таком же простом и откровенном образе действий. «Механизм этой битвы, – говорил ее участник Федор Глинка, – был самый простой. Наполеон нападал, мы отражали. Нападение, отражение; нападение, опять отражение – вот и всё! Со стороны французов – порыв и сила; со стороны русских – стойкость и мужество». И каждый из участников противостояния вложил в эту словно самую последнюю схватку все упорство, на какое он только был способен.
Главное оружие писателя не ружье, не сабля, не пушка. Оружие писателя – слово. Оно бывает иногда пострашнее врагу, чем любые изобретенные человеком орудия смерти. Но в 1812 году (это повторится и в Великую Отечественную войну 1941–1945 годов) стремление писателей вместе со своим народом участвовать в общей борьбе, жертвовать собой за Отечество на поле боя было исключительно велико. В творчестве Константина Николаевича Батюшкова даже прозвучала тогда тревожная мысль о том, что поэт не вправе браться за перо при виде моря зла, которое разливается по родной земле, что поэзия и жуткая действительность непримиримы: нельзя вернуться к поэзии, пока с оружием в руках не отомстишь «на поле чести» разорителям, осквернителям своей земли. Впрочем, эта мысль тоже высказывалась поэтически, в полном горечи и праведного гнева против захватчиков стихотворном послании «К Дашкову». Просто то была совсем другая поэзия: обожженная московским пожаром и страшной истребительной войной.
Сам Батюшков, который участвовал в кампаниях против Наполеона и прежде, теперь снова пошел на военную службу. Некоторые из русских поэтов того времени: Федор Глинка, Денис Давыдов, Сергей Марин – были профессиональными военными, их патриотический порыв оказался неотделим от воинского долга. Но в составе русской армии находились и такие в прошлом сугубо мирные люди, как Петр Андреевич Вяземский и Василий Андреевич Жуковский. Судьба привела их – каждого своей дорогой – в день сражения на Бородинское поле. Жуковскому предстояло написать и самое знаменитое произведение в литературе той эпохи.
Сознание страшной опасности, которая нависла над страной, побудило поэта, к тому времени широко известного романтическими элегиями и балладами, в невысоком чине поручика поступить летом 1812 года в Московское ополчение. 26 августа вместе с ополчением Жуковский оказался при Бородине. Как ни велико было стремление ратников-добровольцев участвовать в бою, русский главнокомандующий Кутузов понимал, что им трудно будет сражаться на равных с хорошо обученным неприятелем. Ополчение берегли до последней крайности, и только небольшая его часть была введена в сражение. Жуковский и его сослуживцы весь день стояли в резерве. Но, конечно, поэт еще накануне не мог знать, как сложится с рассветом его судьба. Наверняка вместе со всеми он готовился к смерти. И потом, когда битва началась, очевидно, все-таки не переставал ждать своего часа. До того места, где находились ополченцы, тоже долетали французские ядра, а впереди, совсем рядом, кипело страшное побоище. Жертвенный подвиг, восторг и ужас Бородинского дня – все это стало для Жуковского непосредственным сердечным переживанием.
После великой битвы поэт видел оставление русскими Москвы. Вместе с отступающей армией Кутузова он очутился в укрепленном лагере у села Тарутина в Калужской губернии, где наши войска набирались сил для новых боев с Наполеоном.
Это были самые скорбные недели войны, когда никто не мог знать, что случится дальше. Наполеон находился в сердце России, в городе русских царей, любимом городе Жуковского. Казалось, невиданной силы пожар, бесчинства завоевателей навсегда уничтожили Москву. И в это время неведения, мучительного ожидания будущих событий Жуковский совершил свое главное в 1812 году патриотическое дело. В Тарутинском лагере он написал большое стихотворение «Певец во стане русских воинов». Позднее поэт не раз его дорабатывал, но все самое значительное появилось тогда, в Тарутине, раз и навсегда.
Еще до того, как стихи Жуковского были напечатаны, они разошлось во множестве списков в армии и по стране, их помнили наизусть. Русским читателям, военным и гражданским, был так необходим этот молодой звучный ободряющий голос, раздавшийся в невыносимо тягостную пору! Основной всплеск поэтического творчества эпохи еще не наступил: он пришелся на самый конец войны и победные 1813–1814 годы. Но Жуковский, опережая многих своих современников, с необычайным талантом сумел высказать то, чем дышали в наступивший грозный час и русский мир, и русская литература.
В основе стихотворения – вполне условная картина: певец посреди воинов с кубком вина, раз за разом прославляющий в ночь перед боем народные жизненные ценности; воины, снова и снова, прежде чем осушить свои кубки, повторяющие вслед за ним последние строки огненных речей. Конечно, художественные вкусы начала XIX века были не похожи на те, что сложились десятилетия спустя. Скажем, среди современников 1812 года имели большую популярность живописные и скульптурные аллегорические изображения представленных античными воинами французов-галлов и русских. Однако условность «Певца во стане русских воинов» – это не только следование эстетике своего времени.
Жуковский нашел удивительную форму для поэтического выражения народного единства. Стихотворение начинается воспоминанием о битве уже отгремевшей и заканчивается прощанием перед наступающим новым сражением. В нем словно звучит память о Бородине в ожидании еще неведомого смертного боя. Но все же перед нами не только известные боевые схватки, а вся война с Наполеоном, весь ее жар, весь порыв. Глас народа – певец обращается к товарищам по оружию. Но его воззвание больше – это призыв ко всей Русской земле, призыв национальный. И точно так же весь народ, вливая новые силы в душу певца, голосами воинов откликается на прозвучавшие слова. Восторг поэта и народный восторг почти зримо соединяются. А еще картина невольно пробуждает в памяти древнего певца Бояна, воодушевлявшего русских бойцов на подвиги. Настоящее и прошлое, потомки и предки здесь тоже едины.
Поэты 1812 года в своем творчестве, как правило, не касались по отдельности разных сторон бытия. Во всем, что они пишут в то время, происходит не рассеяние лучей, но их слияние; свет падает прямо и ровно, единым снопом, открывая взгляду только наиболее существенное. В самых значительных стихотворениях эпохи Державин, Карамзин, Батюшков, Пушкин да и многие другие авторы каждый раз собирают вместе весь круг национальных и мировых вопросов, говорят по-своему, но всегда об одном.
«Певца во стане русских воинов» отличает и в этом смысле удивительная стройность. Сначала у Жуковского заходит речь о русской истории («Сей кубок чадам древних лет!»), воспеваются славные полководцы прошлого: князья Святослав, Дмитрий Донской, царь Петр I, Суворов. Память о великих предках действительно оказалась в 1812 году самой живой, необходимой, действенной. Затем прославляются родная земля («Отчизне кубок сей, друзья!»), русская держава («Тебе сей кубок, русский царь!») и русская армия («Сей кубок ратным и вождям!»).
Но, последовательно прославляя основы национального мира, Жуковский всегда остается самым вдохновенным творцом. Его стихи – легкие, звучные, крылатые. Такой свободной, искренней поэзии, в том числе поэзии о войне, Россия до той поры не знала. В ней постоянно живет лирическое начало. Даже и гражданские ценности Жуковский прославляет, на удивление, тепло, сердечно. И конечно, он не был бы самим собой, если бы не воспел сокровища частной жизни человека – это дружба («Святому братству сей фиал») и любовь к единственной избраннице («Любви сей кубок полный в дар!»).
Русская литература только что ушедшего XVIII века часто утверждала мысль о высоком предназначении художника. Сердечное озарение 1812 года заставило поэтов переживать ее как непреложную истину. Жуковский с неслыханной до того смелостью среди других великих достояний своего народа славил поэтическое творчество («Сей кубок чистым музам в дар!»).
И наконец, названа величайшая ценность в жизни России, которая рождает, соединяет и покрывает собой все, о чем говорилось до этого, – русская вера и ее святыни. Во славу Божию единственный раз поднимается у Жуковского, и поднимается с коленопреклонением, не кубок, не фиал, а чаша. Перед нами – итог и вершина произведения.
Подымем чашу!.. Богу сил!
О братья, на колена!
Он искони благословил
Славянские знаме́на.
Бессильным щит Его закон
И гибнущим спаситель;
Всегда союзник правых Он
И гордых истребитель.
О братья, взоры к Небесам!
Там жизни сей награда!
Оттоль Отец незримый нам
Гласит: мужайтесь, чада!
Нет ничего удивительного в том, что поэтическое воззвание Жуковского укрепляло и вдохновляло современников Отечественной войны. Его живительная энергия передается и нам два столетия спустя. «Певец во стане русских воинов» – это меньше всего военный клич, призывающий истреблять врагов, хотя и такие призывы были бы тогда вполне объяснимы. Но здесь так просто и естественно соединились твердая решимость, боевой дух и мягкость, душевная отзывчивость! Эти стихи излучают великую любовь. Да и невозможно представить себе подлинный восторг, не одушевленный заповедями Христа о любви к Богу и к ближнему. Вот эта небесная, эта братская любовь, ясно осветившая русский мир, и оказалась тем «невиданным, неслыханным», что остановило в 1812 году бешеный натиск вражеских полчищ, уничтожило потерявшую память о Боге армию «двунадесяти языков».
Стихи Жуковского призывали соотечественников во всем, что бы ни происходило с ними, хранить «доверенность к Творцу». Для большинства русских эти слова звучали в то время как никогда внятно. Десятки тысяч наших воинов пали при Бородине в неколебимом стоянии за Истину, за Русь, за свою древнюю столицу. Но хотя колдовская сила наполеоновских полчищ была надломлена, человеческие возможности к их отторжению казались порой уже исчерпанными.
«Неизменна воля Свыше Управляющего царствами и народами, – говорил Федор Глинка, видевший последние часы старой Москвы. – В пламенном, сердечном уповании на Сего Правителя судеб россияне с мужественной твердостью уступили первейший из градов своих, желая сею частною жертвою искупить целое Отечество». Сорокадневный московский плен – пора невиданной духовной брани, в которой уже не сила укрепленного Истиной оружия, но сама Истина окончательно сокрушила неправых.
Москва не была сдана. Наполеон не дождался ее ключей. «Москва оставлена», – говорили современники. То есть оставлена, вверена не владыкам земным, а Самому Творцу. Захватчики, упоенные мечтами о всемирной власти, с первого взгляда на открывшийся им великолепный город испытали (как видно из десятков позднейших воспоминаний) ни на что не похожее чувство. Все, чего могла желать человеческая гордость, казалось, нашло тут свое осуществление. «Гордые тем, что мы возвысили наш благородный век над всеми другими веками, – описывал это мгновение граф Филипп де Сегюр, – мы видели, что он уже стал велик нашим величием, что он блещет нашей славой».
Когда читаешь эти строки, легко поверить, что в Москве находилась и конечная цель, и тайный смысл всех революционных, всех наполеоновских завоеваний. А между тем Высшая Правда уже сбывалась над этим таким горделивым, таким самоуверенным триумфом. Военная добыча, приз, короткая утеха суетному честолюбию, Москва обретала в ее земном попрании свои нетленные, от века непопираемые черты. Преданная поруганию, расцветала иной, небесной жизнью, ни в чем не подвластной ее захватчикам. Что бы ни вызвало великий московский пожар (неосторожность наполеоновских солдат, разводивших бивачные костры вблизи деревянных строений, действия безвестных русских поджигателей, другие, вполне вероятные в тех условиях необычные обстоятельства), его последствия явили миру до сих пор невиданное торжество вечных нравственных законов. Русские смиренно оставили Москву – и победили. Французы гордо вступили в Москву – и были повержены.


