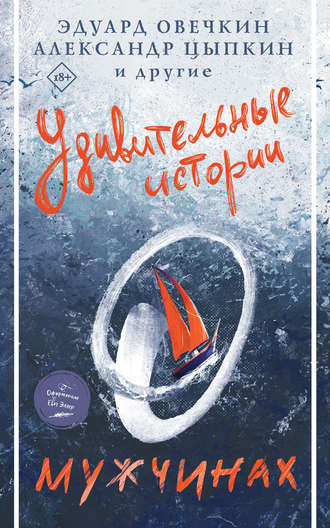
Сборник
Удивительные истории о мужчинах
Александр Мазин
Страх
История эта странная, а верней было бы сказать, – жуткая, случилась со мной на земле, называемой собирательно – «Сибирь». В детстве я думал, что вся она сплошь заросла дремучим лесом и обитают в нем мощнобородые широкоскулые великаны, кладущие на день не более десятка слов.
Однако в поселке, давшем мне недельный приют, когда, заработав деньжат, решил я передохнуть перед возвращением в Питер, такой бородач был только один. Прочие – помельче. В большинстве – горькая пьянь. Что же до тайги, то вокруг была плоская, как стол, равнина на добрую сотню километров окрест.
Обителью моей стал домик-пятистенок из тесаных бревен с острой, красной, как петушиный гребень, крышей. Дом этот, расположившийся в дальнем углу обширного подворья, был с любовью и мастерством сложен хозяином моим, Алексеем Евграфовичем Гречанниковых, деревянных дел умельцем. Он-то как раз и был тем единственным в поселке саженной ширины великаном, немногословным, нежадным и, как узнал я вскоре, весьма азартным.
А узнал я это, когда ежевечерне стал бывать в его хоромах, где он и еще двое местных играли в редкую для этих краев игру – преферанс.
Я стал четвертым.
Одного из местных звали Семеном. Человек тертый, злой, с хищной щербатой улыбочкой и переломленным носом. Когда Семен сцапывал карты широкой татуированной лапой, то непременно что-нибудь приговаривал по случаю.
Второй, Саёныч, представившийся мне Игорем, оказался из пришлых. Интеллигент, пьяница горький, сбежавший (из Питера, кстати) от жены и осевший здесь у какой-то своей надцатой тетки-бабки. Именно он научил двух других столичной умной игре.
Обходительный в разговоре, с лицом хоть и траченым временем, но не лишенным еще тонкости черт, с мягким, добрым голосом – он, определенно, располагал к себе. Во всяком случае – меня. Об Алексее Евграфовиче Гречанниковых я уже говорил. Впрочем, Алексеем Евграфовичем его никто, кроме меня, не величал. Звали попросту Лёхом. О его рисковости я уже говорил. Объявить мизер при двух пробоях для Гречанниковых – обычное дело. Проигрывался он так, что остальным трудно было не быть в плюсе. Зато уж если шел Алексею Евграфовичу фарт – держись! Всех раздевал.
Гречанниковых обычные эти проигрыши не огорчали: играли по маленькой, денег у него было – в избытке. Плотник, охотник, всякому делу – мастер. Да и на что их тратить в поселке?
Была у Алексея Евграфовича дочка. Настасья. Девушка лет двадцати, справная, высокая – в отца. Жили они вдвоем в просторном доме у самого края поселка. Через забор от той избы, что Гречанниковых мне сдал. Знатный дом. Дворец! Мебель самодельная, резная, с придумками. На стенах – шкуры: волчьи, росомашьи… А у тахты – медвежья, густющая, с мордой огромной, оскаленной. Я всегда, как глядел на нее – думал: вот бы босиком пройтись!
Не дом – хоромы!
И хозяйство богатое. Одних только лошадей – три головы.
А дочь вот – незамужем. По здешним понятиям Настасья уже перестарок. И с чего бы? С нее хоть статую «Краса Сибири» ваяй. И скромна.
Вот даже питуху нашему, интеллигенту Саёнычу, Настя явно по нраву была: то и дело глаз на нее скашивал да слюну глотал. Но скромничал. Разве что улыбнется или, кашлянув, пошутит деликатно.
Надо думать, отца ее опасался.
Семен как-то, проигравшись и злясь, ляпнул: мол, слава о ней дурная идет. Но не за распутство.
Ляпнул – и осекся. Зыркнул по сторонам: не слыхал ли кто, лишний? Но никого, кроме меня, рядом не было. А я что? Случайный человек. Поживу и уеду. Не сосед по жизни, а попутчик.
Однако, интерес мой к Настасье Семен пробудил.
Когда мы садились играть, она обычно рукодельничала. На нас если и глянет, то украдкой. Сама ни с кем не заговаривала, отвечала кратко. Ничего такого особо нехорошего я в ней не приметил.
Хотел в поселке недельку пожить да задержался. Хорошо здесь. И не сказать, почему, но – хорошо. Покойно и свободно. Днем я гулял или читал. Вечером – играл. У Лёха. Да где ж еще? Саёныч? Дома своего нет: угол у хворой бабки. Семен? У него дом есть, да в доме том – семенова жена. Злая, как росомаха. А у Гречанниковых жены нет. Умерла.
В тот вечер играли мы скучновато. Карта не шла никому. Даже Лёх объявлял без обычного азарта – о другом думал, видно. Завтра он уезжал. Охотничий сезон начинался. Так что сядет завтра Алексей Евграфович на свой мотоцикл с коляской, лайку вместо пассажира пристроит – и по длинной дороге, в тайгу.
Игра не шла – и я глядел по сторонам больше, чем обычно. Вот комод, вот шкура серая распяленная. Вот лайка Лёхова у порога спит. Вот…
И поймал случайно взгляд девушки. Особенный взгляд, со значением. Аж мурашки по спине побежали. С чего это она?
Я, чтоб дураком не выглядеть, улыбнулся ей. И к моему удивлению, она ответила, да так широко, во весь рот. Я, что таить, обрадовался. И обеспокоился: Лёх завтра уезжает.
К женщинам меня нынче особо не тянуло. На заработках подружка у меня была бойкая. Слишком бойкая, если учесть, что не баклуши бил, а вкалывал по десять часов.
А все же…
Тут потекла ко мне карта и я о Насте забыл. Игра началась. А потом мизер пришел. Без прикупа. И еще. Пуля моя за тридцать перевалила. Пошел других закрывать. Оно так: уж если идет пруха, так идет! Доиграли. Уравняли. Посчитали-рассчитались. И к Лёху в баньку пошли.
А ночью, на простынке чистой ворочаясь, вспомнил я о Настенькином взгляде…
Утром хозяин разбудил меня рано: попрощаться. Сколько б я у него ни задержался – ясно: не на два месяца. Обнялись по здешнему обычаю, даже расцеловались. Пожелал ему, что следует. Он меня послал. Еще разок обнялись (Лёх, хоть и силы медвежьей, соразмерял – чтоб кости не хрустнули). Я его вправду полюбил за эти дни: вот человек, о котором худого не скажешь!
Настасья, после меня, с отцом почеломкалась. Лёх сел на мотоцикл, лайку в багажник посадил и запылил через поселок. Настасья – в дом. Я – на озеро. Справа и слева – поля. Небо белое, низкое, плоское над плоской землей широченной. Солнышко приятным теплом на груди. Чудо как хорошо!
Вода в сентябре холодна. Особенно с утра. Но я взял за правило: плавать, пока жар на коже не станет жаром внутри. Уж тогда вылезал.
Позавтракал я молоком с белым мягким хлебом и пошел гулять. Шататься по окрестностям, сощипывать терпко-кислые ягоды дикой облепихи, шевелить ногами траву. Левый берег озера сплошь зарос мягкими высокими травами. В ботанике я несилен – названий не знаю. Но поваляться – люблю. Руки разбросать, распластаться: сверху – небо с облаками, вокруг – эта самая трава. Насекомые жужжат. Иногда прошуршит рядом кто-то живой…
Прошатался я в тот день почти до вечера. Проголодался. Поесть бы, но… Прежде я у Лёха столовался. Сейчас – как-то неудобно. Без хозяина. Решил кое-что записать для памяти да к Семену сходить. Жена у него хоть и злая, но голодным не отпустит.
Только сел к столу – стук в дверь: Настя пришла.
– Что ж вы, Валя, кушать не идете? – с укоризною.
– Ах, – говорю, – Настенька! Совсем забыл!
Не поверила. Голову наклонила, улыбается.
Повечеряли вдвоем. А за чаем с пирогом брусничным Настя меня разговорила. Незаметно. Я ведь как решил: поем – и сразу уйду. Нечего на девушку тень наводить! А тут разлился соловьем. Снаружи уже звезды высыпали, а я сижу, чаек потягиваю, в глазки широко открытые гляжу, языком плету. Чем бы закончилось – Бог ведает. Да постучали в окошко. Партнеры мои пришли: Семен с Саёнычем. Играть. Преферанс – дело такое: хоть вчетвером, хоть – втроем. Сунулись ко мне – нету. Ну и – на огонек.
Без Лёха игра как-то свободней пошла. Партнеры мои оживились. Семен в игре наглеть начал. Саёныч вдруг ни с того ни с сего разошелся: как его женщины любят! Что же, может и любят. Лицо иконописное. Бородка светлая. Руки хорошей формы. Только ходят ходуном и чистоты не первой. А что бедолага – так это ему в женских глазах только шарму прибавляет: не понятый жизнью человек.
– Игорь, – говорю, – тебе сколько лет?
Зыркнул исподлобья:
– Тридцать восемь! А что?
На вид – старше. Соврал, или хмельная жизнь поизносила? И опять: про женщин, про крутизну свою. Я молчу: тема скользкая. Запросто человека обидеть можно. А вот Семен молчать не стал: начал дразнить да подзадоривать. Язык у Семена едкий, злой. Глаз цепкий. А тут еще проигрыш. Да и Саёныч его побаивается – чего стесняться?
– Бабник, – говорит, – а что ж ты дешевым котом вокруг Наськи ходишь? Как подступить не знаешь? Аль Лёха боишься?
– Боюсь! – говорит. – Он ведь добрый-добрый – а убьет! Или жениться заставит…
– Так и женился бы! – и мне подмигивает. – А то вот Валек опередит!
– А правда, – говорю. – Что б тебе, Игорь, не жениться? Девушка славная…
Здесь, как в старину – двадцать лет разницы – не препона.
– Ха! – Саёныч подергал себя за бородку, а потом нашелся: – Глаз у нее дурной!
– Ум у тебя дурной! – отрезал Семен и опять мне украдкой подмигнул. – Кто тебе наплел?
– Да все! Бабка моя…
– Ща! Бабка! Значит так, Саёныч: Лёха нет. Вернется сам знаешь когда. Вот и карты тебе. Струсишь – нет тебе больше моего уважения!
– Да она меня пошлет!
– А не пошлет – с меня пузырь! Давай, Саёныч! Что кота за яйца тянуть? Как считаешь, Валёк? Или сам на глазок взял? Видали, как ворковали?
– Хорош болтать! – говорю. – А тебе, Игорь, если девушку обидишь…
Оба они так и покатились.
– Сказал! – проговорил Семен, отсмеявшись. – Да она одной рукой Саёныча в узел завяжет, а другой козлинку ему причешет! Обидишь! Ха-ха! Давай, Саёныч, не брызгай! Пошли!
– Ну и валите! – говорю. – А я спать лягу!
– Спи, бугор! У тебя, небось, баб – шестью руками не перемять!
И принялся собирать карты. Сегодня он проиграл. Немного, рубля два. Но – считать не стали. Саёнычу – до того ли? А мне наплевать. Словчил человек – да и Бог с ним! Моих там – копеек шесть.
Так и уснул. И нисколько, клянусь, не ревнуя!
Уснул – проснулся. Как всегда: на озеро. Воротился, умял полбуханки хлеба с молоком теплым и опять ушел.
Побродил часа три – что-то мне не в кайф. Бывает, знаете, мучит что-то, свербит, а что – не поймешь. Воротился в поселок. Чувствую: неладно. Иду по улочке – навстречу никого. Но во дворах – недоброе какое-то шевеление. Пришел к подворью Лёхову, калитку отворил – Настя. Мимо. На улицу. И тоже: ни «как погулялось?», ни улыбки даже. Зыркнула и отвернулась.
Вот тут мне совсем неуютно стало, хотя вины за собой не знал.
«Должно быть, – рассуждаю, – Игорь с Семеном что-то натворили, а мне – за компанию».
Пришел к себе… Семен!
Да такой, что мне худо стало: как на десять лет мужик постарел!
На столе – водка. Пустая почти бутылка. Глянул на меня: глаза красные, несчастные, как у собаки больной. И трезвые.
– Что ж ты, – говорю, – сам с собой водяру жрешь?
А он встает, берет молча из буфета второй стакан, еще один пузырь из сумки своей вытаскивает:
– Помянем, – сипит, – души грешные Игоря и Семена! – наливает по ободок и разом стакан опрокидывает.
– Ты что, – говорю, – охренел? Ты ж живой!
А потом смекнул, взял его за шкирку:
– Эй! Что с Саёнычем?
– Мертвый! – бормочет. – И я мертвый! Кончено. Кранты. Пей!
Думаю, спятил.
– Не буду я пить! – рычу. – Что ты такое мелешь?
– Правду!
Посмотрел злобно и тоскливо, взял стакан и выпил, как воду пьют: в три глотка.
– Нету Саёныча! – и всхлипнул.
– Как – нету?
– Не… не знаю… – и, рассвирепев вдруг: – Медведь задрал! В доме! И его, и бабку! Понял?!
И заревел.
Дико так: мужик – плачет! Самому разнюниться впору. Так меня это поразило, что про Саёныча я сразу и не понял. А когда понял, сам не заметил, как свой стакан опростал.
Сел с Семеном рядом, обнял его, к себе развернул:
– Сам, что ли, видел?
А он мне, с яростью:
– А то как же! Хошь – и ты пойди, полюбуйся! Из района еще не приехали, не забрали! – И, поспокойнее: – Я ж его и нашел! Иди, погляди, коль интересно! Медведя видал?
– Ну! – говорю. А сам: как будто издали. Как будто – в стороне. Не я, а кто-то другой сидит на лавке, выспрашивает…
– Ну?
– Вот те и «ну»! Пришел я к нему, верней, ко двору бабкиному, вижу: забор за домом – в щепы, а в огороде – следы медвежьи. Огромные! От самого крыльца. Я в дом. А там… – помолчал. – От Саёныча, считай, одни куски остались… В кровище все… У бабки нутро выедено, скальп содран… Слыхал, как медведь бьет? То-то! Как глаза закрою – так все и стоит! Валька! Налей, корешок! Выпьем за душу грешную!
Смотреть я не пошел. Вы бы, думаю, тоже не пошли. И ужинать, ясное дело, я тоже не пошел. Так сидели. Пили. А уж с третьей бутылки Семен поведал, что довел-таки вчера Саёныча до заветной двери. А как тот постучал да впущен был – ушел. Может, Настасья выставила его через минуту, может – ночевать оставила. Это уж только она теперь и знает.
Стало мне ясно, отчего она сегодня мимо меня смотрела. Шутка ли? Только был у тебя человек, а теперь говорят: нету его! Медведь задрал…
Мерзко было с моей стороны даже и не зайти тем вечером к девушке, но не зашел. Напился страшно, до невменяемости. Ночью проснулся – мордой на грязном полу. Голова – сполошный колокол. Побрел на улицу, отлил, проблевался, голову в бочку с дождевой водой сунул – полегчало. Поглядел на дом хозяйский: два окна горят. Но никаких мыслей во мне от того не возникло. Напился из той же бочки, побрел в домик. Хотел Семена, что на стуле спал, переложить, – не смог. Ослаб. Упал на постель да в кошмар провалился. Все, как Семен рассказывал, да и похуже: тела выпотрошенные, кровь, вой нечеловечий… Кошмар то есть.
Проснулся поздно, Семен уже ушел.
Проглотил кружку холодной воды, побрел к озеру. На встречных глядя, понял: не одни мы такие были вчера с Семеном.
Солнце уже успело нагреть тонкий слой на поверхности озера, когда я окунул в него вялое тело.
Вода, как всегда, помогла. Возвращался уже человеком.
Насти во дворе я не застал и тому не огорчился. Чувствовал себя паскудно. Однако ж, она меня не забыла: на столе стоял бидон с молоком и комнатка моя прибрана. Тут уж мне вдвойне стыдно стало: за бесчувственность и за свинарник, что после себя оставил.
Выпил я молока, пожевал хлеба, вкуса не чувствуя…
Сентябрьское солнце за окном разошлось по-летнему. Разморило меня, пока сидел. Потому я разделся, завернулся в одеяло и уснул.
Кошмары меня не мучили. Зато, проснувшись, я увидел над собой Настю.
– Что, Настенька? – пробормотал я в том невнятном состоянии, какое бывает, если поспишь днем.
Что-то мелькнуло в карих глазах девушки. Мелькнуло и пропало, сменившись обычным спокойным выражением.
– Одевайтесь да пойдемте покушаете! – сказала она.
– Угу! Спасибо! – поблагодарил я, но остался лежать, ожидая, пока она выйдет.
Но Настя не вышла, лишь отошла к двери, все еще не спуская с меня глаз.
Да. Сплю я, надо сказать, нагишом. Стеснительным себя не считаю, но тут отчего-то смутился. И выйти ее попросить неловко: они ж тут запросто вместе в баньках, да и…
Словом, не попросил. Откинул одеяло, встал, трусы натянул поспешно, за брюки взялся…
Тут уж она вышла. Странная, верно, девушка? Или – нет?
Со сна мне все каким-то звонким и ненастоящим виделось.
В большом доме, войдя в незапертую дверь, я по темноватому коридорчику прошел в столовую. Знал, у Лёха так заведено: двое, трое, хоть в одиночку, а на кухне не ели. Только в столовой. Стол был накрыт и к своему, незначительному впрочем, удивлению, я увидел на нем запотевшую бутылку водки.
– Это зачем? – спросил я.
Для порядка спросил. Не возмущаясь, не протестуя – любопытствуя.
– Нужно! – твердо сказала Настя и указала мне мой стул.
Правильно: не помешало. Напротив, опростав пару зеленых стопочек, я как будто оттаял изнутри. Снова заговорил о жизни своей недлинной, где был, что видел. Про юг, про север с западом.
– Кстати, – говорю, – вкусно ты свинину готовишь! Верь мне, я уж ее всякую ел! И кабанятину. В Прибалтике. Там кабак один есть, кабанятину и медвежатину подают. Я и то и другое попробовал. И скажу: что кабанятина, что медвежатина, считай, – та же свинина. Ну да вам здесь медвежатина не в диковинку. Вы ж… – и осекся.
Лицо Настенькино окаменело. Что ж я сказал такое?
Вспомнил! О Господи! Ляпнул, дурак пьяный!
– Выпьем! – говорю. И быстренько, глаза спрятав, водку расплескал.
Скушали, не чокаясь.
Лицо Настенькино порозовело еще, хоть и прежде румянец у нее был отличный. Нет, она симпатичная! Так-то я скуластеньких не люблю: есть в них что-то плебейское. Это не я, это приятель мой говорит. Я и сам не из бояр-дворян. Оба деда – как есть, мужики. Да только посмотрел я на Настеньку иным взглядом. Увидел и шею голую, стройную, и грудь большую, и плечи широкие, но не жиром заплывшие, как бывает, а развернутые красиво, надменно даже.
«Какие ж ноги у нее?» – подумал. Никак не вспомнить. Длинные, наверно, раз высокая.
«Все, – думаю, – надо уходить!»
Встал.
– Спасибо, – говорю, – Настенька, за хлеб-соль-угощение! Пойду я. Как-то мне нездоровится.
– Как скажете! – отвечает. И тоже встает.
Проводила она меня до дверей. А в сенях, в темноте, уж не знаю, как вышло, – я ее обнял. Обнял – полбеды. Да только она сразу прижалась ко мне телом, меня к себе прижала. Да не просто так: с дрожью, с всхлипом, со взлаем каким-то. И сильная же девица!
Сам я тоже парень крепкий. Росту немалого. Однако, не ощути я тогда этой ее силы, моей не уступающей, повернул бы назад, в дом, зацеловал бы девушку…
Но сила эта меня насторожила. Высвободился не без труда.
– Прости, Настенька! Водка кровь баламутит! – и быстро-быстро за дверь.
– Спокойной ночи!
И, едва не бегом, в свой домик. Дверь на крючок – и в постель.
А сон не идет. Днем отоспался. И мысли всякие.
Чего ж я испугался? Девушки испугался?
Порылся в себе: точно.
Ее.
Не того, что привяжется. И не того, что отец ее, неровен час, вернется. Ее самой!
О Господи!
Долго ворочался. Или – недолго? Бессонное время – длинное. Уснул…
И проснулся.
Сидит.
Лампочка не горит, зато на столе свеча теплится.
Сидит нечаянная на стульчике рядышком. На плечах – платочек коричневый.
– Как же ты попала сюда? – спрашиваю. Помню ведь: дверь затворял.
– Трудно, что ль, крючок откинуть?
И не улыбнется.
– Что ж мы теперь делать будем? – говорю.
– Тебе лучше знать!
А сама тапочки скидывает и на кровать ко мне забирается.
Забирается, садится у меня в ногах. Свои, в коричневых носочках шерстяных, под себя подбирает, юбку на коленки круглые белые натягивает, сидит, смотрит.
О Господи!
Сел на постели.
Руки на плечи ей кладу:
– Настя!
Сидит. Ладошки под себя подложила. Молчит. Тихая. Покорная. Вот-вот, именно! Покорная!
Гляжу на нее, а в голове почему-то вопрос вертится. Про Саёныча. Был он с тобой? Не был?
Вот дурень! Совсем одичал! К нему девушка пришла! Сама пришла, хоть и не из гулящих – это сразу видно.
– Настенька!
Взял лицо ее в ладони, в глазки заглянул:
– Настенька!
Что-то свеча горит больно ярко! Задуть?
И вдруг как закричал кто-то внутри:
«Нет! НЕТ! Не задувай!!!»
Должно, лицо у меня изменилось.
Но и у Настеньки переменилось что-то. Руки из-под себя выпростала, за плечи меня взяла, потянула к себе. Ох, крепкие пальцы у нее! Лицо ее ко мне приблизилось да вдруг – как потекло… Господи! Я отшатнуться хотел – пальцы, как клещи. И все. Обессилел. Как помертвело внутри. Враз части свои мужские ощутил, и не по-хорошему. Страшно!
На лице девичьем: на тени тень. Черточки знакомые вытягиваются, рот приоткрытый как бы вперед и в стороны расходится и…
Морда медвежья! Как изнутри проступает.
Я уж и не трепыхаюсь. Какое там! Обмяк. Господи! Сожрет! Счас обернется и – рвать!
И тут я со всей ясностью понял: она! Она Саёныча…
Да, впустила, приняла, а потом…
О Господи! Нету силы моей!
И тут в мозгу моем опять словно голос чужой, не вкрадчивый, не ласковый, а какой-то холодный совсем, равнодушный.
«А ты полюби ее, – говорит, – полюби ее, как есть. Не бойся. Полюби!»
И душа моя жалкая, в желейном теле, вдруг взошла, как от искры.
И повернулся мой страх в нежность неописуемую.
И, нехотя словно, вновь стало переменяться ее лицо. Ушла морда медвежья, проступил облик девичий, ожидающий… И руки (не лапы уже) на плечах помягчели. Она ждала. И я знал, чего она ждет. Меня.
А страх мой, он не умер, он был где-то внутри, трепетал. Вылезет – конец мне!
Но я его перемог да затолкал поглубже, убеждая себя: люблю – и все тут!
И я, действительно, любил ее! Не как женщину любят, не страстью, а… как детей своих любил бы, если б были у меня дети. Глядел на нее и думал: обратись она сейчас в зверя, – все равно любить буду! Все равно!
И обмякла она, растаяла. Власть над ней стала – моя: пока не боюсь – моя!
А как я понял это, сразу и любовь моя к ней переменилась. Не то, что ушла: попроще сделалась.
Любопытство появилось: если оборотень она, тело у нее – какое? Может, знаки какие есть?
И вот еще что: женщину в ней я меньше хотел, чем чудовище. И мысль такая совсем не смущала, ни капельки! И ничуть я уже не боялся!
Без поспешности раздел ее: кофту толстую, вязаную, блузу, юбку, чулки старомодные, на резиночках, рубашку исподнюю. Раздевал – и все искал, искал. Знаки.
Но не было в ее теле ничего. Ничего звериного. Плечи были чисты, груди теплые, тяжелые, гладкие, рука короткопалая, живот… Просто тело женское. Большое, покорное.
Да, она была покорна, пыталась угадать меня, стать мягче, легче, чем была по естеству.
И все-таки овладеть ею я не мог! Прости, читатель, за подробности: тыкался без толку, ноги ее перекладывал и так, и этак… И сама она старалась мне помочь – никак!
Я уж отчаиваться начал. Пыл угасал. Пришлось подогреть его мыслью: не женщина подо мной. Не просто женщина.
И на меня накатило: понял!
И сама она поняла: перевернулась, приподнялась: я коснулся ее ног, просто провел руками от колен вверх, к ягодицам, и ощутилось, будто не кожа, а грубая шкура с короткими щетинками прорастающей шерсти…
Но я не испугался, нет!
И…
Прости меня, Господи!
На следующее утро я уехал.
Автобус подпрыгивал на буграх. Женщины, возвращавшиеся с фермы, судачили об убийстве, о медведе…
В райцентре, оставив рюкзак на вокзале, и, поскольку до поезда оставалось часов шесть, заглянул в милицию.
Там поначалу отнеслись ко мне без восторга: много тут вас! Убийство двойное всколыхнуло весь район. Но когда я сказал, что последним видел убитого (Семен ни словом о Насте не обмолвился!), а сейчас, уезжая, хотел бы…
В общем, записали они все (ничего, вернее сказать). Не о Настеньке же мне с ними говорить. Да я и не говорил – спрашивал больше.
А молоденький лейтенант, смакуя или желая потрясти мои чувства, описывал с подробностями, которые я не буду приводить, состояние останков.
– Э… – пробормотал я. – Откуда вы знаете, что медведь? Шерстинки, следы, разве нельзя…
– Нельзя! – отрезал лейтенант. – Отпечатки зубов! И слюна! Ну-ка, где ты раздобудешь медвежью слюну? – и поглядел победоносно.
Я был посрамлен и лейтенант предложил мне перекусить у них в столовой. Я согласился.
Подали нам суп грибной, жаркое, салатик, компот сухофруктный. Хороший обед, только макароны были сыроваты.
Через несколько часов, договорившись с проводником, я уже ехал в Новосибирск, чтобы оттуда…
Где ты, На-а-стя?


