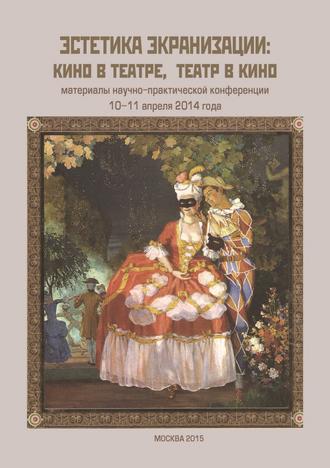
Сборник статей
Эстетика экранизации: кино в театре, театр в кино. Материалы научно-практической конференции 10–11 апреля 2014 года
К 75-летию Валерия Ильича Мильдона,
доктора филологических наук,
профессора ВГИКа
Всероссийский государственный университет киноматографии имени С.А. Герасимова

Эстетика экранизации: кино в театре, театр в кино
Материалы научно-практической конференции 10–11 апреля 2014 года

Составитель: доктор филологических наук, профессор кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИКа В.И. Мильдон
О реализации в кино трагедии Л. Андреева «Тот, кто получает пощечины»
А.М. Высочанская (МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва)
Первый киносеанс в России, как известно, состоялся в 1896 году в Санкт-Петербурге, позже, в том же году – в Москве и вызвал весьма противоречивые мнения по поводу нового изобретения братьев Люмьер[1]. Поначалу оно являлось аттракционом для малообразованных масс, где преобладали жанры бытовой драмы, комедии и уголовно-приключенческий; с появлением отечественных кинолент интерес к нему возрастает. Возник вопрос, в чем преимущество кино по отношению к прежнему популярнейшему развлечению – театру? В 1912–1913 гг. в журнале «Маски» появляются «Письма о театре» Л.Н. Андреева, в которых он анализирует сложившуюся культурную ситуацию и разграничивает области влияния театра и «Великого Кинемо»[2]. За последним он признает преимущество, заключающееся в остросюжетности и зрелищности. Театр же, освобожденный от ожиданий публики, мог уйти в панпсихизм, передаваемый через слово, которое должно было стать основой нового театра и которое, по мнению Андреева, было неподвластно кино (тогда немому).
Особо отметим его замечания, касающиеся соотношения слова и способов его реализации в том и другом направлениях. В первую очередь, это главки «Писем о театре», посвященные драматургии и идее о новом «кинемо-Шекспире». Андреев предвидит появление сценаристов, понимая, что речь и слово как таковое играют принципиально разные роли в кино и театре.
Интересно, анализируя экранизированную пьесу автора, проследить, как претворяются в ней принципы театра панпсихэ и как они трансформируются в формате киноленты. Материалом для исследования стали пьеса Андреева «Тот, кто получает пощечины» 1916 г. и снятый по ее мотивам одноименный голливудский фильм 1924 г. Мы пытаемся понять, в чем особенность работы «кино-Шекспира» и что обеспечивает психологизм самой трагедии. В начале XX века, когда драматургия переживала период расцвета и обновления, а кинематограф только зарождался, технические приемы в кино были весьма скупы, поэтому оно снималось по определенным шаблонам и правилам, и в этом смысле начало XX века в кинематографе можно уподобить XVIII веку в мировой литературе. Киношаблоны в фильме логично сравнить с театральными канонами и соотнести с принципами новой драмы, предложенной Андреевым, которая, как он утверждал, должна спасти театр и помочь ему одержать победу над «Великим Кинемо».
Теория панпсихизма основывается на одушевленности деталей, определенном настроении, передаваемом через паузы, звуки или детали. Также здесь заметно влияние романной исповедальности на драму. Пьеса «Тот, кто получает пощечины» во многом иллюстрирует эту теорию. Но реалистические, психологические мотивировки поступков и характеров не отменяют в ней «надсюжетную» функцию персонажей. Каждый из них при всей своей полнокровности является воплощением определенной идеи, что присуще в большей степени символистским пьесам. Тот, заглавный персонаж, олицетворяет бога смерти и мудрости, Консуэлла – спящую Афродиту и Еву, Барон – жажду обладания, Зинида – неутомимую животную страсть. Сложно определить, какая сторона преобладает в героях, психологическая или символическая. Здесь помогает анализ ремарок, которые призваны раскрыть психологическое состояние персонажей. Консуэлла проявляет то живость, то задумчивость, она дорожит безмятежным покоем, который нарушает Тот, но и возвращение в реальный мир ее злит, в ней борются две сущности: циркачки и богини. Ее отец Манчини играет в жизни, как на сцене, стремительно меняются его интонации и эмоции, автор сравнивает его с сатиром, придавая мифологические, зооморфные черты. Отчетливая динамика прослеживается в поведении Тота и Барона. В начале первого действия Тот учтив, прост и даже застенчив, в конце он преображается благодаря новому статусу в мире цирка и любви, которая превращает его из безымянного Господина в Тота. Во втором действии он – настоящий клоун, который не может не играть; его серьезные слова никем не воспринимаются, а игре все верят. Поведение на грани реальности и игры позволяет ему говорить правду, при этом оставаясь смешным. В отрицательном образе Барона подчеркнут контраст его паучьей натуры и лейтмотива розы в петлице. Однако после смерти Консуэллы ремарки обнаруживают парадоксальность: почти опереточный злодей Барон раздавлен горем, для него рушится мир со смертью девушки, которую он любил, как оказалось, без фальши. Именно через ремарки проведена параллель между Бароном и Тотом, их горе противопоставлено: если Барон доведен до отчаянья и ступора, Тот как будто смеется не над ним, а над самой смертью. Важную роль в пьесе также играет музыка. Здесь борются три основных мотива: танго (страсть), вальса (любовь) и циркового галопа (суета). Звуковыми лейтмотивами служат звуки аплодисментов и смеха, чередующиеся с молчанием, что подчеркивает контрасты, которыми полна цирковая – и не только цирковая – реальность. Звуковые и эмоциональные контрасты, принципиально важные в пьесе Андреева, словно бы рушат невидимую стену, отделяющую реальный мир от мира циркового. Так, люди, приходящие в цирк, кажутся актерами, исполняющими какую-то бытовую драму, а представители труппы оказываются довольно глубокими с философской точки зрения персонажами. Свидетельством тому является, в частности, разговор между Консуэллой и Тотом, который называет ее Психеей и говорит, что ей надо освободиться из заколдованного круга жизни.
Интересны замечания исследователей[3] о том, что андреевская драма «психэ» – сценарий, но для звукового психологического кино. Учитывая киносценарный и драматургический опыт писателя, с этим нельзя не согласиться: от театра требуется много того, что невозможно реализовать на подмостках, а кинематограф «обрекается» быть немым. Известно также, что «Тот, кто получает пощечины» адаптировался для экрана режиссером Ивановым-Гаем, но был встречен довольно прохладно, и кинокритики обвинили картину в недостаточной кинематографичности, хотя после публикации самой пьесы отзывы звучали прямо противоположные.
Но нас интересует именно американская экранизация, в которой весьма показательно то, как редуцируется сложность андреевской драмы. Этому способствовало влияние принципов кинопроизводства, сформулированных еще в 1913 г. американским режиссером и продюсером Томасом Харпером Инсом. Важнейшими из них стали наличие «железного» сценария в качестве сюжетной основы фильма и ориентация на звезд. Заметен интерес Голливуда к экранизации литературных произведений, хотя сама традиция таких экранизаций пришла скорее из Европы. В 1924 г. была основана компания «Metro-Goldwyn-Mayer», и новый гигант тут же выпустил несколько кинолент, в числе которых был зарекомендованный как триллер и драма фильм «Тот, кто получает пощечину». В нем впервые появился логотип Leothe Lion, ставший в дальнейшем визитной карточкой компании. В качестве режиссера был приглашен знаменитый Виктор Давид Шестрем, основатель классической шведской школы кинематографа, который прежде помимо оригинальных мелодрам и социальных драм занимался и экранизациями произведений Ибсена, Стриндберга, Сигюрйоунссона и др. Над картиной «Не Who Gets Slapped» Шестрем работал с популярным голливудским сценаристом Кэри Уилсоном и оператором Милтоном Муром. Благодаря традициям шведской киношколы (интерес к психологизму, метафоричность стиля, обилие кадров портретной съемки), с одной стороны, и голливудским киношаблонам, с другой, а также ориентации на уже сложившуюся плеяду звезд получилась экранизация, далекая от оригинала, но также претендующая на психологизм. Понять его природу возможно, опираясь на характеризующие кинематограф постулаты из «Писем о театре» (зрелищность, техническая передача душевного состояния, натуралистичность) и семиотику кинотекста (в частности, титры). Следует также учитывать, что статья Андреева была опубликована в 1919 году в «New York Times» в переводе Бернштейна, а значит, всякий деятель сферы американского кинопроизводства мог (и должен был в случае создания качественной экранизации произведения автора) с ней ознакомиться.
В оригинальной пьесе всего два значительных «внешних» действия: вызов, брошенный Безано Зинидой, и смерть Консуэллы, Тота и Барона в финале. В фильме взята лишь одна линия: отношения между Тотом и Консуэллой, ее любовь к Безано, а также намерения ее отца Манчини выдать дочь замуж за Барона. Фигуры Зиниды и ее мужа Брике отходят на второй план, Безано, напротив, оказывается в центре. Пиком психологического напряжения становится сцена, отсутствующая в пьесе, где обезумевший Тот, пытаясь остановить Барона и графа Манчини, выпускает из клетки голодного льва. Именно эта сцена переворачивает с ног на голову всю психологическую картину произведения Андреева. Создателям киноленты, очевидно, показалось нелогичным убийство Консуэллы в пьесе влюбленным в нее Тотом. Сценаристы, предпочитающие действие и зрелищность, фантазируют на тему поведения главного героя, если бы он выбрал иной путь. За основу, возможно, была взята фраза героя, обращенная к Безано: «Вырвись из твоего заколдованного круга… умчи ее, укради, сделай что хочешь… наконец, убей ее… но не отдавай этому человеку… если тебе страшно поднять руку на нее – убей барона»[4]. Так проявляется существенное отличие «психологии» фильма от театральной. Панпсихизм здесь, можно сказать, вырождается, и трагедия об освобождении души из мирской суеты превращается в мелодраматичную историю о сумасшедшем неудачнике, пожертвовавшем своей жизнью, чтобы остановить зло в лице алчного Барона и эгоистичного Манчини.
Как дань первым фильмам, в основе которых лежали цирковые трюки, выглядят в экранизации «номера», хотя в пьесе они не предусмотрены: цирковое шоу выведено автором за пределы сцены. То же можно сказать и о массовке: если в пьесе все зрители существуют как бы номинально, а толпа артистов передает общее настроение и атмосферу, то в фильме они являются реально действующими «телесными» персонажами. Так метафорический цирк превращается в реальный, а символический финал в рамках психологического сюжета – в натуралистический. Собственно, это то, о чем говорил Андреев в своем «Первом письме». Как в классическом театре, в фильме делается ставка на «маски», убираются «лишние» персонажи и «побочные» сюжетные линии. При этом нарушаются границы времени и пространства. В титрах указывается, что с момента прихода Тота в театр прошло 5 лет, а действие происходит сначала в его доме, потом – в Академии, затем – в цирке. Цирковые сцены перебиваются сценами в доме Барона, доме Манчини, а также на природе, где Безано признается в любви Консуэлле.
В фильме используется специфический арсенал психологических приемов. Открывает фильм кадр с клоуном, крутящим на пальце шар. Экспрессивный свет выхватывает его фигуру из темноты, делая похожим на символ – некий абстрактный образ, высмеивающий все на свете. Исходя из изображаемой ситуации, в фильме звучит мажорная, минорная или мрачная музыка – саундтрек оригинальный, не отсылающий зрителя к известным музыкальным произведениям, в отличие от пьесы. Помимо музыки, психологическое напряжение усиливается благодаря обилию первых (изображение персонажей по грудь) и американских (по пояс) планов, а также то ускоряющемуся, то замедляющемуся темпу смены кадров. О том, как Пол Бьюмонт превратился в Тота, очень умело посредством ассоциативного монтажа рассказывают следующие кадры: тот же смеющийся клоун с шаром, затем шар превращается в модель земли, а после – в арену с клоунами. Так реализуется метафора пьесы о том, что цирк – это другой мир, высмеивающий ценности мира обычного. Далее выхватывается еще один кусок – часть костюма Тота, а именно – плюшевое сердце. В пьесе эту деталь мы не обнаруживаем, тогда как в фильме она станет лейтмотивом героя (так во втором акте циркового действия Тота хоронят, зарывая его плюшевое сердце в песок: как в классической театральной традиции перед смертью героя обычно возникают какие-то знаковые символы, сны или случайные происшествия, предрекающие его кончину, так эта игровая сцена с похоронами Тота будет дублировать его настоящую смерть на арене в финале фильма).
Существенно изменена в фильме трактовка образов центральных героев. Отношения между Консуэллой и Безано в оригинальной пьесе не столь однозначны, да и к Барону девушка не относится резко отрицательно: в ней борются чувство долга и желание быть женой богатого и достойного мужчины со стремлением освободиться через любовь к наезднику из цирка. Образ Безано изменен кардинально: в пьесе он груб, страстен, вспыльчив и своенравен, но знает, что им никогда не быть вместе, в фильме же он – отважный мечтатель, который ради любви к девушке готов пойти на все. В герое исчезло трагическое начало, как в Консуэлле – божественное. В решающей сцене убийства Тота Манчини предстает в новом свете: в пьесе он – фигляр, сатир, пережиток прошлого. В фильме же он хладнокровен, и после убийства человека держится надменно и уверенно, так что даже Барон цепенеет от произошедшего. Но вот «злодеи» открывают дверь, и на них набрасывается лев из заранее открытой Тотом клетки. Ритм смены кадров ускоряется, включается параллельный монтаж, позволяющий зрителю увидеть то, что тем временем происходит на сцене, а именно последний выход Тота и его смерть на руках у Консуэллы. Крупным планом дается испачканная в крови подушечка-сердце в его руке. Казалось бы, логичный и художественно завершенный финал. Но эпилогом фильма является скачка Консуэллы и Безано под мажорную музыку, а затем – под торжественную – возникают те самые клоуны и крутящаяся модель земли, закольцовывая художественную композицию киноленты.
Трансформация и адаптация характеров пьесы была вызвана и тем, что в 20-е годы в Голливуде формируется плеяда звезд, в которую входит и Дон Чейни, исполнитель главной роли, который был мастером перевоплощения: ему удавались сложные образы отвергнутых или изуродованных людей, а также чудовищ, как в фильме «Горбун из Нотр-Дама». Тот в его исполнении – покалеченный жизнью человек; он некрасив, а в финале, без грима, выглядит уродливым и страшным. Возможно, предыстория Тота была введена, чтобы продемонстрировать талант перевоплощения Чейни, а также, объясняя его поступки безумием, сохранить натуралистичность мотивировок.
За исполнителем роли Безано Джоном Гилбертом закрепилось романтическое амплуа (как образ Эдмода Дантеса из «Графа Монте-Кристо»). Роль молодого красавца, возлюбленного героини, в фильме не могла быть редуцирована, как в оригинальной пьесе, или отдана безумцу Тоту или злодею Барону. Поэтому авторы фильма решили обратить на Безано особое внимание.
Марк Дермотт, сыгравший барона Реньяра, также имел к 1924 году большой опыт съемок: его карьера началась в 1909 году. В общей сложности на его счету около 180 ролей; самые известные из них в фильмах, снятых по мотивам литературных произведений Гюго, Скотта, Диккенса, где Дермотту приходилось играть самовлюбленных знатных особ.
В отличие от своих партнеров, Норма Ширер обрела популярность уже после 1924 года, став одним из первых секс-символов Америки. Привлекательная внешность и обаятельный характер позволили ей создавать образы как нежных возлюбленных, так и роковых женщин. В роли Консуэллы сочетаются черты обоих амплуа.
Таким образом, мы видим, насколько важную роль в кино играют «шаблоны». Ставка на амплуа и индивидуальность популярных актеров в совокупности с натуралистичностью изображения по-своему способствует углублению психологического плана в фильме. Но это психологизм иного рода, чем тот, что достигается на фоне условных театральных декораций. Создатели фильма создали психологический триллер, упростив сюжет и характеры героев для адаптации их зрителями. Перед ними стояла трудная задача двойного перевода: с русского на английский язык, а затем с театрально-драматургического на кинематографический. Собственно текст реализуется в виде титров, которые оформлены как повествование, объясняющее происходящее на экране. Сравнив разговоры в цирке в пьесе и фильме, можно понять сущность его изменения. Так, вместо Тота вопрос о женитьбе Консуэллы интересует Безано, хотя в трагедии он переживает все внутри, а внешне лишь сердится. Меняется и подтекст разговора Тота и Консуэллы: в фильме клоун предстает как безумно влюбленный человек, а не как старый бог и спаситель души девушки. При этом повтор темы их интимного разговора в конце остается, то есть, если в пьесе они говорили об освобождении и морской пене, и в финале они возвращаются к этому, то и в фильме они, говоря о сути счастья и любви, говорят об этом перед смертью Тота.
Стоит отметить, что в тексте Андреева психологизм выражается не на уровне классических монологов, а на уровне неуловимых жестов, поэтому столь внезапными кажутся поступки персонажей. Если бы не случайно брошенное слово (Тот проговаривается в разговоре с Безано, что если нет возможности спасти Консуэллу, то лучше ее убить), трудно было бы понять поступок Тота или Зиниды (перед тем, как зайти в клетку, она спрашивает у Тота, что ей сделать, чтобы ее полюбили звери, и на этом акт заканчивается: мы не знаем, что посоветовал Тот, но видим уже результат). В фильме же наоборот: мы видим события, которые происходят стремительно и внезапно. Психологизм пьесы создатели фильма обратили в риторику, примером которой может послужить фраза «Что есть такое в человеческой натуре, что заставляет его смеяться, когда кто-то получает пощечины – будь эта пощечина духовная, интеллектуальная или физическая?». Здесь воплощается идея Андреева о том, что пощечина бывает не только ударом по лицу, но и чем-то большим, однако его мысль о пощечинах, которые получал зрительный зал, а не клоун, исчезла. В финале Тот призывает льва не просто загрызть его, как барона и графа, – он готов принять пощечину и от смерти («Давай, мой друг, дай мне последнюю пощечину»).
Во время выступления Тота пародируется общество ученых из академии, и зритель кинофильма знает, почему выбрана именно эта тема; зрителю же театральному стоит только об этом догадываться. В пьесе высмеивается не просто конкретное общество, из-за которого случилась личная трагедия, а весь мир и общая трагедия непонимания толпой личности, ведь
Тот играет философа. Фраза Тота в финале, когда он просит Барона узнать его, в тексте трагедии обыграна иначе: Тот, являясь представителем высшего общества, проверяет, насколько он изменился. Здесь же его слова предшествуют возмездию за то зло, которое причинил ему Барон. Тот и не обвинял Манчини в пьесе, лишь подшучивал над его положением и стремлением к шику. В конце трагедии обнаруживается, что Манчини не так рад полученным богатствам, в фильме же деньги для него превыше всего, даже собственной дочери (в киноленте, кстати, она ему родная, а не приемная, как в оригинальной задумке). В своем последнем выступлении Тот произносит философский монолог, обращаясь к клоунам и публике: «У мира должна быть своя любовь… должна быть своя трагедия… Но всегда… появляется клоун, чтобы смешить людей». И после смерти героя на экране появляются, как бы вторя его словам, вопросы: «Что такое Смерть? Что такое Жизнь? Что такое Любовь?». Это – вопросы, которые задает Тоту Консуэлла. Так мы видим яркий пример трансформации психологизма в риторизм в кино.
Итак, анализ трагедии «Тот, кто получает пощечины» показал, что подобная пьеса очень трудна для экранизации, так как имеет несколько уровней психологического воздействия (через образы, слово, музыку, ремарки, мотивы), поэтому в кино она упрощается, меняет приоритеты в соответствии с ожиданиями публики и апеллирует к зрителю актерской игрой и риторическими фигурами, выраженными в титрах, как инструментами психологического воздействия. Для того чтобы эти инструменты работали эффективней, авторы делают акцент на зрелищности и натуралистичности и во имя этого меняют ход сюжета, избавляются от второстепенных персонажей, которые мало влияют на него и скорее создают настроение, являющееся неотъемлемой частью панпсихизма. Однако в сочетании технических приемов и актерской игры формируется иной род психологизма, возникает авторский голос, проявляющийся в изменении ракурсов и планов, а также в косвенном тексте титров. Таким образом, пьеса не просто полна панпсихизмом – она о панпсихизме, в частности. Во-первых, реалии «внешнего» мира и вымышленного для циркачей смешиваются, отсюда такое серьезное отношение к происходящему в стенах цирка и высмеивание того, что вовне. Во-вторых, построение диалогов основывается не столько на конфликтах, сколько на изменении настроения (к этому примешивается внешняя, нарочная бездейственность и молчание до того, как совершится тот или иной роковой поступок). В-третьих, видно большое влияние литературы – психологического романа на драматическое произведение.
Концепция панпсихизма определила рамки влияния театра и кинематографа на зрителя на многие годы. Андреев также предугадал появление «Кинемо-Шек-спиров», чей род деятельности будет принципиально отличаться от работы театрального драматурга. Поэтому, открывая для себя концепцию Андреева, мы можем понять, как действуют законы психологии в родственных, но при этом принципиально разных видах искусства.


