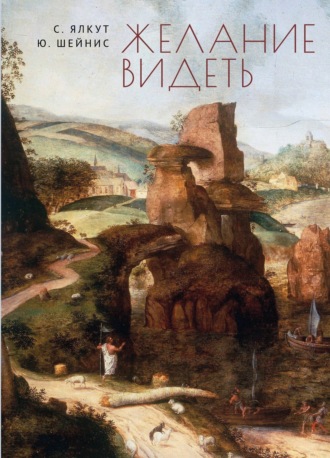
Селим Ялкут
Желание видеть

Первым читателям – Юле и Ире
Предисловие
I
Искусство вечно, а жизнь коротка.
Против этого нечего возразить, лишь с одним уточнением. Искусство вечно в целом, а не по частям. Для того даны обозначающие определения – первобытное, средневековое, или, наконец, современное, – они, как ступеньки ведут в эту вечность, выбьешь одну, и вся лестница придет в негодность. Для нас – ныне живущих, для нашего сегодня никакого другого определения, кроме современного искусства, не придумано. За всем остальным нужно отправляться в музей.
Что такое искусство – средство самовыражения, всплеск эмоций, отображение действительности или оружие идейной борьбы, инструмент социальной политики? В советскую эпоху эти вопросы решались на идеологическом уровне, но и в наше время они никуда не делись, присутствуют явочным порядком, только знак поменяли с восклицательного на вопросительный. Глупо утверждать, что проблем нет, и что искусство (вы сейчас будете смеяться) свободно. Живопись всегда была предметом социального заказа и должна была непременно понравиться определенному кругу лиц или даже одному лицу, ответственному за то, что такое хорошо, а что такое плохо.
Вот вам пример из сравнительно недавнего прошлого. Напился человек кофэ, натянул шляпу с дырочками для сохранности безволосой части головы, велел запрягать, и отправился на выставку. Походил, поглядел, промял новые штаны из спецателье коммунар. И что он видит? Висит на стене баба с голой грудью, да еще с одной, а не с двумя, как положено по анатомии советской женщины. Что тут скажешь, особенно, если вокруг столпились, ждут твоего просвещенного мнения, и в животе после кофэ духовые трубят…
И пошло, поехало. Ни в сказке сказать, ни, тем более, пером описать. Не хватает выражений, разрешенных цензурой. Чувство прекрасного, может, подвело, зато социального осталось. А, может, наоборот. Сейчас такое время, не поймешь, то ли смеяться, то ли плакать.
Искусство – констатация факта, пропущенного через воображение художника. Здесь – вся правда, и ничего, кроме правды. Потому что правда – это точка зрения на постоянно меняющийся мир. Плюс воображение, от этого никуда не денешься. Плюс талант. А тут еще, мало того, сколько людей, столько мнений, так и пейзаж постоянно куда-то едет или уплывает. Там, где вчера было сухо, сегодня по колено, и неизвестно, что завтра будет.
Так и искусство. Непонятно, кто кого наблюдает мы его, или оно нас. Не нужно теряться, мало ли, что кому придет в голову. А нужно гнуть свое. Искусство есть те самые движущиеся тени на стене пещеры. Первое искусство появилось именно там. Пришел человек, встал на цыпочки, и нарисовал, потому что писать ему, как неграмотному крестьянину, было еще учиться, учиться и учиться. С тех пор и началось.
А что в итоге? Нет ответа. Сколько людей, столько мнений. И в бровь, и в глаз, и куда начальство прикажет. Искусство здесь надежный ориентир. Надежней истории. Достовернее. Правильно, если бы искусствоведа хоронили по древнему обычаю в одной могиле с художником, чтобы не менял на ходу пластинку и отвечал за базар (современный термин). Это, конечно, эмоциональное преувеличение, особенно для гуманистического мировоззрения, но, по сути, заманчиво. Есть слова, которые нужно повторять вслух, неоднократно, хором и вслушиваться вслед за каждым словом на отозвавшееся издали эхо. Слышится только последнее.
Мы (кричим для них): Искусство долго, а жизнь коротка…
Эхо (отзывается для нас) … коротка… коротка…
С чего начиналось, тем все и кончится. В сфере искусства. Последний человек дожует последний гамбургер, запьет кока-колой и полюбуется ассирийской вещицей, которую его предки (наши современники) стырили где-нибудь в Ираке, на земле Древней Мессопотамии, в Междуречье Тигра и Ефрата. Иногда находишь не то, что ищешь. Но в хорошем хозяйстве всякое пригодится, главное, дотащить до нужного места…
Сказанное выше, всего лишь присказка. А было так. Сидели два человека в мастерской художника и беседовали на всякие темы. Глупо было начинать про политику, которая ничего кроме ожесточения не вызывает, тут не только вечер, ночные сны можно себе испортить. Оставалось искусство, на эти темы и рассуждали, для одного из собеседников рассматриваемый предмет являлся профессией, а другой интересовался много лет со стороны. Пили чай, покуривали и вели разговоры, за которые спросится когда-нибудь на Страшном Суде. Не за сам разговор, а за бесполезно потраченное время, отпущенное на великие дела. Нужно было чем-то оправдаться, хотя бы записав сказанное, пока слова не растворились бесследно в прокуренном воздухе. Хозяин вздыхал, заталкивал половинку сигареты в мундштук и предупреждал. Если это кому-то надо…
II
О каждом из художников написаны горы книг и сказать что-то новое чрезвычайно трудно. Но жизнь идет, и отношение даже к самым блестящим репутациям требует постоянного обновления, именно к таким блестящим в первую очередь. В природе искусства есть общее, объединенное исторической и культурной памятью, а есть частное – продиктованное личными пристрастиями и предпочтениями. Иногда этот процесс высокопарно и пошловато, но точно по сути, называют получением эстетического наслаждения. С этой целью человек посещает музеи и рассматривает толстые книги с репродукциями и фотографиями предметов искусства, так сказать, интересуется.
Это понятно, ведь художники заложили основу общей памяти, осваивая ступень за ступенью видимое пространство, в которое заключен человек. Эстетика – всего лишь наука убеждать, поэтому в вопросе, чему служит искусство – красоте или просвещению, больше риторики, чем смысла. Художники наполнили мир культурными символами и деликатно заставили нас смотреть на этот – наш общий мир своими глазами. Все, что мы видим вокруг, – это не только работа нашего зрения, это их работа, выполненная для нас и за нас. Мы пользуемся их зрением, даже не замечая. Но, чтобы видеть, нужно смотреть, нужна привычка зрения. И это не только узнавание и любование, «чувство прекрасного» или «культурный отдых», это – желание видеть..
III
Есть фразы, которые предназначены для многоразового использования. По сути это смысловые формулы с предельной точностью определяющие конечную цель, достойную человека. Душа, не стремись, к вечной жизни, Но постарайся исчерпать то, что возможно… (Пифийские песни, древнегреческий поэт Пиндар, V век до нашей эры). Заметим попутно, когда это было сказано. Эту фразу приводят Поль Валери, Альбер Камю и возможно кто-то еще, потому что о природе творчества невозможно сказать точнее и подтвердить сказанное примером. В этом все объяснение. Великие художники исчерпали то, что возможно…

Как это начиналось
Человеческая цивилизация старше человеческих воспоминаний. Люди оставили образцы искусства раньше, чем занялись искусством письма, – во всяком случае, такого письма, которое мы можем прочесть. Человек не оставил рассказа о своей охоте, и потому все, что мы можем о нем сказать, будет гипотезой, а не историей. Тем не менее, рисовал он хорошо, и нет оснований сомневаться, что рассказ его был бы хорошим.
Гилберт Кийт Честертон Вечный человек
Была (и есть) в Киеве Республиканская Художественная школа и учился в ней давным-давно – двадцатое столетие как раз дошло до половины – мальчик Витя. Был он знаменит своим отцом, не чиновными должностями, а тем, что именно привлекает мальчишек в родительских биографиях. Отец Вити был матросом (а, может быть, и выше) торгового флота и плавал по морям с заходом в порты разных стран.
Он привез Вите из этих плаваний деревянную египетскую скульптуру, повторяющую пластику малых форм, известных со времен Древнего Египта. Чем эта скульптура была выдающейся? Тем, что ее можно было подержать в руках, повертеть, рассмотреть со всех сторон. Отнестись к ней как очень простому предмету человеческого обихода, культуры. Повторяем, было это очень давно, народ жил как бы отдельно от остального мира. И кроме слоников найти что-то в небогатых квартирах было трудно. Даже китайские божки и безделушки появились потом, после победы китайской революции.
Скульптурка была темного дерева, точеная, привлекала чистотой формы, точностью силуэта, гладкостью поверхности. Сантиметров двадцать, не больше. Махонькая. С прямыми плечиками. Ручки висят. Кулачки сжаты. Женская фигурка.
Купил моряк ее где-то на рынке, в невообразимо далеком Каире или Александрии. Но впечатления дешевой поделки фигурка не производила. Скорее наоборот. Впечатление совершенства. Конечно, это впечатления подростка, но подросток как раз и обладает воображением. Это был Египет – сегодняшний, прошлый и очень, очень далекий. Такой, как он отлился в форму сразу на все времена. Точная линия. Прямые плечики, острые и в тоже время круглые. Руки ровненько опущены. Плечики под прямым углом к шейке. Все это – очень характерное для Египта. Шейка полненькая, плечики прямые, ручки опущены. Статичность, обтекаемость. Теперь это называется стилизацией. А чем это было для них? Это с нашей точки зрения стилизация. А с их? Для них это был эталон. Эталон некоей красоты. Это ее норма, которая для них очень важна. Силуэт просматривается в первую очередь, прямые плечики, свисающие ручки, плавно сужающаяся книзу талия. Живот не втянут. Никогда. Он трубочка, но только выпуклая. Вот эта трубчатость и в тоже время текучесть для них очень характерна.
А где-то рядом – в пространстве и во времени, по нашим представлениям, была Ассирия. По крайней мере, в школе их изучали разом – в истории древнего мира. Так они и запомнились через запятую. Ассирия, Египет… А на самом деле, хоть время одно – древнее, но друг на друга непохожее. Видение разное, а за ним тот самый смысл, без которого трудно понять время. С Ассирией у Египта разница очень большая. Египетские формы, даже малые (как наша фигурка) внутренне эмоциональны, в то время как ассирийские – эмоциональны внешне. Что ассирийцы передают, что они показывают в отличие от египтян? Социальный тип. В нем – движение, бесконечная динамика. Сама форма статична, но положения тела или животного выбраны крайние. Эмоциональность находит свое выражение в движении. Это в Ассирии. В то время как в Египте, движение остановлено или почти пропущено. Оставлено на усмотрение зрителя. Там это не главное, там на первом месте внутреннее состояние. У ассирийцев лица все одинаковые, изображения в фас нет. Все плоское, в профиль. А в Египте – круглая скульптура, объем со всех сторон, и автор, художник совсем по-другому воспринимает сам объект. В эту форму, в эту фигурку он вкладывает личностное содержание. В Ассирии – эмоциональность внешняя, как бы напоказ, в Египте – она в состоянии самого объекта изображения. Цивилизации, по нашим представлениям, находились довольно близко, должны были активно влиять друг на друга, но это не заметно. Скорее наоборот. Интересно, как они смогли выработать свой язык, свою эстетику, свой вкус. Свое понимание содержания образа. То, чем дышит человек.

В Ассирии главное – изображение в действии. Изображение животного просто идеально. Изображение человека хуже, более схематично, но тоже выбраны крайние позиции. Если это поворот, то поворот на 180 градусов, не меньше, без промежуточных состояний. Если стрелок натягивает лук, то натягивает его так, что, разворачивая изображение, сам художник путает руки этого стрелка – получается две правых. И это не важно, для художника важно чтобы локоть одной и вытянутость другой были направлены прямо по ходу стрелы. Чтобы выстрел состоялся в полную силу. Лев, который бросается на щит, на лошадь, на охотника, летит на таком пределе, что ломает себе шею. Видно, как попадает в него стрела. Это смертельный полет, и это нужно суметь показать.
В египетском искусстве такого нет. Там все остановлено. За этим разная психология. И не только эстетика, но, наверно, более глубокое различие, образ жизни, разность культов.
Все это интересно сопоставлять. Ведь только искусство запечатлело историю. Конечно, сохранились керамика, оружие, пирамиды заметны издалека на фоне верблюдов. Но там рассказа нет. Там нужно додумывать, строить, соединять, даже фантазировать. А когда есть изображение, все становится ясным. Видным, что называется, как на ладони. Причем это долгий рассказ, от начала до конца. Бытие передано через изображение. Вот обмахивают властелина, делают ему свежий воздух, вот ему несут фрукты и овощи. Вот подают курицу. Вот он охотится. Тут все рассказано. Более подробно и придумать нельзя. Как будто ты сам за этим наблюдаешь и делаешь выводы.

Тем более, что изображение предельно детализировано. В Ассирии деталь, важнее, чем сама форма. Локоны все выложены, борода заботливо причесана, и вся в завитках, ногти на пальцах обозначены, пусть схематично, но на всех пальцах и на руках, и на ногах. Глаз вырисован, у всех одинаково, похожий на рыбу. Неважно, что глаз в таком положении не видит, но само отношение к детали говорит о том, что и художник, и зрители – а они были все очень тщательны и требовательны к своей работе, и для них она имела большое значение.
И еще важно. Изображение рассчитано на простолюдина, оно не адресовано кому-то конкретному или какой-то привилегированной группе зрителей – посетителей музеев и выставок. Это простое, повествовательное обращение ко всем, к крестьянину, к ремесленнику, к рабу. Рассказ сразу обо всем, о главном в их жизни. Вот ведут рабов, с детьми, с женщинами, гонят не спеша. А вот воины падают со стен или лестниц, пронзенные стрелами, идет рассказ, и каждый может придти, увидеть, сопереживать. По-нашему, это демократичность. Как если бы мы говорили разом со всеми на одном понятном для всех языке. То, чего в современном искусстве просто нет, потому что это – дурной тон говорить со всеми на языке всех. Чтобы всем было понятно. Это исключено. Это сейчас никуда не годится, это низкий уровень. Примитив. Как такое может придти в культурную голову.
Но тогда, в те далекие времена роль изображения была совершенно иной. Она решала другие задачи. И не просто другие. Важно, что это – прямой разговор, прямое общение, прямая передача мысли, содержания, одного и того же для всех. Летопись. Вот что такое искусство в том обществе. Оно было ко всем обращено.
То же самое – первобытное искусство, откуда всё начиналось. У него более низкий уровень исполнительского мастерства, но оно не менее эмоционально. Эмоциональность во всем – в движении, в рассказе. Таково первое условие, без него любой сюжет, который только мог придти в голову человеку того времени не имел значения. Если он не был эмоциональным. Ради чего-то другого не было смысла рисовать. И художники того времени нигде не отступают от этой задачи, от ее решения. Они постоянно повторяют одно и тоже. И это их не огорчает, это им не скучно. Потому что они так общаются, они разговаривают, они учатся говорить. Рисование – это по сути дела письменность. Только видоизмененная. Потом этот рисунок превращался во что-то другое. Но что было раньше? Сначала было рисование, а уже потом буквы. Сам предмет изображения, это сначала рисунок, а потом условный знак. Фиксация условных обозначений. Пиктография. И насколько он совершенствуется, настолько возникает алфавит. Но сначала был рисунок. Люди так разговаривали, они писали друг другу, или все вместе, или кто-то один всем остальным. Они писали с помощью рисования, и это было понятнее, чем все остальное. Потому что в одном племени гугукали, а в другом мэкали. Изображение открывало им доступ к общению, к обмену первобытной информацией. Куда идти, где повернуть, где, какие звери. Где они есть, где нет. И где стойбище третьего племени, на которое нужно напасть. Это все можно изобразить. И это изображалось. Задолго до всякой азбуки. Можно представить, как они чертили палками на песке, рисовали, перебивая друг друга. Или на стене. Это была жизнь! Азартная. Слов не хватало, переводчиков не было. А изображение было. Ветер поднимался, когда они принимались махать руками. И чертили палками по песку, по глине, на берегу… То, что сохранилось на стенах пещер, – кошкины слезы. Потому что основное рисовалось на земле. Пригладил ладонью и тут же изобразил. Уровень наскального письма отличался тем, что там воспроизводились наиболее совершенные формы. Как у нас. Если ты не художник, то можешь рисовать и рисовать. Как дети рисуют. А потом из этого кристаллизуется некий профессионализм. На более совершенном материале. Появляется претензия на то, чтобы этому изображению задержаться. Стирать уже не хочется, хочется оставить, а потом уже сознательно воспроизвести.

Вначале был бытовой рисунок. Потом за дело брались мастера. Здесь уже пошла летопись. Случилось какое-то событие, нужно его запомнить, не просто рассказать, но сохранить в памяти. Тот же самый прием рисования, но он уже организуется в нечто более компактное. Тема, начало, конец, от сих до сих. Нельзя бежать по берегу километрами и рисовать, рисовать, рисовать. Нужно где-то остановиться. Так возникают ограничения на плоскости. В формате, в размере, куда нужно втиснуться, разместиться. Так возникла композиция. Они рисовали вне пространства, им не нужно было передавать, где дальше, а где ближе. Плоскость изображения вполне достаточна и никакой перспективы им не требовалось. Но ограниченность пространства, справа налево и сверху вниз сжимала масштаб самого изображения. На примере Ассирии это хорошо видно. Стена есть, и на ней нужно всё разместить, в неё необходимо уложиться. Одновременно может ехать колесница с лошадьми, тут же река, волны, воины плывут на мешках, под ними плывут рыбы, а сверху – не дальше и не ближе – едет царь и слуги. Все это в одной плоскости. Потому что дальше стены деться некуда. А композиция – то ли есть, то ли нет. Она есть, потому что в ней есть ограничения, и ее нет в нашем понимании, потому что она не соответствует никаким законам. Куда нужно поместить фигуру, они ее туда и вставляют. И точка. Она может пересекаться с другими самым неблагоприятным образом, но это никакого значения не имеет. Та же деталь – рука, голова лошади, копыто быка или овца – все они настолько достоверны, и неважно, если одно зачеркнуто другим. Или колесо на него наезжает. Это совершенно не важно.

А вот дальнейшее развитие изображения уже шло за счет догадок. Что-то дальше, что-то ближе. Как это передать, как с этим справиться? У древних этой задачи не было, а ближе к нам стали ломать голову, как это все разместить. И где-то стала появляться перспектива. Вначале линейная, простенькая. Которая намекала, что у дома есть разные стороны. Та, которая развернута к нам, и та, которая от нас уходит. А среди людей есть те, которые от нас дальше, и поэтому они меньше. Не настолько, но все-таки меньше.
Это результат умственного развития, а не просто рисования. Здесь уже интеллект ставил задачи, а не само рисование. И вот что смешно. Сейчас, когда композиция разрушена полностью, изображение вернулось назад буквально в доисторические времена. Почему вернулось? Работать головой, когда все это открывали, было трудно. Нужно было решать целый ряд проблем. А в наше время происходят пугающие явления. Вроде бы, мы модернизируемся, имея в виду творческий процесс, ставим некие современные задачи, но сама модернизация идет за счет упрощения. Чем больше упрощаем, тем более мы модернисты. Нам так кажется. Мы придумываем, рассказываем друг другу, что мы придумали, вместе обсуждаем и решаем. Так тому и быть. Это уже не творчество, это договор. Те двигались тысячелетиями, медленно, изобретая, накапливая, мы решаем мгновенно, пришел самый авторитетный, надулся, крякнул, показал, сказал, и готово. Мы тут же старое отбрасываем, мы довольны. И провозглашаем новое завоевание. Забывая, что это уже было. Но тогда было по-другому, без договора, тогда это было открытием. А сейчас?
Вот мы рассматриваем искусство, отдаленное от нас. Мы учимся. Знакомятся те, кто интересуется. Рассматривают из любопытства, лениво. Нет вопросов. А если есть, то они характера бытового, так себе. А это что? А для чего это? Разговоры о сущности, о ценностных различиях между нашим временем и тем – древним о том, что они хотели нам передать, разговоры при этом рассматривании в интеллигентском круге почти неуместны. Все сводится к картинке самой по себе. А в художническом круге, элитном, так сказать, это почти праздный разговор. Потому что мы не прикладываем прошлое к себе. Мы не вникаем, прошлое отстранено от нас. Разве, если вдруг захочется сделать а-ля нечто. Зачерпнуть вдохновения. А сам текст, ради которого все и создавалось, от нас спрятан и добраться до него непросто. Подражать, это, пожалуйста. Но ходим мы по кругу. Конечно, удобнее говорить, что не совсем по кругу, а по спирали. Но если так, тогда вопрос. Чего больше – приобретений или потерь? И куда эта спираль ведет, вверх или вниз?

Древние технологии напоминают двадцатый век. Барельефы, горельефы. Это тысячелетний опыт. Откуда нам иначе его взять. И вот здесь появляются свои загадки. Возьмем голову ассирийского льва. Или собаки. На охоте. В ошейнике. Насколько внимательно выполнено изображение, все зубы сосчитаны. Выражение глаз. У людей выражение глаз одно и тоже. А у животных? Гораздо глубже. Эмоционально животные переданы гораздо сильнее. Он, она, для человека это больше статистика, перечет. Потому они все одинаковые – прически, носы. А животные все разные. Лошадиные головы – нет одинаковых. У одной уши так, у другой – иначе. Ноздри разные. Овцы, козлы, верблюды, бараны – разнообразны необычайно. Греки кормились больше от Мессопотамии, чем от Египта. Переплыть Эгейское море, хоть кораблики были хилые, но все же было можно, не очень большое расстояние. Переплыл, и ты уже в Малой Азии, а там до этой Мессопотамии какой-нибудь месяц хода. Войны, которые тогда велись, покрывали это пространство без проблем. Взял копье и пошел. Туда-сюда, туда-сюда. Типичная античная архаика, одно к одному. Греки за какие-нибудь тысячу лет сумели этот древний задел развить невероятно. Уже сами, в своем поиске. И пришли к тому, от чего уйти некуда. Сходство бросается в глаза. Это еще не греки Перикла, но греки Гомера – это точно. Влияние безусловное.
А теперь имперское искусство Рима. С одной стороны, от Греции отделить нельзя, потому что это его перепечатка, копия. По стилистике, по пониманию природы изображения это то же самое античное мышление. Явно греческое. Самостоятельных, характерных достижений, по-видимому, в римской культуре нет. Она развита, но списана с греческой с одним большим различием – с привнесением другого мировоззрения. Греческий типаж обобщен, они были людьми, но они же были и герои. А тут в Риме – конкретные, предельно узнаваемые живые лица. С обостренной характеристикой, мимикой, индивидуальными чертами. С походкой, позой. Тут адресные конкретные черты, их нельзя трактовать по-другому. Возьмем надгробную римскую скульптуру. Она имеет общечеловеческую, вневременную характеристику. В самом ее контексте вневременные черты, разговор с высшим началом, с богами. Мелкий человек сам по себе никого не интересует. Но он интересен, как тип. Пока ты держишься за землю – жанры могут быть разные, но, если обращаешься к вечности, нужно умело выбирать средства.
Непонятно, кто какими формами пользуется, мы – их, архаическими, или они – нашими – современными. Последующее национальное искусство возникает из общих тем. Из общего пра-рождения. Все решает степень сосредоточенности, чем больше творец сосредотачивается на предмете, тем более высокую задачу он ставит. Сосредоточение мобилизует, а сама потребность в сосредоточении – это социальная задача, она связана с ситуацией, в которой человек живет. Художник и в древние времена был предельно социально обособлен. Чтобы создать такие фигуры, так их разработать, он, оставшись в своем времени, должен был быть талантлив не менее Микельанджело. Наблюдая искусство Возрождения, мы находим его прототипы, мы видим, к кому они обращались во времени. А за теми – первыми мы ничего не видим. То искусство взялось как бы ниоткуда. Мы знаем, что это не так, но для нас там крайняя точка, откуда мы можем начать отсчет. Дальше наши гипотезы, догадки, предположения, но более дальних ориентиров у нас нет. А что там?
В записи одного ассирийского царя есть упоминание, когда он шел в поход с войском, то проходил руины, о которых ничего неизвестно. Так он – озадаченный отметил клинописью: ничего неизвестно. Но откуда-то они взялись. Основания для предположений есть, даже отдельные доказательства есть, но для теории их не хватает. Пра-працивилизации. Непонятно, куда они все делись…
А пока мы располагаем тем, что есть. Хорошо, что Вавилон сохранился. По крайней мере, пока там не устроили военную базу. Дороги заездили, которые простояли тысячи лет… Но это уже из области современного.
А из праистории, куда еще можно дотянуться – Авраам. Он жил в Ассирии. В Уре. Мессопотамии. И двинулся оттуда. Жил в среде, которая пока ни о чем не говорила, никак еще себя не проявила, ничем не обозначила. Все, что мы знаем, началось потом. Случайно или нет, ничего неизвестно…







