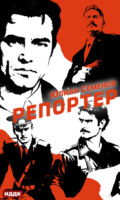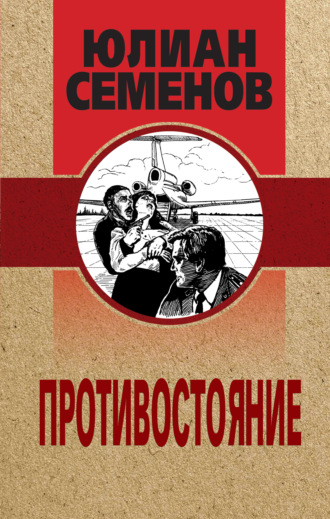
Юлиан Семенов
Противостояние
– Напечатано. – Костенко протянул Загибалову несколько страничек с машинописным текстом.
– Вы, конечно, слыхали, что на трассе, неподалеку от вашего дома, обнаружили расчлененный труп?
– А у Коровкиной тещи бык околел… Мне-то что?
– Какой бык? – не понял Кондаков. – При чем тут теща?
– Это я выражаюсь так, гражданин следователь. У каждого человека своя должна быть система обращения… Нашли труп – хороните. Меня зачем тянуть не по делу?
– Загибалов, – негромко сказал Костенко, – или вы отпетый злодей, или чистый в этом деле. Вы меня послушайте внимательно, вы меня только не перебивайте, вы помолчите, покуда я стану говорить. Кровь на мешке, где лежал убитый, и кровь на кухне – одной группы. Это улика, Загибалов. На расчлененном трупе есть татуировка – ДСК. Вашего подельца звали Дерябин Спиридон Калинович. Это вторая улика.
– Косвенная. – Загибалов с потугом зевнул и задумчиво спросил: – А третье что есть?
– Третьего не дано, – усмехнулся Костенко.
– Про это мы проходили, – сказал Загибалов.
– Где? – поинтересовался Костенко.
– В камере пахан был… Философ… Он – просвещал… Кому там и не дано третьего, а вы меня без этого самого-то третьего не сломите.
– Есть третья улика, – снова включился Кондаков и положил на стол заключение эксперта. – Неизвестный убит и расчленен человеком, имеющим навыки в этой работе…
– Убивать, что ль?
– Расчленять, – пояснил майор Жуков. – Не надо себя так держать, Загибалов… Положение твое сложное, я бы на твоем месте подумал серьезно, как отвечать…
– Вы бы на моем месте ходили на свободе. А поскольку я чалился, что б вокруг ни случилось, все равно буду под подозрением. И думать мне нечего. Это вам надо думать и доказывать. Мне – на нарах лежать.
– Откуда кровь на кухне? – спросил Костенко.
Загибалов долго молчал, потом растер лицо мясистой ладонью и ответил:
– Бабу бил. Банкой по темени, чтоб со Спиридоном не гуляла.
– С Дерябиным? – спросил Жуков.
– Ну… Я его встретил, как брата, вина купил, а он потом к бабе полез под подол. А та – вроде бы и не ей под подол лезут. Ему – на порог, от позору, а ее – воспитал.
«…Сначала мужчины сидели в комнате и пили. Я слыхала на кухне, что муж настойчиво советовал что-то «отдать власти», а неизвестный, с цыганскими глазами, только смеялся. Когда я вошла со сковородкой, на которой была жареная картошка с луком и салом, при мне мужчины ни о чем не говорили, только пили. Потом неизвестный стал оказывать мне внимание, а муж его за это выгнал, а меня избил на кухне, за что я на него не обижена. Сколько денег спрятал в карманы неизвестный, точно сказать не могу, но в толстых пачках были сторублевые бумаги. С моих слов записано правильно.
Загибалова Р. П.»
Ретроспектива-II
Ночью Кротов почувствовал на своем плече чью-то руку.
Проснувшись, он не сразу открыл глаза. Несколько мгновений раздумывал, что бы это могло значить, – годы службы в диверсионной группе РОА приучили ко всякого рода неожиданностям, немецкая тюрьма – тоже, а здесь и вовсе концлагерь, всего можно ждать.
«Вчера вроде б все было в порядке, – быстро думал он, – да и вся неделя прошла нормально. А что я сказал Рыжему? Я сказал, что погибать надо с музыкой, а лучше не погибать, а обзавестись. Он спросил, что значит «обзавестись», и в глаза мне не смотрел, поэтому я сказал, что обзавестись надо ножами, чтоб большевиков резать тогда, когда патроны кончатся. Может, они мне сейчас клеить станут, что я клеветал на экономическую мощь рейха? Отвечу, что я имел в виду патроны в моем мешке, а не на заводах Германии».
Он сыграл испуг, взметнулся на койке, но рука еще сильнее сжала его плечо: над ним стоял офицер в черном.
«Ну, точно, сейчас поволокут, – понял он. – Где ж я что мог ляпнуть-то, а?»
– Одеваться? – спросил Кротов шепотом.
Черный кивнул:
– Только тихо, чтобы не разбудить соседей…
И вышел из блока.
…В комнате лагерного коменданта было трое: тот, в черном, один в форме зеленых СС и один в штатском. Штатский заговорил на хорошем русском:
– Мы пригласили вас потому, что верим вам. Тот досадный инцидент, который имел место быть год назад, забыт. Согласны подписать бумагу, которая гласит, что вы будете расстреляны на месте за разглашение тайны, в которую вас посвятят?
– Я такую бумагу подписывал, когда меня к большевикам первый раз забрасывали, и здесь, в лагере, подписывал.
– Вас забрасывала армейская разведка, здесь вы работаете на гестапо, а сейчас вы приглашены СД.
– Спасибо за доверие…
– Итак, вы готовы?
– Готов… Только интересуюсь, что за дело, если оно еще одной такой бумаги требует?
– Вы что, еврей, Кротов? – спросил тот, что был в зеленой форме СС. – Только жиды так торгуются. Это недостойно человека, которому позволено связать свою судьбу с рейхом.
Кротов спросил:
– Где бумага?
Штатский открыл папку, достал оттуда листок с приколотой фотографией Кротова, подвинул ему, протянул перо. Кротов машинально отметил, что «Монблан». Если с золотым пером, стоит семьдесят марок, большие деньги. Подписал, не читая, тем более что они со своим готическим шрифтом совсем озверели, это у них Розенберг сказал: «Каждый немец должен писать лишь готикой, это угодно нашему национальному духу, это отличает нас ото всех других европейцев, это старина и традиция, а нация вне традиций утрачивает самое себя».
Штатский подвинул себе листочек, достал из другой папки лист бумаги, где был крупно выпечатан образец подписи Кротова, сравнил, удовлетворенно улыбнулся, спрятал обе бумажки в третью папочку:
– А теперь пройдите в ту дверь, там вас ждут…
За металлической дверью, в комнате, сидел небольшого роста человек, тоже в черном. Дымчатые очки закрывали его и без того маленькое лицо, сморщенное болезнью.
– Здравствуйте, Кротов, садитесь, – сказал он с чуть заметным акцентом.
Кротов оглянулся – стула в комнате не было. Собеседник словно бы и не заметил этого, продолжал:
– Вы удостоены большой чести, Кротов, чести и доверия рейха, запомните это. Излагаю суть дела: великий фюрер германской нации Адольф Гитлер издал приказ о тотальной эвакуации всех тех районов – особенно в Восточной Пруссии, – где возможны прорывы большевистских десантов. Ясно, что долго они там не задержатся, однако возможность десанта мы, исповедующие правду, не исключаем. Получены сведения о концентрации большевиков на границе, о готовящемся ими ударе. По нашим сведениям, далеко не все жители деревень и городов подчинились приказу фюрера: ими движут алчность и трусость, страх расстаться со своей скотиной, а это – преступление перед рейхом, ибо вместо выжженной земли большевики получат теплые дома и парное молоко. Люди, не подчинившиеся приказу фюрера, перестают быть немцами, они становятся для нас недочеловеками – вам понятно значение этого слова, надеюсь?
– Понятно.
– Таким образом, вы до конца оценили высокую принципиальность фюрера, если покарать арийцев поручено вам, славянину?
– То есть как?
– Двадцать человек – из формирований Власова – будут переодеты в форму красноармейцев. Вместе с вами пойдут два моих офицера. Вы должны будете зверски вырезать, – отчеканил черный, – всех тех, кто ослушался приказа фюрера. Я развязываю вам руки: женщины – ваши, часы – ваши, золотые кольца – ваши. Ни один человек не должен остаться живым в той деревне, куда вас забросят.
– А потом? – охрипнув от внезапного страха, спросил Кротов.
– Вы правильно поставили вопрос. Нет, вас не уничтожат, чтобы на месте получить «доказательство красных злодеяний». Именно вас не тронут. И трех ваших спутников, которые станут командовать пятерками. Вы же – вы и трое ваших коллег – будете ходить из дома в дом и там, на месте, ликвидируете своих людей по мере того, как они завершат свою работу. После этого эвакуируетесь на двух мотоциклах в тот пункт, который известен лишь моим офицерам.
– А ваши офицеры ликвидируют нас, как мы – людей из своих пятерок?
– Вы еще более правильно поставили вопрос, Кротов. Не поставь вы этот вопрос, я бы приказал вновь изолировать вас, потому что понял бы вашу неискренность и желание перебежать к красным из немецкой прифронтовой деревни. Дело заключается в том, что мы придаем вам пять человек, которым мы верим. Да, да, верим… Однако они, в силу своих умственных способностей, лишь компрометируют нас своим сотрудничеством. Понятно? Вы ведь встречали в тюрьме тех славян, которые вызывали у вас брезгливость?
– Встречал.
– А почему они вызывали у вас брезгливость? – тихо, другим голосом спросил черный. – Объясните мне, пожалуйста, Кротов, причину возникшей у вас брезгливости по отношению к людям одной крови?
– Безмозглые. Быдло.
– Что такое «быдло»?
– Вроде стада…
– А еще?
– Все.
– А не вызвало у вас брезгливости то, что они были слишком русскими?
– Это тоже. Мужики.
– Вы тяготеете к европейской культуре. Так что учите язык, нам это нравится. Вы нам будете нужны – не считайте, что предстоит только та операция, о которой я вам сказал. Предстоят операции в России, как только мы отбросим варварскую лавину. Вы нам будете очень нужны, на кого-то надо опираться, не на спившихся же бургомистров… Ничего, как это у вас говорят: на ошибках учимся? Мы не боимся учиться на ошибках, мы их учитываем… Теперь последнее: какие у вас пожелания? Соображения? Может быть, вы намерены отказаться? Да, кстати: после завершения операции получите пятидневный отпуск в Берлин и премию, так что, – черный усмехнулся, – денег в ювелирном магазине фрау Пикеданц искать не придется.
– Спасибо. А соображение у меня есть…
– Пожалуйста.
– Каким оружием ликвидировать участников операции?
– Немецких изменников или ваших подопечных?
– И тех и других.
– Первый вопрос – не ваша компетенция, с участниками операции уже работают, у них русские ножи, русское оружие… У вас будет немецкое оружие. Убирайте ваших выстрелами из автомата, с контрольным, повторным выстрелом – гарантия смерти должна быть абсолютной.
– Так если я в деревенском доме одного пристрелю, другие всполошатся, думы-то у всех одинаковые…
– Далеко не у всех. Вопрос, подобный тому, который вы задали мне – по поводу вашей дальнейшей судьбы, – ни у одного из отобранных для операции не шевельнулся в голове. И потом два моих офицера будут создавать шумовой эффект, стрелять постоянно… Хочу еще раз предупредить: поскольку вы отвечаете за свою пятерку – никаких улик не должно остаться, ничего немецкого не должно быть с ними, никаких, словом, следов. Проверьте даже резинки в кальсонах – немецкие ли…
– Русские кальсоны на резинке не одевают. У нас на пуговице.
– Ну тогда я спокоен за успех дела, если вы так четки в мелочах.
Операция действительно прошла успешно, выступил Геббельс:
«Красноармейские варвары убивают немецких женщин и детей по заданиям своих комиссаров».
7
…Старуха Потапова, которая «просигналила» о картежниках, встретила Костенко настороженно.
– Она глуховата, – пояснил Жуков, – и потом, к ней всегда сержант в форме ходит, участковый, она штатским не верит. Громче с нею говорите и удостоверение достаньте, она это любит.
Красный кожаный мандат с гербом и золотыми буквами «МВД СССР» действительно оказал на старуху моментальное действие. Она пригласила гостей в комнату, сунула недоштопанные чулки под подушку, смахнула со стола крошки на пол, обмахнула ладонью стул, подвинула Костенко, Жукову предложила табуретку.
– Матушка, – прокричал Жуков дурным голосом, – начальник по твоему сигналу из Москвы приехал!
– Из Москвы прилетают, – поправила его старуха тихим, вкрадчивым голосом: в отличие от иных, тугих на ухо, она говорила чуть что не шепотом.
– Я по поводу картежников! – прокричал Костенко.
Потапова, внимательно глядевшая на его лицо, увидела, видимо, как напряглись жилы на шее полковника – он кричал редко, с детства страдал ангинами, – усмехнулась беззубой, кошельковой улыбкой:
– А вы чего кричите, будто я глухая? Вы нормально со мной говорите.
– Вот змея, – заметил Жуков, – скучно ей…
– Чего? – спросила старуха, и лицо ее сделалось на какое-то мгновение растерянным – она не смотрела на Жукова, поэтому не смогла прочесть по губам его вопрос. – И ничего подобного!
– Я сказал – «хорошая ты старуха», – сказал Жуков, – а ты: «ничего подобного»…
– Матушка, – снова прокричал Костенко, – мы к вам по поводу картежников!..
– Кнута ноне нет, – вздохнула старуха, – вот и играют. Раньше б шею свернули и правильно б порешили, а сейчас цацкаются…
– Раньше лучше было? – прокричал утверждающе Костенко.
– А как же! Куда как! Порядок был…
– А пенсию раньше какую вам платили?
Старуха заливисто рассмеялась.
– Так я тогда работала, когда раньше-то было! Пенсия, понятно, ноне лучше. Плохо то, что страха нет.
– Вот по прежним-то хорошим временам мы сейчас тебя и повезем на допрос, – сказал Жуков, – будешь доказывать, что картежников видала, все подробности нам отдашь, а то за ложные показания привлечем…
– А ты меня чего пугаешь? – еще тише спросила старуха. – Я свои права знаю, зараз с тебя погоны-то сыму за такое отношение к трудящей! Ишь!
– Ладно, матушка, – остановил ее Костенко, – давайте-ка по делу. Вы что, подкрались к окошку?
– К какому еще окошку я подкралась?
– К тому, за которым бандюги в карты играли…
– А… Нет, не кралась я… Мимо проходила, ну и услыхала, как они собачились.
– А чего не поделили? – спросил Костенко. – Чего собачились?
– Козыри называли.
– Врет ведь, стерва, – тихо сказал Жуков, – козыри блатные шепотом называют, а она вовсе глухая.
– Какие они из себя?
– Морды, одно слово, – ответила старуха.
– Блондины? Брюнеты? Бритые? – уточнил Костенко.
– Всякие, – ответила бабка. – Я ж написала, чего больше-то с меня хотите? Или, может, запретите трудящему человеку властям писать?
– Пишите, матушка, пишите, – сказал Костенко. – Только в один прекрасный день, когда вы письмо на почту понесете, настоящий жулик к вам в комнату влезет и сберкнижку утащит.
– Чего?! Это как же?!
– А так же! – прокричал Жуков. – Мы ж проверяем твои сигналы, старая. Значит, милиционер будет вокруг того дома ходить, где ты бандюков видала, а твой безнадзорным окажется.
Потапова хотела было сказать что-то, но потом вздохнула:
– Путаете вы меня чего-то, путаете…
– Бабушка, – сказал Костенко, поднимаясь, – вас не путают, вам дают совет: вместо того чтобы писать, вы лучше приглашайте к себе участкового и ему все новости сообщайте устно.
– Как?
– Словами говори! – прокричал Жуков. – Только писем не пиши, начальник тебе добро советует.
Ночью Костенко переселился в отель – уехал Кобзон, освободился люкс, однако поспать ему снова не удалось: только-только прилег, как постучал Жуков.
– Что, майор? – спросил Костенко, не открывая еще глаз. – Нашел супостата?
– Вы мне сначала завизируйте приказ, – ответил тот, – на премию эксперту.
– Сложил отпечатки в таблицу?
– Пока еще нет, но вроде бы получается.
– Когда получится – тогда б и будил.
– Мы Спиридона нашли! – торжествующе сказал Жуков. – Жив, сукин сын.
– Ну?! – Костенко потянулся сладко. – Значит, версия ваша летит к чертям?
– Еще к каким!
– Загибалова освободили?
– Да. Пьет уж дома.
– Как же вы Дерябина-то выловили?
– Случай. Я телефонограммы во все отделения отправил, а там, в Сольгинке, дежурил охотник, сержант, так он с Дерябиным неделю как назад с песцами вернулся.
8
Вертолет прилетел в Сольгинку через два часа. В дороге Костенко «добрал» сон – пилоты натопили в кабине: «ташкент», благодать.
…Дерябин оказался высоким мужчиной, действительно «видным». Костенко вспомнил слова жены Загибалова: у этой ударницы губа не дура.
– Ты чего ж матери письмо не отправил? – спросил Костенко. – Старуха все глаза выплакала, тебя ожидаючи.
– Не меня, – ответил Дерябин, – алименты.
– Матери денег пожалел? – спросил Жуков.
– Да не жалел я ей ничего. Когда меня «Загни и отчлень» выгнал, я деньги-то прогулял. С чем ехать к старухе? Ну, она, понятно, на алименты… Сестра, паскуда, натравила, они с ее мужиком завистливые, на чужую деньгу беспощадные… Вот, все думал, заработаю по новой и полечу к бабке…
– Поэтому молчал? Притаился? – спросил Жуков.
– Ну, – по-сибирски, утверждающим вопросом ответил Дерябин.
– А с кем в авиапорту гулял? – спросил Костенко.
Жуков стремительно глянул на полковника: тот ставил силки – убийство неизвестного «ДСК» и драка у Загибалова произошли почти в одно и то же время.
– Да разве упомнишь? Там такой гудеж стоял: когда бухие – все братья, только с похмелюги готовы друг дружку на вилы поднять.
– А маленький такой мужичок с вами не пил?
Жуков не сразу понял вопрос Костенко, потом вспомнил заключение экспертизы о размере обуви («убитый носил тридцать девятый – сороковой размер»), снова подивился тренированности полковника: как большинство практиков, работающих далеко от центра, он считал столичных теоретиками.
Дерябин как-то по-особому глянул на Костенко и спросил:
– А чего это вас маленькие интересуют?
– Театр лилипутов хочу открыть, – рассердился Костенко. – Вы отвечайте, когда спрашивают, Дерябин.
– Так ведь это моя добрая воля, – ответил тот, – отвечать вам или нет. Сейчас время другое, мы сейчас под законом живем.
Костенко усмехнулся, посмотрел на Жукова.
– Вот поди разберись, – сказал он и по тому, как нахмурился Жуков, понял, что майор тоже вспомнил глухую старуху Потапову, сетовавшую на «нынешние порядки».
Дерябин достал из кармана «Герцеговину Флор», неторопливо раскурил длинную папиросу, глубоко затянулся и ответил:
– Помнится, маленький какой-то был.
– Почему запомнили? – поинтересовался Костенко. – Из блатных? Поделец?
– И не блатной, и не поделец, но тоже свое сидел – шофер, сшиб кого-то, получил срок.
– Фамилию не помните?
– Имени даже не помню, начальник, откуда ж фамилию-то?
– Примет никаких особых не было? – спросил Жуков. – Наколки, например?
– Наколка была, – ответил Дерябин, подумав. – Только не помню какая.
– На правой руке? – спросил Костенко.
– Нет. На левой вроде бы…
– Якорь? – подстраиваясь под Костенко, спросил Жуков.
– Только не якорь, – ответил Дерябин. – Буквы скорее, а какие – не упомню я, говорю ж, бухой был до остекленения…
– А о чем говорили? – спросил Костенко. – Может, он какое имя называл? Улетал из Магарана? К кому? Куда? Или прилетел?
– Имя он называл, – сказал Дерябин, – он Дину какую-то называл, это помню. «Не женщина, – говорит, – а бульдозер. Для тела подходит, душу не трогает». Маленькие все здоровенных любят, к надежности тянутся… Это мне карлицу подавай, а как какой низкорослый – тот норовит к громадине приладиться.
«Москва. УГРО МВД СССР, майору Тадаве.
Срочно установите, не обращалась ли в отделения милиции по стране женщина по имени Дина, отчество и фамилия неизвестны, однако могут начинаться с букв «С» и «К», в связи с розыском пропавшего без вести мужчины в период с октября по апрель?
Костенко».
«Магаран. УГРО ГУВД СССР.
Прошу установить, не обращалась ли в отделение милиции края женщина по имени Дина в связи с розыском пропавшего без вести мужчины. Ответ радировать в Сольгинку.
Жуков».
Ответы пришли к вечеру – в обоих случаях отрицательные.
Дальнейший допрос Дерябина никаких результатов не дал.
В три часа ночи Жукова разбудили – на связь по рации вызывал научно-технический отдел управления.
– Судя по дактилоскопии, – записывал радист, – убитым был Минчаков Михаил Иванович, 1938 года рождения, шофер, осужден за наезд.
Дерябина будили долго – храпел он богатырски, грудь вздымалась ровно, как океанский прибой. Открыв глаза, он не сразу понял, чего от него хотят Костенко и Жуков, норовил повернуться на бок, по-младенчески чмокал губами, ладошку подкладывал под щеку.
– Да не спи же! – озлился наконец Жуков. – Того коротышку Минчаков звали?
Сначала Дерябин нахмурился, потом широко открыл глаза, резко поднялся с кровати:
– Точно! Миня! Минчак!
– Откуда он в Магаран прилетел? – спросил Костенко.
– Ей-богу, не говорил! Погодите, он вроде б улетал. Точно, говорил, на Большую землю подается.
– Ну-ка, Спиридон, ты по порядку все теперь вспомни: тут каждая мелочь важна, – сказал Жуков. – Теперь легче тебе будет, кончик мы ухватили.
– Против меня копаете? – спросил Дерябин, одеваясь. – Или я – в чистоте для вас?
– Вроде бы вы ни при чем, – сказал Костенко.
– Он при деньгах был? – спросил Жуков. – Не помнишь, Спиридон?
– А говорите – чистый… Ясное дело, капканы ставите… Неужто думаете, на мокруху пойду? Я ж в полной завязке, зарабатываю по шестьсот в месяц.
– А после аэродрома, когда в ресторане с Минчаком кончил гулять, ни копейки в карманах не осталось, – заметил Жуков.
– Да разве я с ним одним гулял?! Сколько народу напоил?! Роту, ей-богу, роту целую сквозь свой стол пропустил! Если б я его молотнул – зачем мне сюда возвращаться? Я б к маме полетел. Да вы буфетчика в ресторане спросите, он меня вниз сволок, когда я за столом уснул… Может, он Миню помнит?
– Спросим, – пообещал Костенко. – Обязательно. Только припомни, что тебе Миня говорил? О чем? О ком?
– Говорить-то говорил, да не помню что… Истый крест, помнил бы – помог. Про Дину помню, а потом – провал…
– Давай, давай, – сказал Жуков, – напрягись, «Простата»…
– Погоди, – лязгающе застегнув офицерский ремень, сказал Дерябин, – вспомнил. Тогда ж рейс отменили, снег валил, поэтому и гудеж шел… Или перенесли на утро, или отменили… И я б улетел, и Миня… Точно, буран начался, в диспетчерской сказали, что до утра откладывается, ну и понеслось – Россия! Она – стихия, и мы стихийные.
– Сколько классов кончил? – спросил Жуков.
– Фюнф, – ответил Дерябин. – Неполно-среднее, так пишу в самодоносках.
Костенко рассмеялся:
– Это про анкету?
– А про чего ж еще? Про нее, родимую – ври, не хочу, зато подшита, и обратно в характеристике: «Выдержан, хорошие показатели, привлекался, но смыл».
– Слушайте, а Миня за столом платил? – спросил Костенко.
– Он платить хотел, что правда, то правда. Но я выступал тогда, запретил ему и копейку тратить. А пачки денег у него были здоровые, он их с трудом из кармана доставал, как винт вывинчивал. Я-то все просадил… А может, потерял…
– Почему в милицию не заявил, что деньги пропали, Спиридон? – спросил Жуков.
– Я было думал… А потом похмелился и ну, решил, всех к едрене фене – затаскаете…
– А Минчакова утром уже не было? – спросил Костенко.
– Нет. Не было, – ответил Дерябин убежденно. – Неужто погубили масенького?
– Дерябин, – еще ближе подавшись к Спиридону, тихо сказал Костенко, – а тебе Загибалов что предлагал власти сдать? Золото?
– Раскололся, – покачал головой Дерябин, – до задницы, гляжу, раскололся… Самородок я нашел, ну и думал с собой взять, а он говорил – продай власти…
– Продали?
– Мине продал, – ответил Дерябин. – Вроде бы за пять косых, пьяный дурак, отдал… Потому руки-то его и запомнил, иначе б разве осталась в памяти эта Дина?! У него «Д» на руке было наколото, про «Д» сейчас точно вспомнил…
«Магаран. Костенко. По месту нахождения.
Минчаков освобожден из колонии досрочно. По наведенным справкам, жил и работал – после освобождения – в поселке Знаменское.
Тадава».
«Поселок Знаменское, дежурному по отделению.
Срочно установите в сберкассе поселка, когда и сколько снял со своего счета Минчаков Михаил Иванович, взял ли наличными или положил на аккредитивы.
Костенко, Жуков».
Дежурный в Знаменском оказался парень быстрый. Он пришел в дом заведующего сберкассой Зусмана в шесть утра, а в шесть сорок вызвал к рации Жукова – имя Костенко ему ничего не говорило.
– Минчаков снял со своего текущего счета 4592 пятнадцать тысяч рублей 12 октября прошлого года. Деньги положил на три аккредитива, номера 56124/21, 75215/44, 94228/97 в тот же день, товарищ Жуков.
– С вами говорит Костенко…
– Кто-кто?!
– Костенко.
– Откуда вы? – поинтересовался дежурный.
– Из Москвы.
– А Жуков где?
– Рядом.
– Как в Москве дела? Тепло уж небось? – Дежурный перешел на лирику.
– Тепло! – рявкнул в рацию Жуков. – Вы начните опрашивать всех, видавших Минчакова перед отъездом, мы сейчас к вам вылетаем. Как у вас погодные условия?
– Сядете. Снег начался с дождем, но мы фарами посветим.
9
Фары были, однако, едва видны, вертолетик болтало из стороны в сторону, ветер шквальный.
– Не сядем! – прокричал пилот штурману.
Жуков услышал, крикнул:
– Надо сесть!
– Не надо, – сказал Костенко. – Что это за манера давать категорические советы? Вы пилот или он?
Жуков усмехнулся:
– Боитесь, что ль?
– Конечно. А вы – нет?
– Мы здесь привычные.
– Я, знаете, тоже привычный, только гробиться зазря не хочу.
Жуков, видимо, перед вылетом выпил, озорничал поэтому.
– Ребята, – прокричал он пилотам, – полковник боятся, велят поворачивать назад!
Пилоты назад не повернули, начали зависать.
Спускались медленно, болтало.
– Бутылка-то есть? – спросил Костенко.
Жуков достал из кармана плоскую фляжку:
– Спирт. Дышите потом глубже.
– Вы меня кончайте учить, – усмехнулся Костенко, – ишь, Монтень выискался.
– Как вас не учить, коли первый раз на Севере!
– Я, Жуков, на Севере был еще более дальнем, парнем еще, когда глухая старуха Потапова трудилась в поте лица и о пенсии не мечтала. Ясно?
…Третьим – из тех двадцати, что вызвали на допрос, был слесарь Лазарев. На вопрос Костенко ответил уверенно:
– Нет, он в штатском улетал. Откуда у него форма? Я ж Миню до вертолета на мотоцикле довез…
– А может, у него в чемодане форма была? – спросил Жуков.
– Да нет же! Зачем она ему? На флоте он никогда не служил, пижоном не был… Да и потом, поселок маленький, все у всех на виду, мы б знали, товарищ майор. Я могу сразу сказать, что у него было: шкафом-то не обзавелся, весь гардероб на крючке за дверью висел, под марлей. Кожанка была, рубашек было несколько, ну, и спецовка там… Бушлат…
Жуков поглядел на Костенко, тот отрицательно покачал головой, но все же спросил:
– Бушлат с какими пуговицами? С черными?
– Конечно, не с медными, – ответил Лазарев, – те на морозе не застегнешь, все пальцы поломаешь, кожа прилипнет, разве можно?
…Буфетчица Трифонова прибежала к Жукову вечером, уже после того, как дала показания:
– Ой, вспомнила, товарищ майор, у него первая любовь в Магаране живет.
– Ну?! А как зовут? Где работает?
– Он скрытный, этот Минчаков, никому не открывался. Как освободился, как перешел на вольную, так бобылем и остался жить: деньги заколачивал, по тысяче в месяц брал. Организованный был мужик: одну субботу выберет, придет в буфет, купит пару бутылок – значит, будет гулять. Один. Раз только, помню, автобус отходил, на магаранский вертолет, Минчак у меня в буфете стоял, вздохнул, помню, и сказал: «А у меня там первая любовь живет».
– А вторая где?
– Чего? – не поняла женщина.
– Ну, если «первая» любовь, значит, и «вторая» – по логике – должна быть.
– Да кто мужиков поймет? У вас своя логика, у нас – своя. Первая, может, и была, а потом чередою пошли, со счета сбился, помнят-то первое, потом стирается все…
Костенко осмотрел маленькую комнату Минчакова тщательно. Сначала сел на койку, заправленную серым одеялом, закурил, бросил спичку в стеклянную банку, вспомнив при этом отчего-то жену Загибалова, и начал медленно по секторам исследовать минчаковское жилье.
Митя Степанов, вернувшись из очередной своей командировки, рассказывал, как работают молоденькие девушки в охране президента США. «Они, понимаешь ли, Слава, хорошенькие, что – немаловажно. И поэтому на них любопытно смотреть. Но потом делается страшновато: когда их шефы сидят в зале переговоров, девушки кокетничают с прессой, милашки, одно слово, но стоит хозяевам появиться, они меняются неузнаваемо. Все прежнее: и фигурки, и овал лица, и рот, только глаза делаются другими и скулы замирают. Понимаешь, глаза их перестают быть обычными, человеческими. Голову они не поворачивают, лишь глаза, как на шарнирах, очень медленно, контролируют свой сектор, кто бы ни попал: журналист ли, ребенок, старуха – никакого выражения, лишь напряженное ожидание опасности».
Костенко попробовал так смотреть и с удивлением обнаружил, что эдакое разглядывание действительно позволяет видеть значительно больше; сектор – он и есть сектор – изначально заданная конкретика.
Поэтому сейчас, зябко поеживаясь в комнате Минчакова, – печка не топлена, холоднее, чем на улице, – Костенко начал шарнирить глазами.
Стол, накрытый газетами. Газета районная, значит, центральные не выписывал, хотя поди их сюда выпиши. Но районные получал. Интересно: подписался ли до конца года? Если – да, следовательно, рассчитывал вернуться. На почте могут помнить, кому писал, от кого получал письма. Значит, почта. В столе один ящик, там, видно, посуда, ножи, вилки. Два табурета. Крючки, на которых висел «гардероб», о котором рассказал Лазарев. Остался старый пиджак, такие в деревнях деды носят, с мятыми, обвислыми лацканами, пуговица одна, но зато пришита накрепко…
«Наверное, Тадава не может со мной связаться, – подумал Костенко. – Видимо, все установочные данные на Минчакова он уже получил… Неужели бобыль? Молодой ведь мужик. Ни матери, ни отца? А Дина где? Интересно, Жуков запросил Магаран по поводу всех Дин, там живущих? Толковый мужик, хорошо работает».
Костенко поднялся с кровати, пружины тонко прозвенели. Подняв матрац, глянул, нет ли там чего – чисто. Открыл ящик стола: две тарелки, три вилки, два ножа, большая ложка, видимо, ею же и сахар в стакане размешивал и щи хлебал.
«А вот латыш, – подумал Костенко, – комнату бы обжил. Уж про немца и говорить нечего. А наши забили деньгу – и обратно. Сами себя люди теряют. Временность. Невосполнимо это, пропавшие годы, надо всегда сразу же обживаться, чтоб каждый твой ночлег на земле остался в памяти радостью и красотой. Отчего это у нас так? От неуверенности, что ль? Или от мятежности духа – тянет все куда-то, тянет… Кто это сказал – стихийные мы? Дерябин? Да. Он. А что? Тоже ответ. Да только верный ли? Пространства, пространства, так их и так, хотя, с другой стороны, на них в конечном счете надежда, на пространства-то».
Костенко приподнял газету, на которой лежали ножи и вилки, увидел старый, со следами жира, конверт. Письмо Минчакову М. прислала из Магарана Д. Журавлева, Портовая, двенадцать, квартира семь.
Костенко осторожно открыл конверт: письма не было. Адрес зато есть. Тут больше делать нечего, вспомнят что люди – скажут участковому Гуськову, парень оборотистый, сообщит в момент…
10
– Журавлев Роман Кириллович, – медленно читал Жуков, – ветеринар, 1939 года рождения, образование среднеспециальное, жена Диана 1946 года рождения, образование…
Костенко перебил его:
– Вы погодите про образование… Диана? Сокращенно – Дина. Ну?
– «Первая» любовь, что ль? – спросил Жуков. – Вы это имеете в виду?
– Это.
– Никакая она не «первая» любовь, – ответил Жуков. – Мои парни все ее документы прочесали, первый раз замужем.