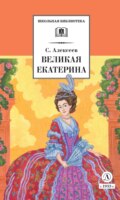Сергей Алексеев
Собрание сочинений. Том 3. Упрямая льдина. Сын великана. Двадцать дней. Октябрь шагает по стране. Братишка. Секретная просьба
© Алексеев С. П., наследники, 2014
© Алексеева В. А., составление, 2014
© Непомнящий Л. М., иллюстрации, 1982
© Поляков Д. В., иллюстрации, 2014
© Пчелко И. И., наследники, иллюстрации, 1988
© Гальдяев В. Л., наследники, иллюстрации, 1987
© Григоренко М. В., дизайн оформления, 2014

Упрямая льдина
Рассказы о празднике Первого мая
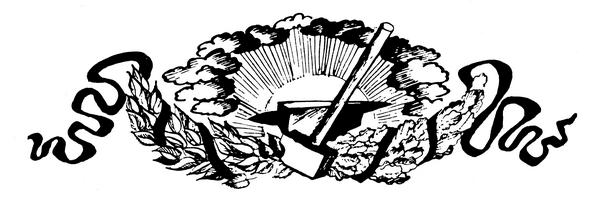
В 1866 году рабочие американского города Чикаго объявили забастовку. Капиталисты жестоко расправились с ее участниками: несколько человек было казнено, многие брошены в тюрьмы.
Забастовка американских рабочих произошла первого мая. В память об этом событии трудящиеся всех стран решили ежегодно отмечать Первое мая как день борьбы против угнетателей. Они договорились Первое мая объявить международным праздником – Днем солидарности трудящихся всех стран.
Из рассказов, вошедших в книгу «Упрямая льдина», вы узнаете, как отмечали Первое мая трудящиеся нашей Родины до Великой Октябрьской социалистической революции.
В лесу у Емельяновки

Деревня Емельяновка лежала в стороне от проезжих дорог, верстах в трех от Петербурга. За деревней – лес, сразу за лесом – берег Финского залива.
Ничем не примечательна Емельяновка: домов в ней немного, жители мирные. Никаких историй, никаких происшествий.
И лес как лес, ничего в нем особенного: сосна да береза, кусты колючей малины, заросль орешника. Редко кто забредал сюда из прохожих.
И вдруг…
Крутился однажды местный мальчишка Санька Лапин около леса, глянул – два неизвестных. Прошли неизвестные полем, осмотрелись по сторонам, скрылись в орешнике.
«Кто бы это? – подумал Санька. – Парни молодые, здоровые. Вдруг как разбойники!»
Хотел было мальчишка подкрасться к орешнику, да не решился. Обошел стороной, выбежал к заливу, смотрит – у берега лодки: одна, вторая, третья… Из лодок выходят люди, тоже озираются по сторонам и направляются к лесу. Бросился Санька назад в деревню, к дружку своему Пашке Дударову.
– Паш, Паш! – зашептал он. – Люди, человек двести!
– Брось врать!
– Не сойти с места.
Побежали приятели к заливу. Смотрит Пашка: действительно лодки!
Помчались в лес. Идут осторожно, крадучись. От куста к кусту пробираются. Вышли к поляне – народу! Стоят полукругом. В центре – плечистый рабочий. Развернул красное знамя. Заговорил.
Обомлели ребята, залегли за кустом, притихли.
– Сегодня мы, петроградские рабочие, собрались сюда… – долетают до Саньки и Пашки слова оратора. – Нас мало сегодня, но близок час народного пробуждения…
Выступающий говорил долго, а кончил словами:
– Да здравствует наш пролетарский праздник!
Санька толкнул Пашку:
– Про что это он?
Пашка пожал плечами.
Вслед за первым рабочим выступил второй, затем третий, четвертый. Все говорили о тяжелой доле трудящихся, о том, что надо бороться за лучшую жизнь, и снова о празднике.
Два часа под кустом пролежали ребята. Сходка окончилась. Рабочие начали расходиться небольшими группами. Переждав немного, поднялись и мальчишки. Идут гадают: что же такое было в лесу, о каком это празднике говорили рабочие?
Вернулись ребята в Емельяновку, решили разузнать у старших.
Санька отцу рассказал про сходку, про знамя.
– А вы не придумали? – усомнился отец.
– «Придумали»! Мы же видели. Мы под кустами лежали.
Пожал Санькин отец плечами. Ничего объяснить не смог.
Расспрашивали ребята у матерей, к тетке Марье ходили, к дяде Егору бегали. Да только никто ничего не знал о рабочем празднике.
Помчались ребята к деду Онучкину. Он самый старый, уж онто наверное знает. Онучкин принялся объяснять, что праздники бывают разные: Рождество, Пасха, день рождения царя, день рождения царицы…
– Не то, не то! – перебивают ребята.
– Есть еще Сретенье, Крещение, Троицын день.
– Ты давай про рабочий праздник! – кричат.
– Про рабочий? – Старик задумался. Почесал затылок. Развел руками. Не слыхал он о таком празднике.
Так ничего и не узнали приятели.
А происходило в лесу деревни Емельяновки вот что: русские рабочие впервые отмечали Первое мая. Было это давно, в 1891 году.
Только о том, что же это за праздник Первое мая и почему его отмечают, Санька и Пашка узнали не скоро – много лет спустя, когда уже выросли, когда сами стали рабочими.
На Обуховском заводе
Трудна, безысходна жизнь рабочих. Работали по двенадцать, тринадцать, четырнадцать часов в сутки. А получали гроши. Чуть что – штрафы. Не лучше других жилось и рабочим Обуховского оружейного завода.
В апреле 1901 года обуховцы заволновались:
– Хватит!
– Натерпелись!
– Пусть ставки повысят!
– Штрафы, штрафы долой!
Объявили рабочие забастовку.
Хозяин завода приказал для острастки уволить 26 человек с работы.
Забегал слесарь Афанасий Никитин.
– Братцы, – кричит, – приступайте к работе. Так они нас всех уволят!
Только рабочие не послушались Афанасия Никитина, не испугались: к работе не приступили. Мало того, предъявили хозяину новые требования: уволенных немедля восстановить, рабочий день сократить, а подумав, добавили и еще одно – разрешить открыто праздновать Первое мая.
Прошел день, второй, третий. Прошла неделя, наступила вторая.
Не дымит, не работает Обуховский оружейный завод.
Слесарь Афанасий Никитин и вовсе перепугался.
– Братцы! – уговаривает он рабочих. – Так нет же силы в наших руках. Все равно не будет по-нашему. Только хуже себе…
Не слушают рабочие Никитина.
Прошло Первое мая. Следом – еще неделя. Не прекращается забастовка. Вызвал тогда хозяин войска. Окружили войска завод.
Построили рабочие баррикады, приготовились к обороне.
– Братцы! – не унимается Афанасий Никитин. – Пожалейте себя. Братцы, нас же солдаты, как зайцев…
Двинулись солдаты на баррикады, открыли стрельбу. А что у рабочих? Камни да доски. Продержались полдня на баррикадах, сломили войска рабочих.
Арестовали в этот день 800 человек. Судили. Многих отправили в Сибирь – на каторгу.
Так ничего и не добились рабочие.
– Говорил я, предупреждал, – опять завел про свое Афанасий Никитин. – Нет же силы в наших руках. Не стоило начинать.
– Начинать, говоришь, не стоило?! – возмущались рабочие. – Да в любом деле главное – начать. Силы, говоришь, нет? Эх ты! Сила в народе могучая, богатырская. Погоди: придет время – покажет себя народ!
Отпевание
Запрещалось рабочим праздновать Первое мая. Нельзя им было в этот день собираться большими группами, устраивать митинги и демонстрации.
Приходилось рабочим идти на разные хитрости. Рабочие одной из московских окраин решили собраться на кладбище.
Сколотили гроб. Наняли батюшку. Шесть человек подняли гроб на руки. Остальные пристроились сзади. Процессия двинулась к кладбищу. Впереди шел батюшка и важно махал кадилом.
Теперь уже никто не мог разогнать рабочих. Даже городовые почтительно уступали дорогу.
В кладбищенской церкви «покойника» отпели. Батюшка махал кадилом и тянул:
– За упокой души раба Божьего… Как звать?
– Николаем.
– За упокой души раба Божьего Николая… – выводил батюшка.
Кончив отпевание и получив пять рублей по договоренности, батюшка удалился. А рабочие собрались в самом дальнем конце кладбища и провели митинг. Спели вполголоса революционные песни, прочитали первомайские прокламации.
Вечером кладбищенский сторож Тятькин, обходя могилы, наткнулся на незарытый гроб. Удивился Тятькин, приподнял крышку, глянул, а там такое, о чем и подумать страшно.
Сторож бросился к участковому надзирателю.
– Ну что тебе?
– Гроб, ваше благородие.
– Ну и что?
– Так в т-том гробу… – Тятькин стал заикаться.
– Ну, так что же в гробу?
– Его императорское величество, царь-государь Николай Второй, – проговорил Тятькин.
– Ты что, сдурел?!
– Никак нет, – крестился кладбищенский сторож. – Сам государь император, изволю доложить.
Надзиратель пошел на кладбище. Заглянул в гроб, а в нем действительно, ну правда, не сам император Николай Второй, а царский портрет: при орденах, во весь рост, в военном мундире.
Началось следствие. Тятькин ничего нового сообщить не мог.
Взялись за батюшку.
– Отпевал? – допытывался надзиратель.
– Отпевал.
– Кого отпевал?
– Раба Божьего Николая.
– Идиот! – закричал надзиратель.
Батюшка долго не мог понять, за что такие слова и за какие такие провинности его, духовную особу, и вдруг притащили в участок. А узнав, затрясся как осиновый лист. Трясется, крестится, выпученными глазами моргает.
– Кто был на сходке? – не отстает надзиратель.
Старается батюшка вспомнить. Не может.
– Разные, – говорит, – были. Человек сорок. И высокого роста и низкого. И молодые и старые. Аллилуйя еще кто-то здорово пел.
– «Аллилуйя»! – передразнил надзиратель. – Ну, а кто нанимал? Кто деньги платил?
– Плечистый такой, – оживился батюшка. – С усами. Руки еще в мозолях.
Стали искать. Да мало ли среди рабочих широкоплечих да с усами. А руки в мозолях у каждого. Так и не нашли.
Обругал еще раз надзиратель Тятькина и батюшку. На этом дело и кончилось.
Рабочие были довольны. Шутка ли сказать – и Первое мая отметили, и самому царю устроили отпевание.
Аракел
Небывалой силой славился тифлисский (Тифлис – старое название города Тбилиси) кузнец Аракел.
– Дядя Аракел, согни-ка подкову, – просят ребята.
Положит кузнец подкову на огромную, словно сковорода, ладонь, сожмет – согнулась подкова.
– Гирю, гирю подбрось, – не отстают ребята.
Возьмет Аракел пятипудовую гирю, начинает играть, словно мячиком.
…Вместе с русскими рабочими Первое мая стали отмечать и рабочие других национальностей: украинцы, латыши, белорусы, армяне, татары.
В 1901 году отпраздновать Первое мая решили и рабочие города Тифлиса.
Первомайская демонстрация в Тифлисе получилась большая, многолюдная – две тысячи человек вышли на улицы.
Вместе со всеми вышел и Аракел. Шел впереди, нес красное знамя.
На одной из улиц рабочим преградили дорогу конные полицейские и казаки.
– Разойдись! – приказал казачий офицер. Он взмахнул плетеной нагайкой.
Демонстранты остановились.
– Разойдись!
Никто не шевельнулся.
Подал тогда офицер команду. Выхватили полицейские и казаки шашки, бросились на демонстрантов.
Смешались ряды рабочих, потеряли равнение. Окружили полицейские Аракела, оттеснили его от товарищей.
Подскакал офицер и схватился за красное знамя.
Не выпускает Аракел знамени, еще крепче прижал к груди.
– Отпусти! – закричал офицер и полоснул по лицу знаменосца нагайкой.
Пересек красный рубец лицо Аракела, кровью наполнился левый глаз.
Держится Аракел за знамя.
– Отпусти! – хрипит офицер; выхватил он шашку, взмахнул – вот-вот рубанет Аракела.
Но перехватил кузнец офицерскую шашку. Вырвал, подбросил и, как хворостинку, переломил ее на две половины.
Опешили офицер и полицейские. Сидят на лошадях, разинули рты.
А Аракел презрительно швырнул на землю обломки шашки, сжал крепче в руках знамя и не торопясь направился к демонстрантам.
Опомнились полицейские.
– Стой! – закричал офицер. – Стой! Держи его!
Бросились догонять Аракела, да поздно. Смешался он с толпой.
Не видать Аракела. Не найти. Лишь по-прежнему развевается над демонстрантами красное знамя.
– Да здравствует Первое мая! Да здравствует свобода! – несется по улице.
Пассажиры
Дело было в Могилёве. Извозчик-старик Качкин подкарауливал возле вокзала пассажиров. День был веселый, майский.
Сидел старик на козлах пролетки, от яркого солнца щурился. Смотрит: идут два парня. В руках у одного корзина. Сверху платком накрыта. Из-под платка торчит гусиная голова. Крутит гусак головой, с любопытством на всех поглядывает.
Поравнялись парни со стариком:
– Свободен?
– Милости просим.
– Нам бы на главную улицу.
– Тридцать копеек.
Парни спорить не стали. Один из них сел на пассажирское сиденье, поставил рядом с собой корзину. Второй попросил:
– Разреши-ка, папаша, лошадкой поправить.
– Садись, – согласился старик. – Но за это еще пятак.
– Ладно, будет тебе пятак.
Качкин подвинулся. Взобрался парень на козлы. Взял вожжи и кнут. Гикнул. Тронулись.
– Из деревни, никак? – поинтересовался старик. – Гостинчик, видать?
– Подарочки, – ответил загадочно парень.
Выехали на главную улицу.
– Держись, папаша! – крикнул парень Качкину и посильнее ударил коня.
Запрыгала пролетка по булыжной мостовой, засвистел в ушах ветер.
– Э-э! – заворчал старик. – Так не договаривались. За это еще десять копеек.
– Ладно, – согласился парень.
Видит Качкин: уступчив пассажир.
– Нет, – говорит, – двадцать.
Пока они договаривались, второй парень, тот, что сидел на пассажирском сиденье, снял с корзины платок, приподнял гуся, а под гусем – листовки! Взмахнул парень рукой – взвились, закружились, полетели листовки в разные стороны.
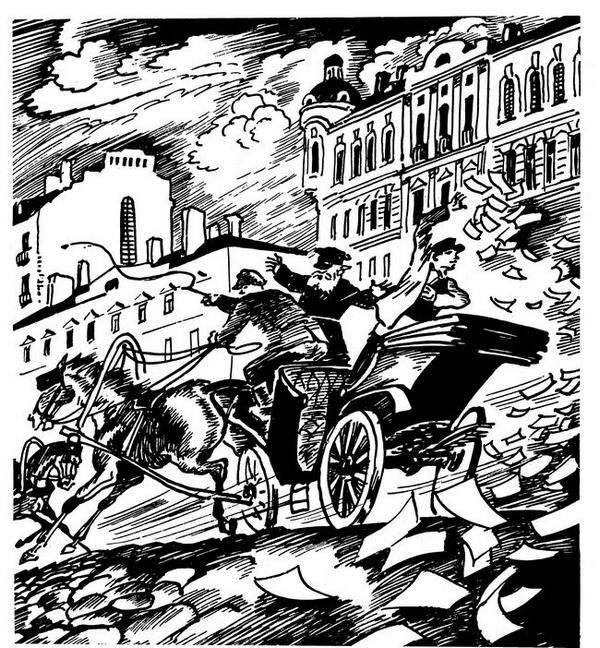
Оглянулся Качкин, понял: недоброе…
– Стой! Стой! – закричал с испугу.
– Тише, тише, папаша, за это еще целковый.
Только Качкину теперь не до денег.
– Караул! – завопил. – Разбойники!
Летит пролетка по главной улице. А сзади несутся городовые, слышится свист, хлопают выстрелы. Подбирают прохожие листовки, суют поспешно за пазуху. Свернула пролетка в один переулок, в другой, в третий.
Осадили парни разгоряченного коня, сунули старику горсть медяков, оставили корзину и гуся, бросились во двор, перемахнули через забор – только их Качкин и видел.
Подбегают запыхавшиеся городовые. Окружили пролетку, стянули Качкина с козел.
– Кого вез? Где пассажиры?
Хотел Качкин показать, куда побежали парни, да не успел. Подошел к нему офицер.
– Сволочь! – закричал он и съездил старику по уху. – Душу пущу по ветру! Где негодяи?!
Насупился Качкин, глянул из-под навислых бровей на офицера, помедлил.
– Вон туды утекли, – показал он на противоположный конец переулка.
Отпустили жандармы старика, помчались в указанном направлении.
Возвращался Качкин домой, щупал медяки в кармане, посматривал на гуся, вспоминал неожиданных пассажиров. «Парни, видать, рискованные, – рассуждал старик. – Ишь напридумали! По самой по главной улице…»
Гриша Лозняк
Гриша Лозняк отбывал заключение в одиночной камере. Худ. Ростом мал. В плечах узок. Глянешь – ничего в нем особенного. Да и нраву Гриша был скромного. Ссор с надсмотрщиками не заводил. Тюремных правил не нарушал. Во время прогулок не разговаривал. Смотрели на него надзиратели и думали: «По глупости небось угодил парень, по недоразумению».
Раз в неделю приходила сестра, приносила передачу – всегда одно и то же: буханку хлеба, бутылку молока и четверть фунта дешевых конфет, но непременно в бумажках.
Звали ее Лизой. Была она под стать брату: худенькая и маленькая, совсем девочка. Лиза терпеливо дожидалась своей очереди, робко протягивала корзину и уходила.
– Видать, пугливая, – говорили охранники.
Только все было не так.
Гриша сидел не случайно. Был он членом большевистской партии, печатником, и арестовали его при разгроме подпольной типографии. И Лиза была вовсе не сестрой Лозняка. Она тоже состояла в большевистской партии и выполняла партийное поручение. Да и хлеб, молоко и конфеты приносила она неспроста. В конфетные обертки вкладывались письма от товарищей с воли. Сидел Гриша в тюрьме, а был в курсе всех новостей и событий.
Из хлеба Гриша делал чернильницы, наливал в них молоко и молоком писал ответы товарищам. Когда к Гришиной камере приближались охранники, он проглатывал и «чернила» и «чернильницу». Вы, наверное, знаете, что так писал письма из тюрьмы Владимир Ильич Ленин.
Приближалось Первое мая.
Гриша не раз принимал участие в первомайских маевках. Решил он и в тюрьме отметить рабочий праздник. Сообщил об этом соседям – заключенным, сидящим в других камерах. Сообщал стуком – специальным шифром. Вначале постучал в стену направо, потом в стену налево. Товарищи поняли, поддержали, в свою очередь сообщили соседям.
Вскоре о предложении Гриши Лозняка знали все политические.
И уже на следующий день стали в тюрьму поступать лоскутки красной материи: одному – запеченные в хлебе, другому – в пироге вместо начинки, третьему – засунутые в корешок книги.
Во время прогулок заключенные незаметно передавали лоскутки Грише, а он по ночам шил из них красное знамя.
И вот наступило Первое мая. Как и обычно, утром заключенных вывели на прогулку. Тюремный двор небольшой. Ходят они цепочкой по кругу. Десять кругов – тридцать минут. Тридцать минут – вот и вся прогулка.
Прошли заключенные круг, прошли два, и вдруг взвилось над арестантами знамя. Затрепетало в воздухе алым полотнищем. Потянулось к небу и к солнцу.
Смело, друзья! Не теряйте
Бодрость в неравном бою, —
запел Гриша Лозняк.
Родину-мать защищайте,
Честь и свободу свою! —
подхватили другие.
Забегали, заволновались охранники.
– Молчать! – кричат. – Молчать!
Не слушают заключенные.
Пусть нас по тюрьмам сажают,
Пусть нас пытают огнем,
Пусть в рудники посылают,
Пусть мы все казни пройдем!..
Прибежал начальник тюрьмы. Окружили охранники со всех сторон заключенных, избили прикладами, погнали в вонючие подземные карцеры.
Две недели отбыли демонстранты в карцере. А потом разослали их по другим городам, в разные тюрьмы. Был отправлен и Гриша Лозняк.
Привезли его в новую тюрьму, посадили в одиночную камеру.
Прошла неделя, и снова у Гриши появились «чернильница» и «чернила», снова он стал получать письма от товарищей с воли…
Худ Гриша. Ростом мал. Скромен. Глянешь – ничего в нем особенного…
Книжечки
Томский батюшка, отец Макарий, любил простому народу для чтения раздавать книжечки. Книжечки были или божественного содержания, или про жизнь царей и цариц.
Читателями поначалу были старухи и монашенки соседнего монастыря, а потом, смотрит батюшка, и рабочий люд потянулся.
Раздавая книжечки, отец Макарий любил расспрашивать про прочитанное: понравилась ли книжечка, хороши ли картинки.
Приходила к батюшке за книжечками и одноглазая Харитина, прислуга генерала Обозина.
Вот как-то, было это в конце апреля, под самое Первое мая, отец Макарий и спрашивает у Харитины:
– Ну как, понравилась книжечка?
– Ой как понравилась! – отвечает Харитина. – Интересно, – говорит. – И, главное, очень понятно. Особенно там, где про Первое мая.
– Про какое еще Первое мая? – удивился он.
– Как – про какое?! Про то, что рабочий праздник, – говорит Харитина.
Схватил батюшка книгу, смотрит – не верит своим глазам. Действительно, в книжечке листки про Первое мая: и откуда праздник пошел, и почему он рабочий. А дальше и совсем страшное – все против царя, помещиков и капиталистов: мол, пора их прогнать и установить народную власть. Бросился отец Макарий в жандармское управление к полковнику Голенищеву.
Развернул Голенищев книжечку, побагровел.
– Откуда такая?! – накинулся на святого отца.
Батюшка и принялся рассказывать про то, как он раздает для чтения простому народу книжечки, и про Харитину.
– Позвать Харитину, – приказал Голенищев.
Привели Харитину.
– Откуда листовки?! – заревел Голенищев.
Уставила Харитина на полковника свой единственный глаз.
– От батюшки, – говорит. – От отца Макария.
– Дура! – обругал ее полковник и стал допытываться у священника, кто еще приходит за книжечками.
– Кучер его сиятельства князя Пирятина, Митрофан, – стал перечислять батюшка.
– Так. Еще?
– Монашенки из соседнего монастыря.
– Так. Еще?
– Пекаря из булочной Незатейкина.
– Так.
– Прачки из заведения госпожи Белоручкиной.
– Еще?
– Санитар из богоугодного заведения Еремей Дремов.
Приказал Голенищев собрать всех батюшкиных читателей и вместе с книжечками привести в полицейское управление.
Собралось человек сорок. Проверили книжечки. Почти в каждой – листки про Первое мая.
Стали допрашивать.
– Откуда листки про Первое мая? – спрашивал каждого Голенищев.
– Не знаю, ваше высокородие, – отвечал Митрофан, кучер его сиятельства князя Пирятина. – Мне такую батюшка, отец Макарий, пожаловал.
– Не знаем, – пропищали монашки. – Мы книжечек не читаем. Мы так, ради прогулки, к батюшке ходим.
Ничего не могли ответить ни пекаря из булочной Незатейкина, ни прачки из заведения госпожи Белоручкиной.
– Тут не иначе как нечистая сила замешана, – заявил санитар из богоугодного заведения Еремей Дремов.
Три дня велось следствие. Безрезультатно. Пришлось отпустить арестантов.
Рассвирепел Голенищев, вызвал отца Макария.
– Богу служишь, – кричал, – царя забываешь! Тебя самого за такие дела под арест, в Сибирь да на каторгу!
Стоял батюшка, слушал, краснел, разводил руками. Ну и задача: как же оно случилось – в божественных книжечках и вдруг про Первое мая?
А дело было так. Служил у отца Макария в работниках мальчик – Никишкой звали. У Никишки был брат – Григорий. Работал Григорий слесарем на заводе. Узнал он от Никишки про книжечки. А тут как раз приближалось Первое мая. Рабочие напечатали листовки и стали их тайно распространять по городу.
Подумал Григорий, что и книжечки отца Макария могут послужить на пользу. Поговорил с Никишкой. Дал ему пачку листовок. Тот их в книжечки и вклеил. Ну, а кто на мальца подумает?
И потратил-то Никишка двадцать минут, а вон какая из этого история получилась!