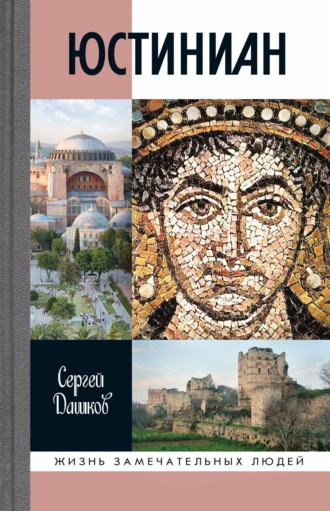
Сергей Дашков
Юстиниан
Одним из самых последовательных обличителей зрелищ был Иоанн Златоуст. Его страстные инвективы заслуживают того, чтобы ознакомиться с ними хотя бы вкратце по двум причинам. Во-первых, они легли в основу церковного отношения к подобным развлечениям (а также их любителям) на многие века. А во-вторых, они просто хорошо написаны – недаром потомки дали Иоанну прозвище «Златоуст»:
«Не крайнее ли безумие и сумасшествие, что мы, если позовет нас какой-нибудь гусляр, или плясун, или кто другой из подобного рода людей, все охотно бежим к нему, благодарим его за такой зов и проводим целую половину дня в том, что внимаем только ему; а когда Бог чрез пророков и апостолов беседует с нами, то зеваем, почесываемся и смежаем глаза? На ипподроме, невзирая на то, что там нет крыши, которая защищала бы от дождя, множество безумствующих стоит, хотя бы шел страшный ливень и ветер хлестал воду в лицо; они не обращают внимания ни на холод, ни на дождь, ни на длинноту пути; ничто их ни дома не удержит, ни сюда не помешает прийти; а сходить в церковь дождь и грязь становится нам препятствием. И если их спросить, кто такой Амос или Авдий или каково число пророков или апостолов, они не могут и рта раскрыть; а о лошадях и кучерах ведут речи лучше софистов и риторов. Как можно выносить это, скажи мне?»126
«…здесь (на зрелищах. – С. Д.) смех, бесстыдство, бесовское веселие, бесчиние, потеря времени, бесполезное употребление целых дней, возбуждение нечистых пожеланий, упражнение порочных похотей, школа прелюбодеяния, училище разврата, поощрение безнравственности, побуждения к смехотворству, примеры непристойности»127.
«Пусть это будет вместе с тем и уроком для благоразумных, чтобы не слишком услаждать глаза свои общественными зрелищами, и не спешить на конные ристалища, и не захватывать еще ночью места в театре: безумна ведь эта жажда непристойных зрелищ. И в самом деле, люди не могут дождаться дня, сгорая от нетерпения, и еще ночью захватывают места тьмы, чтобы непристойными зрелищами усладить взоры или посмотреть на схватки борцов с дикими зверями128. И сидя там, нередко зрители – люди выражают больше расположения к зверям, чем к подобным себе людям. Неужели тебе не жалко того несчастного, который из-за куска хлеба добровольно отдает себя на съедение зверям и в угоду ненасытимой страсти насыщает собой утробы зверей. Но у него желудок ненасытен, у тебя же ненасытны глаза. Иной выходит шутом, на позор себе самому производит ужимки, за плату выдает себя с головой на смех, не стыдится даже, если его бьют публично, сам подставляет щеки под удары, волосы сбривает бритвой, чтобы ни один волос не свидетельствовал против его бесстыдства. Иной посвящает себя похотливым женским пляскам, вопреки природе и с досадой на то, что родился у своих родителей не женщиной, и таким извращением природы даже гордится. Чего только не делают люди ради своего чрева и корысти и из-за тщеславия позорными делами; о таких прилично привести свидетельство Павла: «их бог – чрево, и слава их – в сраме» (Филипп. 3:19). Не ходите же туда, не спешите делать шаги в том направлении, да и на своих пирах не допускайте непристойных увеселений»129.
«В самом деле, всю нечистоту, приставшую к вам там от слов, от песен и смеха, каждый из вас несет в дом свой, и не только в дом, но и в свое сердце. От того, что недостойно презрения, ты отвращаешься, а что достойно его, того не только не ненавидишь, но и любишь. Многие, возвращаясь от гробов умерших, омывают себя, а возвращаясь с зрелищ, не воздыхают, не проливают слез, хотя мертвый и не оскверняет, между тем как грех полагает такое пятно, которого нельзя смыть тысячью источников, а только одними слезами и раскаянием. Между тем никто не чувствует этой скверны. Так как мы не боимся того, чего должно бояться, то страшимся того, чего не должно. Что значит этот шум, это смятение, эти сатанинские крики и дьявольские подобия? Иной юноша имеет сзади косу и, принимая вид женщины, и во взорах, и в поступи, и в одежде, словом – во всем старается изобразить молодую девицу. А другой, напротив, достигши уже старческого возраста, стрижет волосы, опоясывается по чреслам и, потеряв прежде волос весь стыд, готов принимать удары, готов все говорить и делать. А женщины, без всякого стыда, с обнаженною головою130 обращаются в речах своих к народу, с великою старательностью выказывая свое бесстыдство и поселяя в душах слушателей всякую наглость и разврат. У них одна только забота – искоренить всякое целомудрие, посрамить природу, исполнить волю злого духа. Здесь и слова постыдны, и лица смешны, и стриженые волосы таковы же, и походка, и одежда, и голос, и телодвижения, и взгляды, и трубы, и свирели, и действия, и их содержание, и все вообще исполнено крайнего разврата. Итак, скажи мне, когда ты отрезвишься от блудного пития, которое дьявол предлагает тебе, – когда перестанешь пить из чаши невоздержания, которую он растворяет для тебя? Там и прелюбодеяния, и измены супружеской верности; там и жены блудницы, и мужья прелюбодеи, и юноши изнежены; там все исполнено беззакония, все чудовищно, все постыдно. Итак, тем, кто присутствует на таких зрелищах, надлежало бы не смеяться, а горько плакать и скорбеть. Что же? Или нам закрыть театр, скажешь ты, и по твоему приказанию ниспровергнуть всё? Напротив, теперь именно всё ниспровергнуто. В самом деле, скажи мне: отчего нарушается супружеская верность? Не от театра ли? Отчего оскверняются брачные ложа? Не от этих ли зрелищ? Не по их ли вине жены не терпят мужей? Не от них ли мужья презирают жен своих? Не отсюда ли множество прелюбодеев? И если кто ниспровергает всё и вводит жестокую тиранию, то это тот, кто посещает театр. Нет, скажешь ты: зрелища – хорошее учреждение законов! Увлекать жен от мужей, развращать молодых детей, ниспровергать дома свойственно тем, кто владеет укреплениями. Кто, например, скажешь ты, от этих зрелищ сделался прелюбодеем? Но кто же не прелюбодей? Если бы мне можно было перечислить теперь всех поименно, то я показал бы, как многих мужей разлучили с женами эти зрелища; как многих пленили эти блудницы, которые одних отвлекли от супружеского ложа, а другим не дают и подумать о браке. Итак, что же, – скажи мне, – ужели нам ниспровергнуть все законы? Напротив, – уничтожая эти зрелища, мы истребим нарушение законов. Вредные для общества люди бывают именно из числа тех, что действуют на театрах. От них происходят возмущения и мятежи. Люди, воспитывающиеся у этих плясунов и из угождения чреву продающие свой голос, которых занятие состоит в том, чтоб кричать и делать все неприличное, они-то именно более всех и возмущают народ, они-то и производят мятежи в городах, – потому что преданное праздности и воспитываемое в таких пороках юношество делается свирепее всякого зверя»131.
Теперь на арене состязались не люди с оружием в руках, а колесницы, запряженные парой или четверкой лошадей, со своими возницами-гениохами. Согласно древней шутке, сохраненной нам Прокопием Кесарийским, такой вид зрелищ – это «печаль без вреда и радость без выгоды». Цирк стал называться ипподромом; тут же являли свое искусство и актеры-мимы: их выступления заполняли перерывы между заездами. Но и здесь наличествовали ограничения. Так, женщины не могли выйти перед публикой полностью голыми, а тот же Анастасий запретил участие в этих представлениях мальчиков, которые «…притворялись, что хотят изменить пол, став женщинами по внешнему виду. Они принимали нежные позы… и вызывали энтузиазм всех тех, кто присутствовал на этом зрелище, настолько бесстыдном, что оно подстрекало к ярости и безумию мужчин, собиравшихся во фракции, разделенные ненавистью и стоявшие друг против друга»132. Есть сведения даже о выступлении в ипподроме «наездников на верблюдах»133.
К моменту прибытия Петра Савватия в Константинополь самым впечатляющим зрелищем были соревнования запряженных конями квадриг. Проводились они часто: от 10 до 66 дней в году житель столицы мог смотреть бега и представления мимов между заездами. Самые зрелищные скачки организовывались по большим праздникам: 11 мая (день основания Города), 25 декабря (вступление в должность нового консула), значимые победы римского оружия.
В ранневизантийское время участники заездов принадлежали к четырем «командам», обозначавшимся цветами одежд и головных уборов: голубым (венеты), зеленым (прасины), красным (русии) и белым (левки). Соответственно, по этим цветам назывались и болельщики команд, составлявшие цирковые партии, «димы». Флавий Корипп, поэт второй половины VI века, так объясняет появление цветов: «В старые времена наши отцы организовывали зрелище в новом цирке в честь встречи солнца. По какому-то способу рассуждения они думали, что есть четыре лошади солнца, означающие четыре сезона непрерывного года, и по их образу и подобию одинаковое число всадников, что одинаково по значению, числу и внешнему виду, и одинаковому числу цветов, и учредили две фракции с противоположной направленностью, поскольку зима холода соперничает с огнем лета. Зеленый – это весна, как луг, того же цвета, что и трава, оливковая роща с листвой, и все леса зеленеют с пышными листьями; красный – лето, светящееся в розовом одеянии, как некоторые фрукты краснеют с сиянием цвета; голубой – синева осени, богатая темно-фиолетовым цветом, показывает, что виноград и оливки созрели; белый, равный снегу и морозу зимы по яркости, соединяет всё вместе и сочетается с синим. Сам великий цирк, как круг полного года, замкнут в гладкий эллипс длинными изгибами, охватывающими два поворотных столба на равном расстоянии, и пространство в середине арены, где направление лежит открытым…
Эта практика, древнейших из древних, по ошибке почиталась, неверно представляя, что солнце было богом. Но когда создатель солнца решил позволить себе увидеть (мир) под солнцем, и когда Бог принял форму человеческого рода от девственницы, тогда игры (в честь) солнца были отменены, а почести и игры были предложены римским императорам, как и приятные развлечения цирка в Новом Риме»134.
Принято считать, что димы не просто объединяли людей по спортивным пристрастиям, а были (по крайней мере тогда) политическими партиями. Наибольшее значение имели «голубые» и «зеленые». На рубеже V и VI веков «белые» присоединились к венетам, «красные» – к прасинам и две партии фактически прекратили свое существование. Принято также считать, что к «голубым» тяготели аристократы, а к «зеленым» – представители торгово-финансовых кругов, что в ранней империи первые были приверженцами православия, а постоянно противостоявшие им вторые поддерживали монофиситов. Однако и в данном случае обобщения нужно применять с осторожностью – ведь в каждой партии могли оказаться представители любой из этих категорий. В конце концов, венеты или прасины организовывались совсем не как Английский клуб или современный орденский капитул. Это вообще минус классового подхода к древности: историки зачастую пытаются «нащупать» и обобщения, чтобы как-то систематизировать жизнь Древнего мира.
Управление таким большим и тяжелым средством, как квадрига, было делом крайне сложным, требующим и сил, и навыков даже при езде по прямой. Соревнования же на дорожке ипподрома были еще и крайне опасны: редкий возница доживал до средних лет135. Тем не менее желающие рискнуть не переводились. Ведь как и спортсмен-звезда нынешних дней, византийский гениох-победитель становился кумиром толпы и богачом, ему доставались почет сильных мира и любовь народа. Жившему на рубеже V и VI столетий вознице Порфирию восторженные зрители воздвигли семь (!) статуй. Постаменты двух из них были найдены в наше время археологами, и сегодня любой желающий может увидеть их на первом этаже Археологического музея в Стамбуле. Для сравнения: от подобных скульптурных изображений Анастасия или Юстина, правивших империей «в эпоху Порфирия», не сохранилось ничего. Да и по числу эпиграмм, ему посвященных (до нас дошли тридцать две), Порфирий вполне успешно соперничал с царственными особами. Другому гениоху, Уранию, поставили статую из золота!
Болельщиками византийцы были яростными, бега захватывали их целиком. «Конелюбы подпрыгивают, кричат, подбрасывают в воздух пригоршни пыли, колотят воздух, пальцами, словно бичами, погоняют коней», – вспоминал Григорий Назианзин136. Подбадривая «свои» колесницы возгласами (самый известный из которых «Ника!», «побеждай!»), впадая в раж, зрители теряли в азарте разум – и не единожды перепалки разгоряченных болельщиков перерастали в драки и убийства. Златоуст метал громы не зря! Желающий почувствовать накал страстей на ипподроме в дни ристаний может посетить футбольный матч любых соперничающих команд серьезного уровня – будет похоже.
По мнению церковного писателя Исидора Пелусиота, ристания организовывались властями, дабы отвлечь народ от политики: «…постоянное соперничество конями, какое-то общественное прение, при неохоте делать что-либо полезное, обращающее к этой борьбе таких людей, которые, может быть, придумали бы что худшее; таково и разнообразие зрелищных представлений, одних услаждая зрением, у других очаровывая слух слышимым, хотя преисполнено худого, оказывалось оно препятствием мятежному замыслу. И это дозволили, за меньшее (как полагали) покупая большее, спокойствие и безопасность»137. Но мудрец заблуждался. Нередко спортивное соперничество и последующее буйство как раз и переходили в антиправительственные мятежи.
Впервые схватки димов в Константинополе были зафиксированы источниками времен Феодосия II. Во времена жизни Петра Савватия такие схватки становились, увы, нормой. В 498 году прасины, недовольные арестом нескольких человек за «метание камней», устроили беспорядки прямо напротив кафисмы, и некий человек едва не попал в императора Анастасия брошенным булыжником (за что был немедленно убит охраной). Выбитая с ипподрома вон бушующая толпа хулиганов разгромила центральную часть Города, сожгла вход во дворец (Халку), портики ипподрома до кафисмы и портики Месы от Милия до форума Константина (это метров семьсот). Император был вынужден даже сменить эпарха Города, назначив новым простата прасинов. Через три года во время потасовки на ипподроме погиб внебрачный сын Анастасия. В 507 году антиохийские прасины во время празднования традиционных спортивных игр (Иоанн Малала называет их «Олимпийскими») в городском пригороде Дафне разорили синагогу, воздвигли там крест, а многих евреев убили. Император назначил нового комита Востока и нового городского префекта виглы, Мину. Последний казнил одного из зачинщиков, прятавшегося в алтаре церкви, что вызвало новый всплеск насилия: толпа сожгла несколько общественных зданий, а злосчастного Мину смутьяны поймали, убили, вспороли ему живот, долго таскали в таком виде по городу, потом подвесили на бронзовой статуе и в итоге сожгли. Комит Востока бежал, и Анастасий вынужден был опять назначить нового, который усмирил Город «местью и страхом»138.
Хотя спортивные разногласия зачастую становились проявлением более глубоких противоречий, прежде всего недовольства существующими порядками, немалую роль в них играли и низменные страсти, а потому Прокопий Кесарийский о спортивных партиях говорит с нескрываемым презрением: «В каждом городе димы издревле делились на венетов и прасинов, но лишь с недавнего времени они тратят деньги и не считают недостойным для себя быть подвергнутыми суровым телесным наказаниям и самой позорной смерти из-за этих названий и из-за мест, которые они занимают во время зрелищ. Они сражаются со своими соперниками, не ведая, из-за чего подвергают себя подобной опасности, и вполне отдавая себе отчет в том, что даже если они и одержат победу в побоище со своими противниками, им не останется ничего другого, кроме как быть заключенными в тюрьму и, претерпев там жестокие мучения, погибнуть. Эта вражда к ближним родилась безо всякой причины и останется вечно неутоленной, не отступая ни перед родством по браку, ни перед кровным родством, ни перед узами дружбы даже и тогда, когда родные братья или как-то иначе связанные между собой люди оказываются приверженцами различных цветов. В сравнении с победой над соперниками для них ничто ни Божьи, ни человеческие дела. И если кто-либо совершает нечестивое пред Богом дело, если законы и государство претерпевают насилие от своих или от врагов, и даже если они сами терпят недостаток в самом необходимом, и если отечество оскорблено в самом существенном, это их нисколько не беспокоит, лишь бы их партии было хорошо. Партией они называют своих сообщников. И даже женщины принимают участие в этой скверне, не только следуя за своими мужьями, но, случается, и выступая против них, хотя женщины вообще не посещают зрелищ и ничто иное не побуждает их к этому. Поэтому я не могу назвать это иначе как только душевной болезнью»139.
Итак, в один из дней Петр Савватий впервые попал на ипподром.
Сначала он поразился размерам и инженерному совершенству сооружения. Ипподром, похожий на гигантскую вытянутую подкову, имел около четырех сотен метров в длину и почти сто двадцать – в ширину. Северо-восточный торец бегового поля оканчивался высокой стеной с дюжиной ворот. Восемь из них служили для входа и выхода зрителей, а оставшиеся – «Карцеры» – были забраны железными решетками: из них стартовали колесницы. Стену Карцеров венчала четверка бронзовых позолоченных коней. По середине поля, с северо-востока на юго-запад, к морю, шел разделительный барьер десятиметровой ширины (Спи́на), который украшали обелиски, колонны и скульптуры. Напротив Спи́ны, отделенные от нее собственно беговой дорожкой, располагались три-четыре десятка ярусов деревянных140 трибун со скамейками для простонародья (если смотреть от Карцеров, сначала – предназначенные для венетов и левков, затем – для прасинов и русиев; такое расположение димов установил в свое время Феодосий Младший). Ветер трепыхал широкие полотняные тенты, укрывавшие ряды от яркого солнца.
Дойдя до юго-западного торца, беговая дорожка упиралась в полукруглое многоэтажное сооружение – Сфендону, искусственное продолжение подпиравшей ипподром скалы. Ее венчал портик с пятью десятками колонн и дополнительными скамейками, а сама она спускалась глубоко вниз. Здесь, между прочим, иногда происходили казни. Повторив изгиб Сфендоны, дорожка шла обратно вдоль еще одного ряда трибун, предназначенных для императорских приближенных и знати. В их центре возвышалась гигантская ложа василевса, кафисма. К ней из Большого дворца вела крытая лестница, по которой император мог быстро и незаметно попасть в кафисму из своих покоев. Примерно напротив кафисмы высился огромный составной обелиск, затем стояла медная колонна в виде трех змей, сплетавшихся телами, а еще далее в сторону Карцеров – изукрашенный обелиск из розового гранита. Как Петр Савватий ни старался, он не смог понять, что означали причудливые значки на боковых гранях обелиска. И это неудивительно: ведь их вырезали в честь побед древнего фараона Тутмоса III (камень привезли в столицу из далекого Египта), а знание иероглифов к тому времени было утрачено. Мраморный четырехгранный постамент обелиска украшали барельефы и надписи. Окажись Петр Савватий ближе, он обязательно прочитал бы там стихи, славящие эпарха Прокла, по приказу которого сооружение возвели при Феодосии Великом. Поскольку в те годы император и его окружение говорили в основном по-латински, слова на грани постамента, обращенной к кафисме, были вырезаны на латыни. Противоположную грань, смотревшую на трибуны для народа, украшала надпись уже на греческом. Всё продумано.
Над кафисмой развевался флаг, означавший официальное разрешение начать скачки. К первому заезду трибуны заполнила толпа, разноязыкая и шумная. В проходах торговцы предлагали зрителям напитки и съестное. Там же можно было спуститься в какую-нибудь из многочисленных уборных. Представление длилось целый день и было разбито на довольно большое число заездов (более десятка с перерывом на обед; как правило, двенадцать до обеда и двенадцать после), а зрителей ипподром вмещал под сто тысяч.
Пока народ рассаживался, на Спи́ну уже выбежали актеры. Их репертуар был предельно прост. На потеху толпе они разыгрывали сценки (мы бы назвали их скетчами) бытового содержания: неожиданно вернувшийся из путешествия муж застает жену в объятиях любовника; глуповатый зять и похотливая теща; жадный старик, которого обманывает хитрый раб, и т. п. Играя откровенные сцены, актрисы старались снискать одобрение самым незатейливым образом – обнажаясь. Но только до предела, допустимого законом: снять повязку, напоминающую современные трусики-бикини, актриса не могла.
Актеров сменили жонглеры с мячами, акробаты, силачи, борцы, дрессировщики со своими животными. Гвоздем программы было представление канатоходца, под одобрительное уханье собравшихся выделывавшего трюки на веревке, натянутой между колоннами Спи́ны. Рабы-служители бегали по дорожке, поливая ее водой и разравнивая песок.
Но вот на кафисме появился Анастасий. Ипподром взревел, приветствуя василевса. Особо неистовствовали русии, которым тот благоволил.
У Карцеров показалась группа воинов в плащах с зажженными свечами в руках. Над ними, покачиваясь, двигалась статуя Константина Великого из позолоченного дерева. Ее поставили на повозку, запряженную четверкой мулов, которых под уздцы вел ипподромный служка. Подобно гигантскому возничему, скульптура двинулась по дорожке мимо трибун венетов и прасинов к Сфендоне, а затем, развернувшись, поехала назад. Когда повозка поравнялась с кафисмой, император встал, поклонился статуе и выпрямился, провожая ее взглядом до тех пор, пока она не скрылась в Карцерах. Петр Савватий знал: это странное представление дается на всех скачках ко Дню Города уже больше полутора веков.
Император троекратно перекрестил трибуны и, разрешая начать скачки, взмахнул специальным платком-маппой. Решетки Карцеров распахнулись. На арену вылетели четыре открытые сзади колесницы, каждая из которых была запряжена четверкой коней. Возничие, одетые в подобие доспехов и металлические каски, стояли, держа поводья в правой руке, а кнут – в левой141.
Петр Савватий сидел рядом с дядей на скамье под кафисмой и пока из-за Спи́ны видел повозки неотчетливо. Но по клубам пыли, поднятой соревнующимися, было видно, как, набирая ход, мчатся повозки от Карцеров к Сфендоне, между колоннами мелькали развевающиеся гривы, вытянутые в напряжении конские хвосты.
Ряды трибун и Спина не были строго параллельны: в какой-то момент пространство для хода колесниц сужалось, они должны были либо уступать дорогу друг другу, либо сталкиваться, усиливая накал страстей. Это могло произойти прямо напротив составного обелиска, а если не там – то у поворотов в торцах ипподрома.
Пройдя изгиб Сфендоны, колесницы помчались по направлению к кафисме. Лошади тянули вперед напряженные шеи, ноги бешено молотили песок дорожек, смешанный для приятного аромата с кедровыми опилками. Вот, пробиваясь сквозь крики зрителей, послышались глухой топот копыт и фыркающее дыхание скакунов. Миг, другой – и группа из четырех повозок, промчавшись мимо, вышла на поворот у Карцеров.
Круг второй, третий, четвертый… После прохождения каждого служитель убирал очередное большое деревянное яйцо с видной всем специальной подставки-овария. Взбитая копытами и колесами пыль висела над полем желтоватым маревом. Лошади вспотели, и Петр Савватий видел, как ходили мышцы под блестящей кожей красивых, тщательно подобранных и не менее тщательно ухоженных животных. Сильно пахло смесью конского пота, смолы и мокрого песка.
На пятом круге против Сфендоны две квадриги налетели друг на друга в пыли. Повозки опрокинулись, и гениох одной из них, словно большая кукла, взлетел, кувыркаясь, над пылью и рухнул вниз, в месиво окровавленных лошадей, дерева и металла. Толпа закричала. Служители уже бежали к месту события – успеть унести тела, оттащить или увести бьющихся животных, пока оставшиеся колесницы делают круг. Петр Савватий видел, как двое коней, разгоряченных схваткой, принялись кусать и лягать друг друга, третий убежал, а четвертый поднялся с земли и, встряхивая разбитой головой, заковылял, хромая на сломанную или ушибленную ногу, уволакивая за собой разбитую платформу с оставшимся единственным колесом.
И вот на оварии осталось последнее яйцо. Два раба с ведрами побежали навстречу друг другу, высыпая толченый мел на конец дорожки у поворота к Сфендоне, обозначая белым финишную черту. Последний, седьмой круг!
Зрители неистовствовали. Одни, вскочив на скамью, размахивали руками, словно возница, бичом подгоняющий лошадь. Другие, хотя и оставались сидеть, тоже заходились в криках, жестикулируя и провожая глазами скрывшихся в пыли коней и ездоков.
– Пор-фи-рий, Пор-фи-рий! – неслось с трибуны венетов.
– Кос-ма, Кос-ма! – вторили прасины.
– Ни-ка, ни-ка! – ревели и те и другие.
Вот где-то уже случилась драка, и ипподромные служители с короткими дубинками ринулись туда – разнимать. В другом месте стали бросаться камнями, и кого-то с разбитым в кровь лицом вели вниз, умываться. Даже здесь, в окружении сенаторов и высших лиц двора, не было спокойно, разве что без драк: те же крики, жесты, объятия, ругань.
Возница на четверке гнедых лошадей заметно опережал соперника. Петр не видел цвета его одежд, но по крикам понял: выигрывает фаворит.
– Пор-фи-рий, Пор-фи-рий! – всё громче кричали венеты. С трибуны прасинов несся нестройный гул разочарования. Квадрига Порфирия пересекла белую полосу и замедлила ход.
Заезд кончился.
Прасины ликовали.
Победитель медленно ехал к кафисме: эпарх уже держал в руках венок и мешочек с золотыми монетами, служитель рядом покачивал пальмовой ветвью.
Ипподром сегодня
Того ипподрома, который видел Петр Савватий, нет уже много столетий. Место, где он располагался, сегодня в Стамбуле занято площадью Ат-Мейданы. Правда, два обелиска и между ними бронзовая колонна в виде трех змей (уже без голов) стоят до сих пор – и это последние оставшиеся украшения Спи`ны. От самого ипподрома (возведенного при Септимии Севере и основательно перестроенного Константином и его преемниками) остался лишь юго-западный конец: массивная, уходящая далеко вниз подземная часть Сфендоны (сейчас ее залы и галереи заложены кирпичом и недоступны). Облицовка и каменные скамьи в начале XVII в. при султане Ахмеде пошли на сооружение Голубой мечети. Четверка же бронзовых коней, украшавшая северо-восточный торец, Карцеры, и увезенная крестоносцами в XIII в. в Европу, сегодня хранится в соборе Св. Марка в Венеции, где ее может увидеть любой. Ну и улица Ат-Мейданы – она ведь повторяет беговую дорожку.
* * *
Помимо театра и цирка юноша, прибывший в Константинополь, не мог миновать публичных домов, харчевен, уличных развлечений и бань.
В царствование Анастасия «дома терпимости» были повсюду. В ранней Византии такое заведение вполне могло находиться в одном квартале с церковью: подобное соседство никого не смущало. Некоторые публичные женщины обитали в помещениях Сфендоны, так что в дни ристаний особо нетерпеливый клиент мог посетить их после скачек или даже в обеденный перерыв.
Античный мир относился к занятию проституцией и использованию подобного рода услуг, в общем, снисходительно. «Без денег флейта не склонит гетеру, и лира не привлечет тех, кто продает свою любовь… вы желаете красоты, а я люблю деньги. Так вот давайте же без брюзжания угождать обоюдным желаниям»142, – сказано в «Любовных письмах», написанных неким Аристенетом не позднее Юстинианова века. Христианство проституцию осуждало, но, как ни парадоксально это звучит, худшим считалось поведение клиента публичной женщины. Дело в том, что церковь порицала сладострастие. Поэтому мужчина, особенно если он состоит в браке, ищущий продажной любви и тратящий деньги не на что-то душеполезное, а на свое «плотское похотение», безусловно, худший грешник. «Какого гнева не заслуживаешь ты, когда даешь деньги блуднице, но проходишь мимо нищего без внимания?!» – восклицает по этому поводу страстный Иоанн Златоуст143. Что касается проститутки, то если она пошла на панель из-за бедственного положения, церковь относилась к ней с пониманием и сочувствием, а раскаянию радовалась особо – ведь «сладострастный» грех требовал больших усилий для спасения, стало быть, и результат ценился выше. Впоследствии многие из таких женщин, встав на путь добродетели, ревностно служили Богу и даже делались святыми (Мария Египетская, Таисия, Пелагия).
Проститутки низшего ранга презрительно именовались «пехотой». Стоимость их услуг была невысока – Прокопий говорил о цене в «три обола»144. Имелись, естественно, и «гетеры» высшего ранга: одевавшиеся в шелк, украшенные золотом и путешествовавшие в носилках на плечах рабов или верхом. Вот, например, как выглядел выезд на променад успешной антиохийской танцовщицы того времени. Оставляя за собой шлейф ароматов мускуса и мирры, она ехала на добром иноходце, набросив покрывало на плечи (а не на голову, как предписывалось нормами морали обычной женщине), в пышном наряде, «так что всюду сверкало на ней только золото, жемчуга и драгоценные каменья, а нагота ног была украшена перлами. Пышная толпа слуг и служанок в дорогих одеждах и золотых ожерельях сопровождала ее; одни бежали впереди, другие шли следом. Особенно суетный люд не мог досыта налюбоваться ее нарядом и украшениями»145.
Желающий мог за деньги разделить ложе с ребенком. Как уже было сказано, во времена молодости Петра Савватия нижнего возрастного предела для занятия проституцией не существовало – как и уголовного наказания за педофилию. Девочка могла сойтись с мужчиной, когда ей это позволяли физические возможности. Так повелось издревле: например, в романе римского писателя I века Петрония «Сатирикон» есть сцена лишения девственности ребенка «на вид лет семи, не более» (ребенком же!), притом одна из героинь хвастается тем, что и она сама была вряд ли моложе, когда впервые отдалась мужчине146. Мария Египетская «вышла на улицу» в 12 лет.
У сладострастников имелась возможность предаваться утехам и с юношами. Греческий античный мир не видел ничего предосудительного в союзе двух мужчин, особенно если в его основе, помимо похоти, лежало духовное начало. Традиционное римское общество в пору язычия к однополым контактам относилось, в общем, терпимо, хотя и с оттенком некоего, если так можно выразиться, недоумения. То есть гомосексуализм пороком не считался, но это расценивалось как что-то не вполне свойственное Риму, занесенное с Востока или от греков излишество, вычурность. Над этим могли подтрунивать. Например, младший современник Юстиниана, историк, ритор и поэт Агафий Миринейский, подражая древним поэтам, среди своих многочисленных эпиграмм оставил такую:


