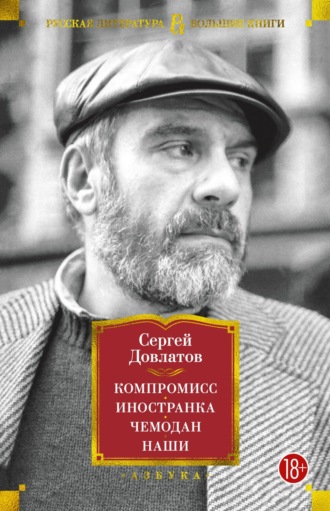
Сергей Довлатов
Компромисс. Иностранка. Чемодан. Наши
© С. Д. Довлатов (наследники), 2022
© Фотоматериалы Н. Н. Аловерт, 2022
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство АЗБУКА®
Из сборника «Демарш энтузиастов»
Хочу быть сильным
Когда-то я был школьником, двоечником, авиамоделистом. Списывал диктанты у Регины Мухолович. Коллекционировал мелкие деньги. Смущался. Не пил…
Хорошее было время. (Если не считать культа личности.)
Помню, мне вручили аттестат. Директор школы, изловчившись, внезапно пожал мою руку. Затем я окончил матмех ЛГУ и превратился в раздражительного типа с безумными комплексами. А каким еще быть молодому инженеру с окладом в девяносто шесть рублей?
Я вел размеренный, уединенный образ жизни и написал за эти годы два письма.
Но при этом я знал, что где-то есть другая жизнь – красивая, исполненная блеска. Там пишут романы и антироманы, дерутся, едят осьминогов, грустят лишь в кино. Там, сдвинув шляпу на затылок, опрокидывают двойное виски. Там кинозвезды, утомленные магнием, слабеющие от запаха цветов, вяло роняют шпильки на поролоновый ковер…
Жил я на улице Зодчего Росси. Ее длина – 340 метров, а ширина и высота зданий – 34 метра. Впрочем, это не имеет значения.
Два близлежащих театра и хореографическая школа формируют стиль этой улицы. Подобно тому, как стиль улицы Чкалова формируют два гастронома и отделение милиции…
Актрисы и балерины разгуливают по этой улице. Актрисы и балерины! Их сопровождают любовники, усачи, негодяи, хозяева жизни.
Распахивается дверца собственного автомобиля. Появляются ноги в ажурных чулках. Затем – синтетическая шуба, ридикюль, браслеты, кольца. И наконец – вся женщина, готовая к решительному, долгому отпору.
Она исчезает в подъезде театра. Над асфальтом медленно тает легкое облако французских духов. Любовники ждут, разгуливая среди колонн. Манжеты их белеют в полумраке…
Чтобы почувствовать себя увереннее, я начал заниматься боксом. На первенстве домоуправления моим соперником оказался знаменитый Цитриняк. Подергиваясь, он шагнул в мою сторону. Я замахнулся, но тотчас же всем существом ударился о шершавый и жесткий брезент. Моя душа вознеслась к потолку и затерялась среди лампионов. Я сдавленно крикнул и пополз. Болельщики засвистели, а я все полз напролом. Пока не уткнулся головой в импортные сандалеты тренера Шарафутдинова.
– Привет, – сказал мне тренер, – как делишки?
– Помаленьку, – отвечаю. – Где тут выход?..
С физкультурой было покончено, и я написал рассказ. Что-то было в рассказе от моих ночных прогулок. Шум дождя. Уснувшие за рулем шоферы. Безлюдные улицы, которые так похожи одна на другую…
Бородатый литсотрудник долго искал мою рукопись. Роясь в шкафах, он декламировал первые строчки:
– Это не ваше – «К утру подморозило…»?
– Нет, – говорил я.
– А это – «К утру распогодилось…»?
– Нет.
– А вот это – «К утру Ермил Федотович скончался…»?
– Ни в коем случае.
– А вот это, под названием «Марш одноногих»?
– «Марш одиноких», – поправил я.
Он листал рукопись, повторяя:
– Посмотрим, что вы за рыбак… Посмотрим…
И затем:
– Здесь у вас сказано: «…И только птицы кружились над гранитным монументом…» Желательно знать, что характеризуют собой эти птицы?
– Ничего, – сказал я, – они летают. Просто так. Это нормально.
– Чего это они у вас летают, – брезгливо поинтересовался редактор, – и зачем? В силу какой такой художественной необходимости?
– Летают, и все, – прошептал я, – обычное дело…
– Ну хорошо, допустим. Тогда скажите мне, что олицетворяют птицы в качестве нравственной эмблемы? Радиоволну или химическую клетку? Хронос или Демос?..
От ужаса я стал шевелить пальцами ног.
– Еще один вопрос, последний. Вы – жаворонок или сова?
Я закричал, поджег бороду редактора и направился к выходу.
Вслед донеслось:
– Минуточку! Хотите, дам один совет в порядке бреда?
– Бреда?!
– Ну, то есть от фонаря.
– От фонаря?!
– Как говорится, из-под волос.
– Из-под волос?!
– В общем, перечитывайте классиков. Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого. Особенно – Толстого. Если разобраться, до этого графа подлинного мужика в литературе-то и не было…
С литературой было покончено.
Дни потянулись томительной вереницей. Сон, кефир, работа, одиночество. Коллеги, видя мое состояние, забеспокоились. Познакомили меня с развитой девицей Фридой Штейн.
Мы провели два часа в ресторане. Играла музыка. Фрида читала меню, как Тору, – справа налево. Мы заказали блинчики и кофе.
Фрида сказала:
– Все мы – люди определенного круга.
Я кивнул.
– Надеюсь, и вы – человек определенного круга?
– Да, – сказал я.
– Какого именно?
– Четвертого, – говорю, – если вы подразумеваете круги ада.
– Браво! – сказала девушка.
Я тотчас же заказал шампанское.
– О чем мы будем говорить? – спросила Фрида. – О Джойсе? О Гитлере? О Пшебышевском? О черных терьерах? О структурной лингвистике? О неофрейдизме? О Диззи Гиллеспи? А может быть, о Ясперсе или о Кафке?
– О Кафке, – сказал я.
И поведал ей историю, которая случилась недавно:
«Прихожу я на работу. Останавливает меня коллега Барабанов.
– Вчера, – говорит, – перечитывал Кафку. А вы читали Кафку?
– К сожалению, нет, – говорю.
– Вы не читали Кафку?
– Признаться, не читал.
Целый день Барабанов косился на меня. А в обеденный перерыв заходит ко мне лаборантка Нинуля и спрашивает:
– Говорят, вы не читали Кафку. Это правда? Только откровенно. Все останется между нами.
– Не читал, – говорю.
Нинуля вздрогнула и пошла обедать с коллегой Барабановым…
Возвращаясь с работы, я повстречал геолога Тищенко. Тищенко был, по обыкновению, с некрасивой девушкой.
– В Ханты-Мансийске свободно продается Кафка! – издали закричал он.
– Чудесно, – сказал я и, не оглядываясь, поспешил дальше.
– Ты куда? – обиженно спросил геолог.
– В Ханты-Мансийск, – говорю.
Через минуту я был дома. В коридоре на меня обрушился сосед-дошкольник Рома.
Рома обнял меня за ногу и сказал:
– А мы с бабуленькой Кафку читали!
Я закричал и бросился прочь. Однако Рома крепко держал меня за ногу.
– Тебе понравилось? – спросил я.
– Более или менее, – ответил Рома.
– Может, ты что-нибудь путаешь, старик?
Тогда дошкольник вынес большую рваную книгу и прочел:
– РУФКИЕ НАРОДНЫЕ КАФКИ!
– Ты умный мальчик, – сказал я ему, – но чуточку шепелявый. Не подарить ли тебе ружье?
Так я и сделал…»
– Браво! – сказала Фрида Штейн.
Я заказал еще шампанского.
– Я знаю, – сказала Фрида, – что вы пишете новеллы. Могу я их прочесть? Они у вас при себе?
– При себе, – говорю, – у меня лишь те, которых еще нет.
– Браво! – сказала Фрида.
Я заказал еще шампанского…
Ночью мы стояли в чистом подъезде. Я хотел было поцеловать Фриду. Точнее говоря, заметно пошатнулся в ее сторону.
– Браво! – сказала Фрида Штейн. – Вы напились как свинья!
С тех пор она мне не звонила.
Дни тянулись серые и неразличимые, как воробьи за окнами. Как листья старых тополей в унылом нашем палисаднике. Сон, кефир, работа, произведения Золя. Я заболел и выздоровел. Приобрел телевизор в кредит.
Как-то раз около «Метрополя» я повстречал бывшего одноклассника Секина.
– Где ты работаешь? – спрашиваю.
– В одном НИИ.
– Деньги хорошие?
– Хорошие, – отвечает Секин, – но мало.
– Браво! – сказал я.
Мы поднялись в ресторан. Он заказал водки.
Выпили.
– Отчего ты грустный? – Секин коснулся моего рукава.
– У меня, – говорю, – комплекс неполноценности.
– Комплекс неполноценности у всех, – заверил Секин.
– И у тебя?
– И у меня в том числе. У меня комплекс твоей неполноценности.
– Браво! – сказал я.
Он заказал еще водки.
– Как там наши? – спросил я.
– Многие померли, – ответил Секин, – например, Шура Глянец. Глянец пошел купаться и нырнул. Да так и не вынырнул. Хотя прошло уже более года.
– А Миша Ракитин?
– Заканчивает аспирантуру.
– А Боря Зотов?
– Следователь.
– Ривкович?
– Хирург.
– А Лева Баранов? Помнишь Леву Баранова? Спортсмена, тимуровца, победителя всех олимпиад?
– Баранов в тюрьме. Баранов спекулировал шарфами. Полгода назад встречаю его на Садовой. Выходит Лева из Апраксина двора и спрашивает:
«Объясни мне, Секин, где логика?! Покупаю болгарское одеяло за тридцать рэ. Делю его на восемь частей. Каждый шарф продаю за тридцать рэ. Так где же логика?!.»
– Браво! – сказал я.
Он заказал еще водки…
Ночью я шел по улице, расталкивая дома. И вдруг очутился среди колонн Пушкинского театра. Любовники, бретеры, усачи прогуливались тут же. Они шуршали дакроновыми плащами, распространяя запах сигар. Неподалеку тускло поблескивали автомобили.
– Эй! – закричал я. – Кто вы?! Чем занимаетесь? Откуда у вас столько денег? Я тоже стремлюсь быть хозяином жизни! Научите меня! И познакомьте с Элиной Быстрицкой!..
– Ты кто? – спросили они без вызова.
– Да так, всего лишь Егоров, окончил матмех…
– Федя, – представился один.
– Володя.
– Толик.
– Я – протезист, – улыбнулся Толик. – Гнилые зубы – вот моя сфера.
– А я – закройщик, – сказал Володя, – и не более того. Экономно выкраивать гульфик – чему еще я мог бы тебя научить?!
– А я, – подмигнул Федя, – работаю в комиссионном магазине. Понадобятся импортные шмотки – звони.
– А как же машины? – спросил я.
– Какие машины?
– Автомобили? «Волги», «Лады», «Жигули»?
– При чем тут автомобили? – спросил Володя.
– Разве это не ваши автомобили?
– К сожалению, нет, – ответил Толик.
– А чьи же? Чьи же?
– Пес их знает, – откликнулся Федя, – чужие. Они всегда здесь стоят. Эпоха такая. Двадцатый век…
Задыхаясь, я бежал к своему дому. Господи! Торговец, стоматолог и портной! И этим людям я завидовал всю жизнь! Но про автомобили они, конечно, соврали! Разумеется, соврали! А может быть, и нет!..
Я взбежал по темной лестнице. Во мраке были скуповато рассыпаны зеленые кошачьи глаза. Пугая кошек, я рванулся к двери. Отворил ее французским ключом. На телефонном столике лежал продолговатый голубой конверт.
Какому-то Егорову, подумал я. Везет же человеку! Есть же такие счастливчики, баловни фортуны! О! Но ведь это я – Егоров! Я и есть! Я самый!..
Я разорвал конверт и прочел:
«Вы нехороший, нехороший, нехороший, нехороший, нехороший!
Фрида Штейн
P. S. Перечитайте Гюнтера де Бройна, и вы разгадаете мое сердце.
Ф. Штейн
P. P. S. Кто-то забыл у меня в подъезде сатиновые нарукавники.
Ф. Ш.»
Что все это значит?! – думал я. Торговец, стоматолог и портной! Какой-то нехороший Егоров! Какие-то сатиновые нарукавники! Но ведь это я – Егоров! Мои нарукавники! Я нехороший!.. А при чем здесь Лев Толстой? Что еще за Лев Толстой?! Ах да, мне же нужно перечитать Льва Толстого! И еще – Гюнтера де Бройна! Вот с завтрашнего дня и начну…
Блюз для Натэллы
В Грузии – лучше. Там все по-другому. Больше денег, вина и геройства. Шире жесты и ближе ладонь к рукоятке ножа…
Женщины Грузии строги, пугливы, им вслед не шути. Всякий знает: баррикады пушистых ресниц – неприступны.
В Грузии климата нет. Есть лишь солнце и тень. Летом тени короче, зимою – длиннее, и все.
В Грузии – лучше. Там все по-другому…
Я сжимаю в руке заржавевшее это перо. Мои пальцы дрожат, леденеют от страха. Ведь инструмент слишком груб. Где уж мне написать твой портрет! Твой портрет, Бокучава Натэлла!
О Натэлла! Ты – чаша на пиру бородатых и сильных! Ты – глоток родниковой воды после драки! Ты – грустный мотив, долетевший сюда из неведомых окон! Ты – ливень, который застал нас в горах! И дерево, под которым спаслись мы от ливня! И молния, разбивающая дерево в щепки!.. Ты – юность прекрасной страны!..
Каждое утро Натэлла раздвигает тяжелые воды Арагвы. На берегу остается прижатый камнем сарафан, часы и летние туфли.
Натэлла уплывает, изменчиво белея под водой. Тихо шелестят на берегу кусты винограда «изабель». А за кустами в этот момент бушуют страсти. Там давно сидит на корточках Арчил Пирадзе, зоотехник.
Час назад Арчил Пирадзе вышел из дому.
– Арчил, – заявила ему старуха Кеке Пирадзе, – я жду. Я переживаю, когда тебя нет. Вот смотри, я плюю на крыльцо. Пока оно сохнет, ты должен вернуться.
– Хорошо, – сказал Арчил.
Старуха плюнула и ушла в дом. Тогда ее сын начал действовать. Он вытащил из-под крыльца заржавленное ружье. Потом зарядил его и направился к реке.
Теперь он сидит на корточках и ждет. Наконец смыкаются воды Арагвы. Натэлла ступает по гладким камням…
Что на свете прекраснее этой картины?! Каково это видеть Арчилу Пирадзе?! Арчилу, который приходит в беспамятство даже от гипсовой статуи, изображающей лошадь?!.
И тогда Арчил Пирадзе хватает свое заржавленное ружье. Он поднимает его выше и выше. Затем нажимает курок.
Дым медленно рассеивается, смолкает грохот. Затихает далекое эхо в горах.
– Это опять вы, Пирадзе? – строго говорит Натэлла. – Так я и знала. Сколько это может продолжаться?! Я давно сказала, что не буду вашей женой. Зачем вы это делаете? Зачем ежедневно стреляете в меня? Как-то раз вы уже отсидели пятнадцать суток за изнасилование. Вам этого мало, Арчил Луарсабович?
– Я стал другим человеком, Натэлла. Не веришь? Я в институт поступил. Более того, я – студент.
– В это трудно поверить.
– У меня есть тетради и книги. Есть учебник под названием «Химия». Хочешь взглянуть?
– Взятку кому-нибудь дали?
– Представь себе, нет. Бесплатно являюсь студентом-заочником.
– Я рада за вас.
– Так вернись же, Натэлла. У тебя будет все – патефон, холодильник, корова. Мы будем путешествовать.
– На чем?
– На карусели.
– Не могу. При всем обаянии к вам.
– Я изменился! – воскликнул Пирадзе. – Учусь. Потом и градом мне все достается, Натэлла!
– Не могу. В Ленинграде, увы, ждет меня аспирант Рабинович Григорий, я дала ему слово.
– Я тоже выучусь на аспиранта. Прочту много книг. Можно сказать, я уже прочитал одну книгу.
– Как она называется?
– Она называется – повесть.
– И больше никак?
– Она называется – Серафимович!
– Лично я импонирую больше Толстому, – сказала Натэлла.
– Я прочту его книги. Пусть не волнуется.
– Тихо! – сказала Натэлла. – Вы слышите?
Из-за кустов доносились нежные слова:
Ты сказала мне – нет!
И по снегу, эх, по снегу ушла.
Был суров твой ответ,
Ночь в мученьях,
ах, в мученьях прошла…
По дороге медленно шел киномеханик Гиго Зандукели с трофейной винтовкой. Тридцать шесть лет оружие пролежало в земле. Его деревянное ложе зацвело молодыми побегами. Из дула торчал георгин.
Завидев Натэллу с Пирадзе, Гиго остановился. Винтовку он теперь держал наперевес.
– Вы пришли, чтобы убить меня, Гиго Рафаэлевич? – спросила Натэлла.
– Есть маленько, – ответил Гиго.
– Все только и делают, что убивают меня. То вы, Арчил, то вы, Гиго! Лишь аспирант Рабинович Григорий тихо пишет свою диссертацию о каракатицах. Он – настоящий мужчина. Я дала ему слово…
Тут вмешался Пирадзе:
– Кто дал тебе право, Гиго, убивать Бокучаву Натэллу?
– А кто дал это право тебе? – спросил Зандукели.
Одновременно прозвучали два выстрела.
Грохот, дым, раскатистое эхо. Затем – печальный и укоризненный голос Натэллы:
– Умоляю вас, не ссорьтесь. Будьте друзьями, Гиго и Арчил!
– И верно, – сказал Пирадзе, – зачем лишняя кровь? Не лучше ли распить бутылку доброго вина?!
– Пожалуй, – согласился Зандукели.
Пирадзе достал из кармана «маленькую». Сорвал зубами жестяную крышку.
– Наполним бокалы! – сказал он.
Закинув голову, Пирадзе с удовольствием выпил. Передал бутылочку Гиго. Тот не заставил себя уговаривать.
– Жаль, нечем закусить, – сказал Арчил.
– У меня есть луковица, – обрадовался Зандукели, – держи. Я захватил ее на случай, если меня арестуют.
– Будь здоров, Рабинович Григорий! – сказали они, допивая…
Две недели так быстро промчались. Закончился отпуск. В нашем промышленном городе – тесно и сыро.
Завтра в одном ЦКБ инженер Бокучава склонится над кульманом. Ее загорелыми руками будут любоваться молодые, а также немолодые сослуживцы.
Натэлла шла вдоль перрона. Остался наконец позади стук колес и запах вокзальной гари. Забыта насыпь, бегущая под окнами. Забыты темные избы. Забыты босоногие ребятишки, которые смотрели поезду вслед.
Девушка исчезла в толпе, а я упрямо шел за ней. Я шел, хотя давно уже потерял Бокучаву Натэллу из виду. Я шел, ибо принадлежу к великому сословию мужчин. Я знаю, что грубый, слепой, неопрятный, расчетливый, мнительный, толстый, циничный – буду идти до конца.
Я горжусь неотъемлемым правом смотреть тебе вслед. А улыбку твою я считаю удачей!
Эмигранты
Район Новая Голландия – один из живописных уголков Ленинграда…
Путеводитель
Солнце вставало неохотно. Оно задевало фабричные трубы. Бросалось под колеса машин на холодный асфальт. Блуждало в зарослях телевизионных антенн.
В грязном маленьком сквере проснулись одновременно Чикваидзе и Шаповалов.
Ах, как славно попито было вчера! Как громко спето! Какие делались попытки танца! Как динамичен был замах протезом! Как интенсивно пролагались маршруты дружбы и трассы взоров! Как был хорош охваченный лезгинкой Чикваидзе! (Выскакивали гривенники из карманов, опровергая с легким звоном примат материи над духом.) И как они шатались ночью, поддерживая сильными боками дома, устои, фонари… И вот теперь проснулись на груде щебня…
Шаповалов и Чикваидзе порылись в складках запачканной мятой одежды. Был извлечен фрагмент копченой тюльки, перышко лука, заржавевший огрызок яблока. Друзья молча позавтракали.
Познакомились они недавно. Их сплотила драка около заведения шампанских вин. В тесноте поссориться недолго. Обувь летняя, мозоли на виду.
– Я тебя зарежу! – вскричал Чикваидзе. (Шаповалов отдавил ему ногу.)
– Не тебя, а вас, – исправил Шаповалов.
Затем они долго боролись на тротуаре. И вдруг Чикваидзе сказал, ослабив пальцы на горле Шаповалова:
– Вспомнил, где я тебя видел. На премьере Тарковского в Доме кино…
С тех пор они не расставались.
Дома обступили маленький сквер. Бледное солнце вставало у них за плечами. Остатки ночной темноты прятались среди мусорных баков.
Друзья поднялись и вышли на улицу, залитую робким апрельским солнцем.
– Где мы находимся? – обращаясь к первому встречному, спросил Чикваидзе.
– В Новой Голландии, – спокойно ответил тот.
Качнулись дома. Запятнанные солнцем фасады косо поползли вверх. Мостовая, рванувшись из-под ног, скачками устремилась к горизонту.
– Ничего себе, – произнес Шаповалов, – хорошенькое дело! В Голландию с похмелья забрели!
– Беда, – отозвался Чикваидзе, – пропадем в незнакомой стране!
– Главное, – сказал Шаповалов, – не падать духом. Ну, выпили. Ну, перешли границу. Расскажем все чистосердечно, может, и простят…
– Я хочу домой, – сказал Чикваидзе. – Я не могу жить без Грузии!
– Ты же в Грузии сроду не был.
– Зато я всю жизнь щи варил из боржоми.
Друзья помолчали. Мимо с грохотом проносились трамваи. Тихо шептались постаревшие за ночь газеты.
– Обрати внимание! – закричал Чикваидзе. – Вот изверги! Чернокожего повели линчевать!
И верно. По людной улице, возвышаясь над толпой, шел чернокожий. Его крепко держали под руки две стройные блондинки…
– Будем тайком на родину пробираться, – сказал Чикваидзе.
– Беднейшие слои помогут, – откликнулся Шаповалов.
Они перешли мост. Затем миновали аптеку и пестрый рынок.
– Противен мне берег турецкий, – задушевно выводил Чикваидзе.
– И Африка мне ни к чему, – вторил ему Шаповалов.
Друзья шли по набережной. Свернули на людную улицу. Поблескивали витрины. Таяло мороженое. Улыбались женщины и светофоры.
– Посмотри, благодать-то какая! – неожиданно воскликнул Шаповалов.
– Живут неплохо, – поддакнул Чикваидзе.
– А как одеты!
– Ведь это – Запад!
– Кругом асфальт! Полно машин! А солнце?!
– Еще бы! Тут за этим следят!
Возникла пауза. Ее нарушил Шаповалов.
– Датико, я хочу с тобой поговорить.
– И я.
– А ты презирать меня не будешь?
– Нет. А ты?
– Может быть, того… Ну, как его?.. Убежища попросим… Опять же, частная торговля…
– Ночные рестораны!
– Законы джунглей!
– Торжество бездуховности!
– Ковбойские фильмы!
– Моральное и нравственное разложение! – зажмурился Чикваидзе…
Через минуту друзья, обнявшись, шагали в сторону площади. Там, достав из кобуры горсть вермишели, завтракал блюститель порядка, расцветкою напоминавший снегиря.
Победители
Дело происходит в спортивном зале академии Можайского. Все мужчины здесь – широкоплечие. Манеж освещен четырьмя блоками люминесцентных светильников. На шершавом ковре топчутся финалисты чемпионата России. За центральным столиком – Жульверн Хачатурян, получивший на Олимпийских играх в Мельбурне кличку Русский Лев…
Год назад Хачатурян поступал в университет. Он был самым широкоплечим из абитуриентов.
Шел экзамен по русской литературе. Хачатурян всех спрашивал:
– Прости, что за вопрос тебе достался?
– Пушкин, – говорил один.
– Мне повезло, – восклицал Хачатурян, – именно этого я не учил!
– Лермонтов, – говорил второй.
– Повезло, – восклицал Хачатурян, – именно этого я не учил!
Наконец подошла его собственная очередь. Судья вытащил билет. Там было написано: «Гоголь».
– Вай! – закричал Хачатурян. – Какая неудача! Ведь именно этого я как раз не учил!..
Впрочем, мы отвлеклись.
Информатор произнес в микрофон:
– Внимание! Финальные схватки продолжаются. В синем углу Аркадий Дысин из Челябинска! В красном – Олег Гарбузенко из Мелитополя!
Сейчас же на южной трибуне раздался звук пощечины. Как выяснилось, это были скромные аплодисменты.
Борцы пожали друг другу руки и начали возиться.
Каждый из них весил центнер. Каждому было за сорок. Оба ходили вразвалку, а борьбу ненавидели с детства.
Борцы трогали друг друга, хлопали по шее, кашляли и отдыхали, сомкнув животы.
– Пассивная борьба! – выкрикнул информатор. – Спортсменам делается замечание!
Однако Дысин и Гарбузенко не реагировали. Они стали бороться еще деликатнее. Оба знали свое дело. Оба помнили былые схватки. Бра руле, двойной нельсон, захват, подсечка… Жесткий брезентовый ковер неожиданно устремляется ввысь и хлопает тебя с чудовищным гневом по затылку…
– Синий не борется! – орали зрители. – Халтура! И красный не борется!..
Однако Дысин и Гарбузенко не реагировали. Борьбу они ненавидели, а зрителей презирали.
Вдруг что-то произошло. Возникло ощущение тревоги и беспокойства. Как будто остановились часы в международном аэропорту. Зрители и секунданты начали озираться. Борцы устало замерли, облокотившись друг на друга.
Все уставились на главного судью. Дело в том, что Жульверн Хачатурян безмятежно дремал, опустив голову на кипу судейских протоколов.
Хачатурян спал. Присутствующие не решались его будить. Рефери и боковые судьи ушли в шашлычную. Зрители читали газеты, вязали, штопали носки, распевали туристические песни.
– Если бы ты знал, как я ненавижу спорт, – произнес Аркадий Дысин, – гипертония у меня.
– И у меня, – сказал Гарбузенко.
– Тоже гипертония?
– Нет, тоже радикулит. Плюс бессонница. Вечером ляжешь, утром проснешься, и затем – целый день без сна. То одно, то другое…
– Пора завязывать, старик!
– Давно пора…
– Прости, кто выиграл? – заинтересовался очнувшийся Жульверн Хачатурян.
– Какая разница, – ответил Гарбузенко.
Потом он сел на ковер и закурил.
– То есть как? – забеспокоился Хачатурян. – Ведь иностранцы наблюдают! «Расцветали яблони и груши…» – нежно пропел он в сторону западных корреспондентов.
– «Поплыли туманы над рекой», – живо откликнулись корреспонденты Гарри Зонт и Билли Ард.
– Аркаша выиграл, – сказал Гарбузенко, – он красивый, пусть его и фотографируют.
– И ты ничего, – возразил Аркадий Дысин, – ты – смуглый.
– Короче, ты судья, Жульверн Арамович, ты и решай, – высказался Гарбузенко.
– Какой там судья, – покачал головой Хачатурян. – Бог вам судья, ребята.
– Идея! – сказал Дысин, вытащил монету, бросил ее на ковер.
– Орел! – закричал Гарбузенко.
Дысин задумался.
– Решка, – молвил он наконец.
Хачатурян шагнул вперед, придавил монету носком лакированного ботинка.
– Победила дружба! – торжественно выкрикнул он.
Зазвучали аплодисменты. Спортсмены покинули зал, вышли на улицу. Из-за угла, качнувшись, выехал троллейбус. Друзья поднялись в салон.
Три старушки деликатно уступили им места.







