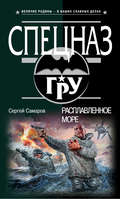Сергей Самаров
Огненный перевал
А я уже видел впереди на склоне огни трех больших костров, но костров было больше, потому что дальше виднелись косо идущие вдоль склона расширяющиеся столбы дыма – так их ветром заворачивало – воронкой…
Подсчитать столбы дыма… И глянуть хотя бы на один из костров поближе, чтобы приблизительно определить количество людей…
2. Капитан Вадим Павловский, пограничник
Значит, банда есть в действительности, и она нашлась…
Эта весть радовала, она уже несла какую-то определенность в неопределенное положение последней недели, а определенность, даже если она опасная, всегда лучше неопределенности, когда не знаешь в действительности, чего тебе ждать.
О том, что где-то неподалеку бродит большая банда, готовящаяся к прорыву, у нас в погранотряде знали по данным спецназа, занявшего перевал, и по полученным из Москвы сводкам, опять же опирающимся на эти же данные. Спецназ ГРУ предупредил нас, требуя от погранвойск повышенной боевой готовности, – не знаю уж, почему так настойчиво, словно мы их последняя надежда. Приказать разведчики не могли, поскольку мы разные ведомства представляем, но настойчивость проявляли непривычную. Может быть, не надеялись, что смогут перевал удержать, если банда будет очень большая? Или просто боялись, что бандиты пройдут к границе другим путем? Хотя других путей здесь, кажется, нет и не предвидится. Правда, повышенная боевая готовность тем и отличается от полной боевой готовности, что при повышенной не отменяют отпуска и командировки, тогда как при полной боевой уехать со службы можно только в случае крайней необходимости. Но данные были получены и приняты не просто к сведению, а и к исполнению, поскольку прямой и вполне конкретный, если не сказать, что жесткий приказ из Москвы дублировал рекомендации разведчиков.
И потому я, естественно, как представитель командования погранотряда здесь, на борту, был заинтересован в результатах воздушной разведки не меньше, чем этот старший лейтенант спецназа. Узнать хотя бы приблизительно силы боевиков. Тогда можно было бы основательно подготовиться к встрече и как-то планировать свои действия. Это одинаково относилось и к спецназовцам, и к нам. Причем для нас, если спецназ не сможет удержать перевал, это грозило очевидными трудностями, не знакомыми спецназу, поскольку разница в нашем с ними положении выливается в разницу протяженности охраняемого участка примерно одинаковыми силами. Конечно, не совсем одинаковыми, тем не менее не настолько разнящимися, как разница продолжительности охраняемого участка. У нас своя специфика и свои методы работы. Удержать или даже ликвидировать группу в несколько человек при переходе границы можно, но сложно, и чаще это не удается, чем удается. Я не служил во времена Советского Союза, когда вся внешняя граница громадного государства, включая каменистые горы и песчаные дюны и исключая только моря и океаны, была обнесена колючей проволокой в три ряда. Помимо того вся граница была напичкана разного рода сигнализацией, которая сразу давала знать, если где-то появится с той или с иной стороны предполагаемый нарушитель. Тогда вот перейти границу действительно было почти невозможно. Сейчас не так. Сейчас ни колючей проволоки, ни контрольно-следовой полосы из просеянного мелкого песка. А если бандиты еще и опыт имеют, то это дело практически почти невыполнимое. Это я знаю лучше других. Просто невозможно предугадать, где и каким путем они на другую сторону двинут, потому что проторенными тропами только дурак пойдет, а непроторенных троп столько, что на всей границе людей не хватит, чтобы их только на участке нашего отряда перекрыть. Не будут бандиты торопиться, полежат в кустах, выждут, когда пройдет наряд, и за спиной пограничников перейдут на другую сторону без опасения получить пулю вдогонку. Получить пулю на последнем шаге всегда неприятнее, чем на первом, но эта неприятность, понятное дело, мысленная, опережающая само событие, потому что, получив пулю и с жизнью простившись, думать об этом уже не будешь и никакая обида не сможет тебя достать…
Лагерь боевиков следовало разведать, хотя я понимал опасность такой разведки… Мы летели не на боевом бронированном ракетоносце, который сбить можно только ракетой. Мы летели на простом небесном работяге транспортнике, пусть и называемом военно-транспортным вертолетом. А военно-транспортный вертолет не имеет никакой защиты, как не имеет и вооружения, чтобы пресечь всякое желание расстреливать свои борта снизу. К тому же шли мы на предельно малых высотах, когда допустим даже автоматный обстрел, а не только пулеметный, и даже он мог бы стать эффективным и опасным для нас.
Честно говоря, я не имел опыта подобных действий и не решался лезть со своими советами, которые могут оказаться смешными и нелепыми тем, кто в этом деле лучше разбирается. Я вообще не имел пока боевого опыта. И потому желал бы прислушаться к мнению старшего лейтенанта Воронцова, опытного спецназовца и командира экипажа самого вертолета, который тоже немало часов, думается, провел в воздухе. И потому позвал Воронцова в пилотскую кабину. Старлей, естественно, как это вообще, насколько я знаю из своего опыта общения, всем спецназовцам свойственно, сразу плечом двинул, оттирая меня на задний план, словно эта разведка только его интересовала. Хотя в этом он, может быть, и прав был. В первую очередь данные воздушной разведки могли заинтересовать спецназ, потому что прорваться к границе бандиты могут только по трупам спецназовцев, а мы в очереди на боестолкновение числимся только под вторым номером.
Командир экипажа отправил старшего лейтенанта в «фонарь» к штурману, откуда обзор гораздо более широкий и видимость лучшая. Я знал, что кабина штурмана слишком мала, чтобы там троим поместиться. Там двоим плечами повернуть невозможно, и потому остался с пилотами. Отсюда обзор тоже был неплохой. Единственно, у меня не было возможности посмотреть себе под ноги под прямым углом. Но дымы костров впереди, про которые уже знал, я увидел издали, и потому почти лег на спинку кресла майора, чем заставил командира экипажа слегка поморщиться, но не возразить. Майор тоже понимал, что разведка, произведенная одной парой глаз, не все может констатировать, тогда как разведка двумя парами уже гораздо качественнее.
Я всматривался в лесистое дно ущелья, втайне надеясь увидеть то, что пропустит старший лейтенант Воронцов, несмотря на то что он профессиональный разведчик. Вернее, именно потому, что он профессиональный разведчик… Всегда хочется оказаться в подобной ситуации специалистом не хуже, чем настоящий профессионал, хотя я понимал, что профессионализм не может быть моментом сиюминутным, но является постоянной величиной, из которой и складывается специализация офицера. Но, к своему сожалению, увидеть я почти ничего не смог. Костры просвечивали сквозь кусты и стволы деревьев и в общем сумраке, создаваемом тучами, видны были ярко. Я смог сосчитать – три костра по центру, и видел еще пять дымов от других костров по кругу, уже на склоне, на левом и на правом. И даже, как мне показалось, фигуры нескольких людей в камуфляжке я сумел выхватить из общего фона, хотя они очень хорошо с этим фоном сливались. Однако этого было мало для составления данных разведдонесения, и это даже я, не разведчик, понимал.
Вертолет пролетел мимо, поднялся чуть выше, насколько позволяли густые облака, и там на месте развернулся. Старший лейтенант Воронцов выглянул с лестницы, ведущей в отсек штурмана. Осмотрелся, меня не видя, и встретился взглядом с командиром экипажа.
– Люк открыть можно? – прокричал, забыв, что у него в руках наушники с микрофоном.
– Пассажирский? – тоже громко переспросил майор.
Я понял, что Воронцов отключил наушники, потому что от кресла штурмана вынужден был удалиться.
– Любой…
– Нет проблем… Зачем?
– Я выставлю туда пару пулеметов. У меня два пулемета во взводе. Надо… Пугнуть… Иначе они сами начнут стрелять.
– Соколов! – позвал майор. – Открой люк. Старлей, предупреди своих парней, чтобы не выпали. Я чуть-чуть на борт лягу, чтобы стрелять было удобнее.
Бортмеханик выскочил из своего закутка и сразу, без вопросов, поспешил в салон.
А старший лейтенант за ним двинулся, чтобы приказание отдать и выставить пулеметы. Я подумал было, чтобы занять его место у штурмана, но Воронцов вернулся быстро и сразу, не вступая в разговоры, спустился в штурманский отсек. Вертолет, до этого висевший в воздухе, чуть вздрогнул и двинулся обратным курсом к лагерю боевиков. Я снова склонился над плечом командира экипажа, чтобы видеть происходящее, и не сразу сообразил, что увидеть мне ничего не удастся, потому что пассажирский люк, в который установили пулеметы, находится ближе к середине корпуса, то есть у меня за спиной, и мне следовало бы в салон выйти, чтобы там, в отсутствие старшего лейтенанта Воронцова, ситуацию контролировать.
Я уже собрался было так поступить, когда понял, что первоначально занял правильную позицию для разведки и что пулеметный обстрел Воронцову понадобился вовсе не для ведения боевых действий. Пулеметных очередей слышно не было. Но стрелять, видимо, начали еще до того, как мы подлетели к главным кострам. Вертолет заметно на левый борт лег и летел медленнее, чем раньше, и мне пришлось даже вцепиться двумя руками в спинку кресла командира экипажа. Но взгляд от картины на дне ущелья я не отрывал. А потом внизу показались люди. Они метались, искали убежище, чтобы не попасть под пулеметный обстрел. И если раньше я видел, как мне показалось, четверых или пятерых боевиков, то сейчас я увидел их гораздо больше, не меньше двух десятков.
Старший лейтенант Воронцов, должно быть, корректировал полет вертолета, снова присоединив наушники и микрофон к креслу штурмана. Самому командиру экипажа трудно было предугадать, что хотелось бы увидеть разведчику, а я ничего не подсказывал. Но вертолет несколько раз почти замирал, потом ближе к склону сдвигался, от маневров машину болтало и трясло сильнее, и все это время внизу суетились люди.
И все это время я не вспоминал о жене. Даже мысли не возникало о том, как она переносит эту болтанку вертолета. Мне как-то совершенно не до нее было, и я от этого был почти счастлив. Вспомнил только тогда, когда понял, что вертолет задирает нос и старается в таком положении высоту набрать. Пусть у меня и мало было боевого опыта, пусть и на вертолетах я летал не часто, но я хорошо знал, что при наборе высоты любой вертолет обычно нос опускает ниже и движется вперед и вверх винтами. И я легко сообразил, что произошло нечто, что мешает нам лететь нормально. А потом ощутил сильный ветер и увидел пробитый пулями фонарь кабины со стороны второго пилота. И сам второй пилот в своем кресле набок завалился. И было это так неожиданно, потому что я прекрасно понимал, насколько губительным для бандитов может быть огонь сверху сразу из двух пулеметов, но как-то в голове не укладывалось, что и в нас тоже могут и должны стрелять. Стреляли в нас, должно быть, со склона, из густых кустов, где мы никакой опасности не видели, потому что фонарь кабины был пробит выше уровня головы второго пилота, если считать, что машина летела ровно. Но она не летела ровно, она летела с наклоном, чтобы облегчить пулеметчикам обзор и обеспечить максимальные удобства для стрельбы, и потому попали во второго пилота.
Но и этого оказалось мало. Только оценив ситуацию, подумав о жене, о том, каково ей там сейчас, но подумав об этом не с сочувствием, а со злостью, я вдруг увидел, как пошатывается в своем кресле, на спинку которого я опирался, и первый пилот. И увидел кровь, стекающую с его руки и из бока. Но машину майор все же пытался выровнять, хотя вертолет покачивался не с боку на бок, а вперед и назад. И, одновременно, нарастала совсем уж малая скорость полета.
– Как вы, товарищ майор? – крикнул я, пытаясь голосом перекрыть шум двигателя, значительно усилившийся в прострелянной кабине.
Майор не через плечо обернулся, а на второго пилота посмотрел и сам качнулся. Вертолет качнулся тоже. Наверное, командир экипажа что-то сказал, хотя слов я не слышал. Но что-то, может быть, интуиция, может быть, что-то другое, заставило меня понять желание майора, и я протиснулся к креслу второго пилота, потрогал пульс на горле, уже зная, что с такими ранами в боку люди не живут, оглянулся и по взгляду майора понял, что следует сделать. Я отстегнул второго пилота, вытащил его из кресла, а сам занял его место.
Я не снял с головы второго пилота наушник с микрофоном, и пришлось снова из кресла выбираться, чтобы обеспечить себя связью. Включить связь я сумел, потому что видел, как она выключалась, когда вытаскивал из кресла второго пилота. Я сел, думая, что буду управлять этой сложной и тяжелой машиной под командой первого пилота, я был уверен, что смогу все сделать, лишь бы мне подсказывали, но в наушнике что-то щелкнуло, и раздался хриплый шепот командира экипажа:
– Поздно, кэп, поздно… Мы падаем… А я уже упал…
И голова майора упала на грудь. Это походило на команду, которой повиновался вертолет, и он тоже начал падать. Неестественно быстро… Так быстро, как не летают вертолеты. И высота у нас была небольшой.
Я еще успел оглянуться и увидеть, как поднимается из штурманского отсека старший лейтенант Воронцов, когда ощутил первый удар. Это еще не был удар корпуса вертолета о что-то, это был удар винта, задевшего дерево на склоне. Но следующий и следующие удары посыпались один за другим, раздался треск, звон, лязг рвущегося металла, а потом что-то ударило меня в голову, и стало тихо и спокойно…
Я еще успел подумать, что, наверное, я сплю, и все это мне снилось…
И я, кажется, уснул…
* * *
– Ну ты везунчик… Иначе не скажешь…
Я не сразу узнал голос старшего лейтенанта Воронцова. Вернее, голос-то я узнал и даже лицо узнал, только никак не мог вспомнить, что это за человек склонился надо мной.
– Ну-ну… Приходи в себя…
Должно быть, мой взгляд изображал собой полное отстранение от реальности, и Воронцов состояние мое понял.
– Что со мной?
– Контузия…
– Вертолет… – вспомнил я наконец.
– Громыхнулись… Не взорвался, не горит, и то ладно. Выбирайся… Ты цел, невредим и почти жив. Мне надо солдат посмотреть.
– Голова… – я осознал наконец-то страшную головную боль.
– А ты не видишь ничего? – спросил Воронцов.
Я попытался повести глазами. И увидел, что в кабину вертолета сквозь разбитый «фонарь» кабины вошел громадный кусок ствола сломанной сосны, ударил меня по голове, но, кажется, не убил. А толстый сук того же ствола, способный проткнуть человека насквозь, оказался у меня под мышкой. Порванная одежда, несколько царапин и гарантированное сотрясение мозга – это все, что я получил вследствие аварии.
Старший лейтенант шлепнул меня по плечу, приободряя, и с трудом протиснулся за сломанным креслом командира экипажа к выходу в грузопассажирский отсек.
Я прислушался. Вертолет не шумел двигателем, и это было настолько непривычно, что возбужденные голоса из салона просто раздражали. Но они же еще и звали, показывая, что я не один остался, и не наедине с Воронцовым тоже. Я тут же осознал, что в салоне летели и солдаты, и священник, и пассажиры, и мои сослуживцы, и – это я почему-то вспомнил в последнюю очередь – жена. Майор, как я определил с первого взгляда, если и жив, то не командир. А я – старший по званию офицер, и там может быть необходима моя помощь. И мне следует поторопиться…
Я стал выбираться из стволов и веток, что заполнили пространство вокруг меня. И увидел прибитого толстой веткой к стене окровавленного бортмеханика, который только что в кабину вернулся из салона. Его прокололо насквозь, как могло бы проколоть меня. Бортмеханик, видимо, склонился над телом второго пилота, и толстая ветка пробила ему плечо, пробила грудь и вошла в стену. Зрелище было неприятным и жутким, и я от этой картины заспешил. Впрочем, большого труда выбраться из кресла не составляло. Я протиснулся за командирским креслом к выходу, тут же торопливо шагнул за порог в салон и только в этот момент почувствовал, что вертолет неустойчив и слегка покачивается. Причем покачивается совсем не так, как качался бы в воздухе во время полета. Это было, скорее, покачивание доски, концы которой установлены на неустойчивых опорах. Такое у меня создалось впечатление. Но разбираться в этом я сразу не стал, потому что в салоне в тяжелом сумраке при неработающем электрическом освещении шло какое-то действие, и я хотел разобраться, что там происходит…
* * *
К моему удивлению, среди потерпевших аварию не было паники. Старший лейтенант Воронцов распоряжался уверенно, только я не понял, почему он первыми высаживает из вертолета своих солдат. Вернее, я понял, что за солдат он несет персональную ответственность и для него, наверное, их жизнь и безопасность важнее всего. Но в вертолете есть гражданские, есть раненые и, как я уже убедился, погибшие. Головная боль после скользящего удара стволом сосны мешала мне кричать громко. И пусть теперь в вертолете не слышно было шума двигателей, Воронцов все равно не услышал, когда я крикнул:
– Старлей! Сначала гражданских высади… И раненых…
Вертолет опять качнуло, и уже настолько существенно, что я чуть не потерял равновесие. Тем более следует первыми высаживать самых слабых и беззащитных. И я почти побежал, если здесь вообще можно было бежать, к Воронцову.
– Старлей, ты оглох? – спросил я резко.
– Тебя, кэп, видимо, сильно бревном ударило… – бросил он через плечо, высунулся из люка и стал что-то рукой показывать. Потом крикнул:
– Еще шагов на сорок поднимитесь. На скалу…
– Что такое? – спросил я.
Но ответа не получил. Воронцов не обернулся, продолжая куда-то всматриваться. И даже бинокль у него в руках появился. Значит, смотрел вдаль. Этот бинокль и помог мне обрести соображение. А полностью вернули к действительности отдаленные уже автоматные очереди. Плотные, жесткие, хлесткие – словно кого-то расстреливали с короткой дистанции. Дальняя стрельба не бывает такой плотной. И стихла она быстро, показывая, что какая-то из сторон показала свое явное преимущество.
– Боевики? – спросил я.
– Значит, не совсем мозги вышибло, – грубо отозвался старший лейтенант. – Отдыхай, ты контужен, и не мешай работать… Лейтенант, обыщи вертолет. Здесь должны быть крепежные ремни. Груз-то как-то крепят, если есть петли. – Палец Воронцова ткнулся в петлю, торчащую из каркаса вертолета.
Приказ относился к лейтенанту Соболенко, отпускнику с одной из наших застав. Причем прозвучал приказ так, словно меня здесь не было и не я был в настоящий момент старшим по званию. А согласно всем уставам, в подобной ситуации командует старший по званию, невзирая на то что мы принадлежим к разным ведомствам. И потому я хотел было возразить, но нарвался на взгляд старшего лейтенанта. И этот взгляд красноречиво говорил, что он – диктатор в ситуации и уже твердо решил взять командование на себя. В любом случае, если бы я попытался перехватить инициативу, солдаты взвода старшего лейтенанта просто не стали бы слушать мои команды, когда приказывает их командир. И я оказался бы просто в смешном положении. А я не люблю быть смешным. Я очень не люблю быть смешным…
– Отдыхай, кэп… – повторил Воронцов уже мягче. – Займись собой и женой…
Ох, не вовремя он напомнил. Я опять почти забыл о ее существовании. И был тем счастлив…
– Я по званию… – начал я тихо, чтобы напомнить ему прописные истины.
– Ты много повоевал в своей жизни? – перебивая меня, спросил он напрямую.
– Я не воевал, но…
– Но я четыре года уже воюю, и предоставь уж мне продолжать делать то, что я умею. Просто не мешай, поскольку у тебя сильнейшая контузия… После ударов оглоблей иногда дураками становятся… А тебя хорошая оглобля стукнула. Не показывай себя в не лучшем свете. Не мешай, я знаю, что делать…
– Где Валуев с Родняковым? – спросил я лейтенанта Соболенко, который вслушивался в наш разговор с Воронцовым и не знал, выполнять ему команду в присутствии своего старшего по званию офицера или ждать моего согласия на это.
Старшие лейтенанты Валуев и Родняков летели вместе с ним, но я не видел их, хотя должны были бы по долгу службы оказаться рядом со мной.
– Родняков… – тихо сказал лейтенант. – Сук дерева обшивку прошил, и ему в спину…
– Валуева я отправил со своими солдатами, – сообщил Воронцов. – Выставил заслоны от бандитов, чтобы спокойно выгрузить раненых.
Он не докладывал, он просто ставил меня в известность. И коротко глянул на Соболенко.
– Выполняй… – послал я лейтенанта.
Соболенко, как мне показалось, бросился выполнять команду с радостью. Старший лейтенант Воронцов своей уверенностью в действиях и командах в самом деле показывал, что имеет право на командование, и за таким командиром обычно охотно идут другие. В принципе, я тоже готов был согласиться, что, согласно опыту, командовать здесь должен Воронцов. Да и боль в голове подталкивала меня к такому решению.
И я, чтобы совсем не упасть лицом в лужу и не показать, что подчинился обстоятельствам, а не пониманию ситуации, выглянул из люка. Оказалось, что корпус вертолета завис в паре метров над землей на крутом склоне, застряв между тяжелыми сосновыми стволами. Но корпус не только между стволами застрял, он был еще подвешен на толстых сучьях, которые не сумел сломать, но которые легко пробили легкую бортовую обшивку. В сумраке салона эти ветви не было видно, но с улицы авария показывала, как должно было достаться тем, кто угодил под такой сук.
– Согласен, командуй, – кивнул я старшему лейтенанту. – Только меня о ситуации информируй. Потери есть?
– Отец Валентин подсчитывает, сейчас доложит… Ты к жене-то хоть подойди.
Он словно бы видел, как мне не хочется это делать, и потому старался принудить меня к этому. Я вздохнул, молча все пережил, но все же двинулся в сторону горы из рюкзаков, совсем недавно бывших еще креслом из рюкзаков. Как раз отец Валентин вытаскивал оттуда за руку Ксению. Но я был уверен, что с ней ничего не случится. С ней то есть всегда что-то случается, но страдают окружающие. Она же, как поплавок, слегка потрепанная, всегда будет на плаву…
* * *
Священник оказался парнем деятельным. Мельком Ксению осмотрев, хотел перекрестить ее, но почему-то остановился и дальше двинулся, чтобы помочь тем, кому помощь в самом деле нужна была, а она еще что-то вслед ему сказала. Мне слов не слышно было, потому что Ксения имеет привычку говорить шепелявым полушепотом, который и разобрать-то сложно.
Я подошел.
– Вспомнил, что я есть? – спросила она.
– Напомнили, к сожалению, – ответил я сухо.