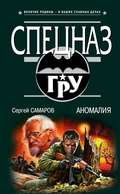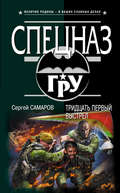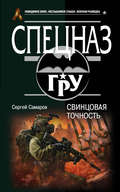Сергей Самаров
Они пришли с войны
© Самаров С., 2016
© ООО «Издательство «Э», 2016
* * *
Пролог
Честно говоря, я толком и не понял, дурак этот подполковник Солоухин или шутник. Но в моей ситуации разницы между этими двумя понятиями было как боевого опыта у курсанта-первокурсника военного училища. Как человек военный по сути своей, я всегда почти трепетно уважал субординацию – исключения случались, но не в этом суть, и мне было бы трудно считать подполковника даже медицинской службы дураком, хотя я лично к медицине всегда отношусь с некоторым недоумением. Тем более, как я несколько раз слышал в госпитале экспериментальной медицины, где лежал, он являлся даже профессором военно-медицинской академии, хотя по какому-то мутному недоразумению Солоухин еще и возглавлял военно-медицинскую комиссию. Думаю, в военно-медицинской академии профессору платили обидно мало, в госпитале еще меньше, а он мечтал зарабатывать, как футболист, потому и согласился комиссию возглавить. При этом в саму комиссию входили даже полковники медицинской службы, пусть и не имеющие профессорских званий. Но шуточки, которые подполковник любил бросать горстями, не говорили ни о его высоких интеллектуальных способностях, ни о том, что он может когда-нибудь до генерала дослужиться и в самом деле зарабатывать хотя бы половину зарплаты самого бездарного футболиста. При этом генерал, в моем понятии, должен быть в меру болтливым и в меру сдержанным. Мне лично доводилось только с такими и встречаться. Относительно сдержанности Солоухина ничего сказать не могу – не встречался с таким вопиющим фактом, а вот относительно его болтливости мне даже болтать не хочется…
Короче говоря, меня пригласили в кабинет, на двери которого было написано «ВТЭК[1]», первым. Подполковник снял очки – так ему, наверное, было сподручнее меня видеть, посмотрел мутным взглядом нетрезвой лягушки из наполненной спиртом академической банки и сказал всем собравшимся за столом. Собравшимся, как я понял, не для выпивки.
– А вот и человек, которому танк по голове проехал. Рекомендую познакомиться…
И сам Солоухин не чувствовал, что глупость несет несусветную. А ведь я уже много раз объяснял профессору, конечно, не прямыми словами, которые ему понять было бы сложно при его рисованной интеллигентности – я от него ни разу матерного слова не слышал, а недвусмысленными намеками, что он по какому-то недоразумению еще и подполковник и потому просто обязан видеть разницу между танком и боевой машиной пехоты. Там, где меня ранило и контузило, вообще танков не было. Танковые части на Северном Кавказе сейчас не воюют. Но по моей голове даже боевая машина пехоты, к его сожалению, не проезжала, как я понимаю, поскольку голова у меня, мне кажется, совершенно не сплющена. Я лично ее несколько раз и ощупывал, и в зеркало рассматривал. Просто я был на броне БМП, когда бандитская мина, посланная из «Подноса»[2], попала в башню, и меня взрывной волной и осколками просто сбросило с брони на деревья стоящего вплотную к дороге леса. Еще, помнится, этот подполковник говорил мне, что я половину леса переломал, когда от танка отлетал. Врет, конечно, как дышит. Лес там на много километров тянется. А я так далеко не отлетел. Не помню такого полета. И с логикой Солоухин ни одним полушарием своего профессорского мозга не дружит. Мог бы, в конце-то концов, догадаться, если я отлетал после взрыва, то тем более, каким это образом гусеница танка, который в те горные места даже вертолетом никогда не забрасывали, или даже БМП, на броне которой я ехал, могла по моей голове покататься? Бронетехника с развороченной башней гналась за мной по лесному массиву? Но там, помнится, лесной массив по такому крутому склону вверх взбирался, что только скалолазу и сдался бы. Да и механик-водитель БМП был знакомый. Какой ему смысл по мне кататься? Любил, короче говоря, подполковник глупости говорить. А мне было неприятно их слушать и не иметь возможности возразить, поскольку капитану не положено возражать такому количеству старших офицеров, сидящих здесь, в госпитале экспериментальной медицины, за столом, покрытым кроваво-бордовым сукном. Даже одному подполковнику-экспериментатору – и то не положено, несмотря на то что он профессор.
– И что прикажете теперь с вами делать? – недобро усмехаясь, спросил меня майор медицинской службы, обладатель носа спело-сливового цвета. Тоже, наверное, член комиссии.
– Элементарно просто. Подлечить, товарищ майор, – ответил я, почему-то не собираясь старшим офицерам ничего приказывать.
– А потом отправить обратно в часть… – добавил какой-то полковник, читая мои мысли.
Тоже мне, медиум нашелся. О таких вещах нельзя говорить ехидно! Службы, похоже, полковник на своем веку не нюхал и из операционной не высовывался. Этого бы полковника вместе с подполковником Солоухиным хотя бы на недельку отправить без звездочек на погонах ко мне в роту. Вот тогда бы они об армии с бо́льшим уважением говорили, чем о своих операционных. У нас операции посложнее случаются, чем у них…
– Конечно, товарищ полковник, – согласился я. – У меня рота лучшая в бригаде. Меня и солдаты, и офицеры ждут.
– А нога как? – напомнил подполковник Солоухин.
– Я уже каждое утро бегаю вокруг корпуса, – сообщил я новость, от которой все члены комиссии, независимо от армейских званий, одинаково напряглись, а кое-кто даже привстал в удивлении, меня разглядывая. Но глаза ни у кого, к счастью, не лопнули.
– Чего? – не понял подполковник Солоухин. – Бегаете? Кто разрешил?
– А мне никто не запрещал, товарищ подполковник, потому и бегаю. Помню, в детстве у меня дома сосед по этажу был. Я его всегда считал огрызком октябрьской революции, а он, оказывается, был всего восьмидесятипятилетний дед, инвалид. Так вот, он в пять утра ежедневно с палочкой бегал. Я тоже с палочкой начал. Потом и без нее научился обходиться.
Полковники, подполковники и майор дружно переглянулись. Физиономии скривились в недоверии. Только одна медсестра Люся Улыбка, что сидела в торце стола и заполняла какие-то документы, улыбнулась. Она сама видела, что я по утрам бегаю. С утра удивилась, а к обеду и удивляться перестала.
– И давно бегаете? – спросил Солоухин.
– Давно. Два дня. Сегодня во второй раз бегал. Вчера с реабилитационной палочкой, с тростью то есть, сегодня без нее. Я и сюда, видите же, без трости пришел.
– А зачем вообще тогда у вас костыли в палате стоят? – возмутился Солоухин, словно я бегал с пулеметом вокруг его дома и беспрестанно стрелял во все стороны.
– Не могу знать, товарищ подполковник. Это больничное имущество.
– Вы на костылях еще полгода минимум должны ходить.
– Ходить, может быть… Но с ними, товарищ подполковник, бегать неудобно, – честно признался я. – Под мышками при беге натирают.
– Да… Танк, видимо, был тяжеловат… – заладил свое Солоухин. – Короче говоря, так, Тимофей Сергеевич. Мы вас отправляем на инвалидность по причине тяжелого ранения конечностей, одновременно выдаем вам направление на обследование в институт военной психиатрии. А уж что там они решат, не знаю. Это вопрос не нашей хирургической компетенции. Вы свободны…
– Но я же уже бегаю, товарищ подполковник, – с просьбой во взгляде возразил я. – Через неделю я уже и хромать перестану.
– Даже если вы, товарищ капитан, на моих глазах левой рукой дверь насквозь пробьете, это не сделает титановую трубку, которую вам вставили в бедро, полноценной костью. И коленная чашечка на той же ноге у вас как поставлена из легированной нержавеющей стали, так и будет стоять. Новая кость не имеет обыкновения вырастать и приобретать необходимую форму. Это вопрос окончательный и обжалованию не подлежит. Идите, капитан, в палату. Как документы будут готовы, Улыбка вам принесет и объяснит все, что вам нужно будет сделать и оформить.
– Но я же… – Я еще на какое-то чудо наивно надеялся.
– Я же говорю, танк тяжелый был… – Подполковник переглянулся с коллегами и усмехнулся с некоторым, как мне показалось, презрением.
И это меня обозлило. Я круто развернулся, каблуками по-гусарски не щелкнул, поскольку на ногах были не сапоги со шпорами и даже не армейские берцы без шпор, а только больничные тапочки, и строевым шагом двинулся к двери. Но у двери в глазах от злой расстроенности побелело, и я, чтобы сбросить напряжение, под шаг, вложив в удар вес тела, выбросил вперед левую руку. На левой руке у меня кость на титан не меняли, но там был разрыв мышечной ткани в месте соединения бицепса, трицепса и средней доли дельтовидной мышцы – рука, как мне Солоухин по скудоумию пообещал, еще лет пять подниматься не будет. К моему удивлению, кулак высунулся с другой стороны двери, похоже, пробив надпись «ВТЭК».
Хорошо, что там никто к двери не прислонился.
Члены комиссии, кажется, слегка удивились. Я увидел это, обернувшись.
– Извините…
Про танк подполковник Солоухин больше не вспомнил. Трудно, видимо, вспоминать с раскрытым ртом. Даже слова так не выговоришь, и все мысли вылетают.
За дверью стояли два солдата-язвенника и еще один капитан саперной службы, которому кисть руки оторвало, дожидались своей очереди быть комиссованными. Они смотрели с испугом на мой кулак. А я посмотрел на дверь. И удивился, какая она оказалась толстая. Надо же… С трудом пробил…
Даже руку немножко больно…
* * *
В палате я некоторое время ковырялся в своем кулаке, но все же вытащил четыре занозы. Сам кулак от беседы с дверью не пострадал. Ну да, он-то у меня тренированный. На протяжении многих лет я неуклонно выполняю железное правило – бью по стандартному боксерскому мешку по пятьсот раз слева и по пятьсот раз справа. Разные удары – прямые, боковые, кроссы, апперкоты. Число пятьсот относится только к акцентированным ударам. Простые легкие удары в счет не идут. Бью, конечно, без перчаток. В спецназе ГРУ не принято на таких занятиях перчатки использовать. В реальном бою противник ждать не будет, пока ты перчатки натянешь. Суставы слега сплющились, но не болят. А в месте ранения, где осколок от мины через плечо прошел и разорвал мне мышцы, было только ощущение дискомфорта. Рука почти работала, что не могло меня не радовать. Не знаю, как Солоухина.
Правда, в госпитале экспериментальной медицины боксерского мешка для соответствующих экспериментов не нашлось. Все, что здесь имеется, это велотренажер и беговая дорожка в кабинете физиотерапии. Это меня не устраивает категорически. Но боевую форму я вернуть себе всегда сумею. Даже на дверях тренируясь. Хотя лучше было бы выбирать более тонкие двери.
Через четыре часа в офицерскую палату, привычно улыбаясь, зашла медсестра Люся Улыбка. Раньше, услышав случайно, я думал, что Улыбка – это что-то вроде позывного или клички, потом только узнал, что у нее фамилия соответствует выражению лица. В гармонии, значит, человек живет. Вот у меня так при всем желании получиться не может. Фамилия моя – Страхов. Страх я, конечно, бывает, испытываю, как и всякий нормальный человек, но обучен на службе силой воли побеждать его. И иногда в зеркало заглядываю, но себя не пугаюсь. Вполне нормальное у меня лицо. Что еще раз говорит о том, что наш профессор излишне языком болтает, и никакой танк по моей голове не катался. Совсем я не страшный. Никого не боюсь сам и никого при этом не пугаю. Какая уж тут гармония…
Улыбка положила на тумбочку картонную папку с документами.
– Как себя чувствуете, Тим Сергеевич?
– Относительно скверно, – сердито ответил я. – Какое может быть самочувствие у человека, которого на инвалидность отправляют. Я военный по образованию, по крови и воспитанию. Я просто не умею быть гражданским человеком. Жить гражданским не умею.
– Я вас понимаю… – Она перестала улыбаться лицом, а глаза по-прежнему улыбались. – Но новая кость у вас все равно не вырастет. А с титановым протезом-заменителем еще могут быть проблемы. Металл в организме не всегда приживается. Да и коленная чашечка тоже… Это значит, что об армии вам придется забыть.
Люся вытащила из папки документы:
– Везде, где я галочки проставила, вам расписаться нужно.
Я стал расписываться не читая. Хотя, вообще-то, такой привычки не имел. Всегда предпочитал знать, где я свой автограф оставляю. Но настроение было настолько скверное, что стало абсолютно все равно, где расписываться, и вообще, что со мной в дальнейшем будет. Инвалид в тридцать лет…
Последний листок Люся держала в руках.
– Здесь расписываться не нужно. Это вам направление в институт военной психиатрии.
– А зачем это? Что, снова положат? И опять на несколько месяцев?
– Я не могу знать, на какой срок вас положат. Проведут обследование. Потом, может быть, лечение понадобится. У вас же была контузия сильнейшая. Причем третья по счету. Это может сказаться на… На поведении. Двери начнете ломать…
– А если я это направление просто выброшу? – поинтересовался я. – Что будет? Наденут на меня смирительную рубашку и отвезут туда насильно?
Она плечами передернула.
– Не знаю. Ничего, наверное, не будет. Будете пенсию получать только по нашему профилю. «Ранение конечностей»… Мы же только за хирургию можем отвечать…
– А что, после этого самого института могут и вторую пенсию дать?
Меркантильные дела меня волновали всегда достаточно мало. Но жизнь такая сейчас, что пенсии, я слышал, будет не хватать на многие мелочи, к которым я давно уже привык.
– Нет. – Она опять улыбнулась. – Вторую не дадут. Какую-то одну. По нашей линии у вас будет третья группа с правом трудоустройства. А если по психиатрии, то… – Люся задумалась. – Скорее всего, вторая и без права трудоустройства или даже первая. По крайней мере, с большими ограничениями в этом праве…
– С какими ограничениями?
У нее улыбка сошла и с лица, и из глаз исчезла. Глаза стали серьезными.
– Извините, я ваши документы смотрела. У вас там и права на автомобиль, на танк, на боевую машину пехоты, на бронетранспортер. И даже лицензия на управление вертолетом, и документы на наградное оружие…
– Есть у меня такие документы, – согласился я.
– За руль вам садиться не разрешат и права на ношение оружия вас лишат. Поскольку статья об инвалидности будет психическая…
– Дураком то есть признают? – прямо и весело спросил я.
– Не совсем так. Просто неадекватным человеком. Не всегда способным отвечать за свои поступки. Только вы забудьте, что это я вам сказала…
– Я не болтун, Люся. Я – не подполковник Ослоухин…
– Солоухин… – поправила меня Улыбка, но глаза ее блеснули озорством. Это значило, что новое произношение фамилии заведующего отделением ей понравилось, и теперь это будет распространяться среди медперсонала больницы.
В палату зашел немолодой старший прапорщик Геннадий Кузьмич по кличке Геморрой Кузьмич. Ему только два дня назад геморрой прооперировали. В хирургическом отделении среди солдат, как я слышал, поговаривали, что кличка за товарищем старшим прапорщиком пришла из батальона мотопехоты, где он служил старшиной роты и где его так прозвали солдаты. Улыбка при виде старшего прапорщика покраснела, словно совершила откровенный служебный подлог, и торопливо встала с моей кровати, будто перед этим лежала там.
Я передал ей подписанные документы, она передала мне направление в психи, которое я, глядя ей в глаза, тут же скомкал в комок и забросил к себе в тумбочку. И сделал это так решительно, что сам даже не усомнился в том, что никогда ни в какой институт военной психиатрии на обследование или на лечение я не лягу.
Улыбка вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Она почему-то всегда, как я заметил, стесняется Геморроя Кузьмича. Но тому было не до нашего разговора. Он залез к себе в тумбочку и вытащил пластиковый пакет с едой. Геморрой Кузьмич всегда был готов жрать без перерыва на обед, чтобы не похудеть и не потерять великий авторитет, висящий у него на поясе. А после еды бегом бежал в туалет. Короче говоря, представлял собой фабрику высококачественных фекалий. Вот только не знаю я, просто как-то вопросом не задавался – он на унитазе тоже жует или нет…
* * *
Эта отправка на пенсию по инвалидности была, вообще-то, всеми ожидаема, но я в это не хотел поверить до конца. Наверное, просто потому, что прекрасно понимал, как это разрушит мою жизнь, к чему я, естественно, почти никогда не стремился, за исключением случаев, когда необходимо было рисковать собой при выполнении боевых заданий. Верить в инвалидность я просто не желал. Надежда всегда умирает последней. И она во мне жила, я надеялся, что произойдет чудо, все образуется, все останется по-прежнему. И сам предпринимал к этому ходы. Бегать начал тогда, когда врачи считали, что я уже должен уметь ползать. Но теперь свершилось худшее, и разрушение оказалось неизбежным. Рушилась не только жизнь офицера, командира лучшей роты бригады, о чем свидетельствовал вымпел, висящий на стене в ротной канцелярии. Три последних года моя рота по итогам всех проверок и сравнительных мероприятий бригады спецназа ГРУ признавалась лучшей среди себе подобных. А бригада называлась лучшей среди других бригад. А это уже само по себе значит, что моя рота лучшая по всем показателям во всей Российской армии, поскольку простая армия ни под каким соусом не может сравниться со спецназом ГРУ. К этому уже все привыкли, но с лучшей роты и спрашивали всерьез. И задания во время командировок на Северный Кавказ давали самые ответственные, которые могли оказаться не по плечу другим аналогичным подразделениям. И все это рушилось. Рушилась при этом и личная жизнь. Здесь я наивных иллюзий не строил. Ибо хорошо знал характер жены и даже говорил вслух, что смерть – это тот момент, когда щупальца моей жены не будут шарить по моим карманам после получения жалованья. Жена всегда очень любила, когда я уезжал в боевые командировки, поскольку такие командировки хорошо оплачивались. Она сама мне признавалась еще до свадьбы, что с детства была жадной. Я думал, что сумею ее перевоспитать. Не получилось. И она меня тоже не перевоспитала. Не смогла сделать не только жадным, но даже экономным. А как меня сделать таким, если я от рождения другой! И на этой почве между нами часто возникало взаимное непонимание, порой переходящее в серьезное фронтовое противостояние с применением всех видов тяжелой артиллерии. Наталья в такие дни ходила по дому как неразорвавшийся артиллерийский снаряд сто пятьдесят второго калибра и постоянно обещала разорваться…
В госпиталь экспериментальной медицины ко мне она приезжала дважды, шипуче, как бутылка прокисшего пива, открытая в жару, ругалась непонятно на кого, что поездки дорого стоят. И уже с первого визита стала намекать, что ей моя инвалидская пенсия не нужна – это несопоставимо с ее запросами и привычками утонченного человека, пользующегося только ароматизированной туалетной бумагой. Естественно, не нужна только вместе с мужем-инвалидом. Если бы муж-инвалид просто отдавал ей пенсию и жил где-нибудь в стороне непонятно как и на что, она, думаю, согласилась бы. Так, по крайней мере, говорило мое знание людей вообще, и собственной жены в особенности. А вместе с мужем пенсия ее не устраивала, несмотря на то что такого мужа, как я, прокормить несложно – ем я мало, да и то часто в бригадной столовой вместе с солдатами. Понятно, бесплатно. Но ее и это не интересовало. О каком-то уже созревшем решении она откровенно сказала во второй свой приезд, когда сумела уже кое-что о моей дальнейшей судьбе разведать. Это были не прямые слова, но прямой и понятный намек. Я, естественно, не сильно грустил и не особенно радовался. И все же, скажу честно, как перед расстрелом, облегчение тогда наступило. В глубине души я давно уже знал, каким образом, в определенный момент, все это закончится. И даже сам хотел этого. Как человек честный, я хотел быть честным не только внешне, но и внутренне, то есть перед самим собой. Но я бы долго еще не решался порвать с ней отношения просто из чувства собственной ответственности. Мы ответственны за тех, кого приручили, как говорил Сент-Экзюпери. Но когда она решилась, я самодовольно не возражал. Тогда, впрочем, еще жила во мне надежда, что меня подлечат и оставят служить. Но этого не произошло. Значит, одновременно с окончанием военной карьеры благополучно завершилась и семейная жизнь. А как вообще жить в гражданской жизни – я не понимал абсолютно. Это, понятно, касалось не семейных отношений, а жизни вообще, каких-то занятий, стремлений к чему-то. Но спецназ ГРУ учит своих бойцов адаптироваться к любым условиям. Значит, и мне предстояло адаптироваться.
А жена… А что – жена? Без жены не хуже… Это даже не развод – это избавление. Слегка радуясь, что все разрешилось без особых усилий с моей стороны, я достал из тумбочки трубку и позвонил жене, чтобы обрадовать и ее…