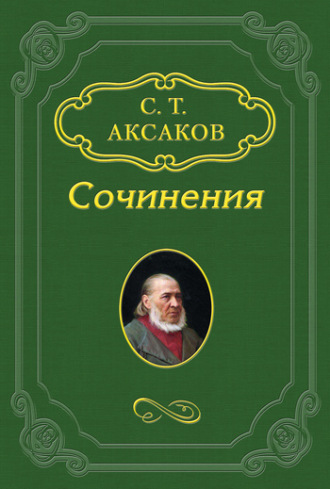
Сергей Аксаков
Литературные и театральные воспоминания
Окончив завтрак, согласно моему совету и желанию, мы отправились кататься по озеру на такой лодке, которая, кроме нас, могла бы поднять еще дюжину Шаховских. Погода стояла тихая, гребцы и кормщик были привычны к своему делу, и наша большая лодка легко скользила по гладкой водяной поверхности. Скоро мы увидели острова с распустившимися деревьями, покрытые зеленою травою и молодым камышом. Они стояли в разных местах, точно корабли на якорях; к одному из них прильнула лодка Писарева, и мы поплыли было прямо к нему, несмотря на его маханье и крики, что мы отпугаем всю рыбу. Я упросил Кокошкина уважить беспокойство рыбака, подъехать к острову с противоположной стороны и, держась возле его края, тихонько подплыть к лодке Писарева. Так и сделали. Он был в большом волнении, показывая две оборванные удочки, уверял, что одну оторвал огромный окунь, а другую откусила щука. Я изъявил сомнение, потому что, попробовав крепость оборванных лес, увидел, что они перегнили, и доказывал Писареву, что такую лесу, при сильной неосторожной подсечке, оторвет всякая и небольшая рыба. Разумеется, Писарев не согласился и не верил мне; он отказался от привезенного ему завтрака, просил только оставить его в покое, называл меня не рыбаком, а дилетантом. Я не стал его уверять в противном, и мы отправились продолжать свою прогулку. Мы достигли верховья так называемого Бедринского озера, и, увидев, что в него впадал небольшой ручеек из соседнего болота и такие же два ручейка – из парка, я убедился, что озеро имеет постоянную небольшую прибыль свежей, проточной воды. Вот отчего масса воды мало убывала в летние жары, отчего она не портилась, как это бывает в стоячих водах, и отчего подвергалась только обыкновенному летнему цветению.
Накатавшись досыта, осмотрев, по моей просьбе, противоположный болотный берег озера и все пловучие острова, налюбовавшись огромным зеркалом воды, которую начинал подергивать мелкой рябью южный ветерок, и опять-таки наслушавшись декламации Кокошкина, мы возвращались весело домой. Подъехав к Писареву, мы нашли его уже более склонным и к завтраку и к возвращению в дом. От ветерка остров начинал колебаться и двигаться, рыба не брала, солнце припекало рыбака, и Писарев, выудивший, однако, двух или трех окуней, пересел к нам в лодку. На возвратном пути я старался растолковать Писареву, что я истинный рыбак, что охота для меня не шутка, а серьезное дело, что я или предаюсь ей вполне, или вовсе ею не занимаюсь, что охотничьих parties de piaisir [32] я терпеть не могу и что завтра, когда все собираются удить рано утром (то есть часов в восемь, а не в два, как следует), я решительно с ними не поеду под предлогом, что хочу удить с берега; выберу себе местечко под тенью дерев, для виду закину удочки, хотя знаю, что там ни одна рыбка не возьмет, и буду сидеть, курить, наслаждаться весенним утром, свежим воздухом и молодою пахучею зеленью недавно распустившихся деревьев. Писарев признавался, что не понимает меня, и сказал, что на заре уедет опять к островам, потому что бедринский рыбак обещал ему обильный клев.
В доме было прохладно, и мы, проведя несколько часов на солнце, очень обрадовались этой прохладе. Сначала все отдыхали, чувствуя какую-то приятную усталость, а потом всякий занялся тем, что ему было по вкусу: кто читал, кто пошел гулять; мы же с Писаревым занялись удочками. Я навязал ему несколько новых и крепких лес с крючками, грузилами, наплавками и поводками из струны, чтоб щуки не могли перекусить их: навязал, к сожалению, на старые, сухие и негнуткие удилища, потому что вырубать новых и сушить было некогда; приготовил и себе две удочки. Кончив свое дело, я предложил Кокошкину осмотреть его парк и выслушать его затеи. Кокошкин очень обрадовался моему предложению. Парк был нехорош. Мне показалось, что местами он был вырублен, но вековые аллеи остались, и некоторые были так широки, что Кокошкин хотел устроить в них сцену. Ему хотелось уладить два спектакля: ночной и денной; для ночного назначалась аллея, а для денного – небольшая круглая насыпь, под которой находились подвалы или ямы для хранения картофеля и разных других огородных овощей. «Милый! – говорил Кокошкин с увлечением, – на этой насыпи я поставлю деревеньку из пратикабелей,[33] а бока засажу срубленными березками. Само собою разумеется, что занавесь будет не подниматься кверху, а раздергиваться на две стороны; на ней я прикажу нарисовать ту самую деревеньку в перспективе, которую зрители увидят на сцене; занавесь же в аллее будет представлять дремучий лес. В аллее пойдут отлично „Попугаи“ Хмельницкого, а здесь, для денного спектакля, надобно выбрать пиеску, представляющую деревенскую улицу: таких пиес много. Разница между освещением солнечным и освещением лампами будет поразительна, и ты увидишь, как изменятся в твоих глазах одни и те же актеры и актрисы, особенно последние. Надобно признаться, что искусственный свет выгоднее для прекрасного пола и вообще для сцены. Я перевезу сюда театральную школу недели на две; это будет очень полезно для здоровья моих воспитанников и воспитанниц; девицам отдам весь дом, а сам с воспитанниками и гостями помещусь во флигеле, который для этого исправляют; другой же флигель, для московских дам, уже готов. Ты, конечно, милый, прогостишь у меня все это время». – Я отвечал Кокошкину решительно, что никак этого не сделаю, но что приехать на день или на два постараюсь. Кокошкин был очень недоволен, старался прельстить меня ночными катаньями по озеру с музыкою, пением и факелами, небольшими фейерверками на пловучих островах и проч. и проч., но я решительно отказался. Я дал слово приехать, если не будет препятствий, именно на первый спектакль, который назначался на 22 июля, в день именин его дочери,[34] для которой воздушный театр будет сюрпризом. Походив, мы воротились довольно поздно и нашли уже накрытый стол, хотя не на пристани, которую жгло уже яркое солнце, но все-таки на берегу озера, в густой древесной тени. Товарищи наши, несмотря на завтрак, проголодались и ожидали нас с нетерпением. Обед шел живо, весело и даже шумно, как вдруг один из старинных слуг Кокошкина торжественно сказал ему: «Ваше превосходительство! острова приплыли посмотреть, как вы изволите кушать!» Мы оглянулись и сквозь ветви дерев увидели подплывшую флотилию островов. Мы вскочили из-за стола и сошли на берег: шесть островов, из которых некоторые были значительной величины, пригнанные легким ветерком, полукругом, тихо подходили к пристани. Мы приветствовали их громкими восклицаниями; хозяин потребовал шампанского, и мы отсалютовали прибывшим гостям полными бокалами. К вечеру острова подошли еще ближе к пристани, потому что тут вода была глубока; но когда село солнце и ветерок потянул от запада, острова как-то столпились и потом начали медленно отплывать: поутру они были уже на другом конце озера.
Мы отобедали поздно, когда уже наступал очаровательный майский вечер. Я вполне им наслаждался, но, судя по местности, как опытный рыбак и охотник, предвидел, что по захождении солнца будет сыро и прохладно. Я уговорил всех отложить вечернюю прогулку на лодке и просидеть вечер на пристани.
Общество наше уменьшилось. Мы потеряли самого приятного собеседника: Верстовский, как директор музыки при театре, должен был уехать в Москву. В Бедрине не было фортепьяно, и потому мы лишены были удовольствия слушать одушевленное пение Верстовского: без аккомпанемента он никогда не пел, отзываясь слабостью голоса. Кокошкин торжественно обещал, что к будущему нашему приезду будет привезена рояль.
Предвидение мое относительно позднего вечера вполне оправдалось; еще солнце не совсем зашло, как по болотистой стороне озера начали подниматься пары; точно, по лесу местами курился дымок и не шел кверху, а расстилался по земле. Скоро струи тумана побежали от берега по неподвижному зеркалу воды – и я увел насильно Писарева в дом, убеждая его и доказывая, что такая сырость для него очень вредна. Он плохо верил моим медицинским сведениям, но слушался меня из дружбы. Через полчаса пришли к нам Кокошкин и все остальное общество. Туманная сырость заставила их последовать нашему примеру. Кокошкину непременно захотелось сделать конец вечера литературным, и за стаканами и чашками душистого чаю, с деревенскими сливками, началось чтение. Писарев прочел элегию «Бедринское озеро», которую Шаховской и еще двое из присутствующих не знали; прочел еще какие-то стихи. Я читал наизусть отрывки из моего перевода 8-й сатиры Буало; прочел также мою русскую идиллию «Рыбачье горе», которую Писарев очень любил. Пущин с удивительным искусством прочел несколько басен Крылова. Такой натуры и простоты чтения я ни у кого не слыхал, кроме как у самого Крылова. Пущин не был литератор, но писал очень легкие и забавные стихи. Кокошкин, разумеется, не остался в долгу. Он прочел нам рассказ откупщика из своей комедии «Воспитание» и новую басню, написанную им для чтения в первом собрании Общества любителей русской словесности. Названия басни не помню, но она начиналась стихом Державина: «Шекснинска стерлядь золотая» и проч. Шаховской ничего не помнил наизусть, но сказал нам, что он привез с собой начало своей комедии, еще никому не читанной, под названием «Игроки». Шаховской был известный полуночник и хотел было немедленно начать чтение новой своей пиесы; но было уже поздно, мы все были утомлены от наслаждения прекрасным весенним днем и просили автора отложить чтение до завтра. Кокошкин благословил нас на сон грядущий «во имя муз и Аполлона». Эта декламаторская выходка рассмешила всех.
Мы с Писаревым спали в одной комнате. Великого труда для меня стоило упросить его, чтоб он не ездил удить слишком рано, то есть до восхождения солнца. Он долго не соглашался. Я сам дал оружие против себя: я сказал ему, что самое лучшее уженье рыбы на заре. Теперь напрасно я уверял молодого моего друга, что это совершенно справедливо только в отношении к таким породам рыб, каких в Бедринском озере не водилось, как, например, язей, головлей, лещей и линей. Линей, как говорил тутошний рыбак, было много, только на удочку они не шли. Я растолковал ему, что на глубине никогда линя не выудишь, что он держится в местах мелких, тинистых, в заливах, заросших травою, которая тогда едва начинала показывать свои верхушки в полоях пруда. Я должен был побожиться Писареву, что хищная рыба рано поутру не берет, а берет после восхождения солнца. По счастию, старый рыбак, тут находившийся, подтвердил мои слова, и Писарев согласился. Приказано было разбудить меня, когда солнышко станет в дерево вышиною.
Рыбак с точностью исполнил приказание и часа в четыре разбудил меня. Писарев крепко спал и не слыхал наших переговоров с рыбаком. Я проворно оделся и вышел на пристань. Чудное весеннее утро охватило меня приятною свежестью. Солнце, казалось, спешило на горизонт и торопливо укорачивало древесные тени, лежавшие с нашей стороны поперек озера. Не было и признаков сырости и тумана, только роса белела и светилась на деревьях и на траве. На несколько мгновений я пришел в какое-то упоение, но не Бедринское озеро расстилалось передо мною, а другие, более милые и дорогие мне места представились моему воображению. Я грустно очнулся и пошел к Писареву. Он тихо и крепко спал сном молодости и здоровья, как мне казалось; даже жалко было прервать такой спокойный сон; но, боясь, что он осердится, зачем разбудили его поздно, я разбудил его. Через четверть часа все было готово; я заставил Писарева сверх платья накинуть шинель, и он, полный охотничьих надежд, тем более, что старый рыбак достал мелкой рыбы для щук, нетерпеливо и весело отправился на уженье. Разумеется, все наше общество спало непробудным сном, хотя с вечера все решились встать рано, чтоб ехать удить; но как не было дано приказания, чтоб их разбудить, то я был уверен, что они проспят часов до восьми. Я взял свои удочки, табак и трубку, пошел по береговой дорожке, выбрал себе живописное местечко и уселся на нем, чтобы вполне насладиться прекрасным утром. Утро в самом деле было очаровательное: пение птичек заглушалось раскатами и щелканьем соловьев; с полей доносилось пение жаворонков; на противоположной, болотистой стороне токовали бекасы и свистали погоныши. Я погрузился в сладкое самозабвенье, всю очаровательную прелесть которого можно чувствовать только после, в воспоминании. Но всему бывает конец, тем более такому блаженному состоянию, и я через час точно проснулся к действительности: бессознательно закинутые мною удочки лежали неподвижно, я почувствовал, что сидеть было сыро, и воротился назад, чтоб провесть остальное утро на пристани, в покойных креслах, и чтоб исполнить мелькнувшую у меня вечером мысль – попробовать, не будет ли брать там рыба: глубина была значительная. Но едва я только уселся и закинул свои удочки, как в доме послышался шум и громкие разговоры, люди бегали и суетились, к лодке пришли гребцы и кормчий. Я удивился, что мои приятели поднялись так рано: было только шесть часов. Я пошел в дом, и весело было смотреть, как торопливо вставали, одевались и в то же время пили чай и кофе мои любезные рыбаки. Они приветствовали меня радостными восклицаниями и горячими просьбами ехать вместе с ними, быть их наставником и руководителем в рыболовстве. К общему и неожиданному их удовольствию я согласился. Мне вдруг представилась мысль, как будут забавны Кокошкин, Пущин, а особенно Шаховской с удочками в руках! Я решился забыть об охоте и полюбоваться комическим зрелищем, напился и чаю и кофе – и мы отправились.
Я не имел причины раскаиваться, что согласился на просьбы моих товарищей. Я и теперь не могу вспомнить без улыбки тех забавных сцен, которые так наивно они передо мною разыгрывали. Прежде всего начался спор, у которого острова пристать. У всех были свои важные причины; но авторитет Кокошкина, как хозяина, более знакомого с местностью, получил перевес; мы подошли и привязались обоими концами лодки к самому длинному острову, более других заросшему лесом. С нами в лодке был мальчик для насаживания червей, очень хорошо знающий свое дело; но и здесь Кокошкину захотелось поумничать, и он велел насадить себе червяка совершенно не так, как надобно. Пущин последовал его примеру, и только Шаховской и двое других дилетантов благоразумно подчинились уменью и опытности мальчика. Все замолчали; несколько времени продолжалась совершенная тишина, и я имел время произвесть наблюдения над лицами моих приятелей. Кокошкин стоял на ногах, приняв театральную позу какого-то героя. Он с важностью и уверенностью держал в одной руке удилище, а другою подперся в бок; небольшая его фигурка в большой соломенной шляпе была очень забавна. Пущин, в серой пуховой шляпе, сидел, завернувшись в шинель, положа удилище на край лодки, и зорко смотрел на свой наплавок, как на поставленную карту (он любил играть в банк). Шаховской представлял из себя большую копну сена, на которой лежала голова, покрытая белой фуражкой с длинным козырьком от солнца, из-под которого торчал длинный, птичий его нос, готовый, казалось, клюнуть подбородок; он не выпускал из рук удилища, но в маленьких и прищуренных его глазах можно было заметить, что он думает не об рыбе, а скорее о каком-нибудь действующем лице в своих «Игроках»… Тишина и спокойствие продолжались недолго. При первом колебании наплавка каждый спешил выхватить свою удочку и с жаром уверял, что у него сорвалась большая рыба. Я старался убедить их, что рыба и в рот не брала их червяков, что это трогала какая-нибудь маленькая плотичка или верховка задевала за лесу и даже за наплавок, около которого она всегда вертится. Приятели плохо верили моим словам, покуда многократные опыты не доказали, что они справедливы. Между тем один из гребцов, усевшись верхом на носу лодки, закинул одну из запасных удочек и вытащил порядочного окуня. Это обстоятельство разгорячило еще более моих рыбаков, а слова гребца, что он тогда потащил удочку, когда уже и наплавка не было видно, убедили их гораздо сильнее моих красноречивых уверений. Все решились последовать благому примеру и дожидаться, покуда наплавка не будет видно. Это могло бы иметь свою дурную сторону; но как здесь брали только окуни и щуки, то это безусловное правило было недурно. Вскоре успех увенчал терпенье, и несколько окуней было выужено; но зато охотники так разгорячились, подняли такой шум, крик и шлепанье удилищами по воде, что испугали и отогнали рыбу. Напрасное ожидание не замедлило наскучить им, и началось придумыванье разных хитростей, как бы приманить рыбу; бросали хлеб, червей, листья и траву, которые доставали с острова, даже землю. Кто подвязывал наплавок к самому грузилу, кто удил вовсе без наплавка, кто болтал удилищем в воде, услыхав от одного из гребцов, что окуни бросаются на шум и на муть;[35] Кокошкин принялся было уже читать, думая подманить рыбу своей декламацией, а Шаховской пустился импровизировать забавную галиматью стихами, к чему он имел большую способность и чем иногда забавлял приятельское общество… Все это было очень смешно и забавно, но, наконец, мне наскучило, я громко стал требовать возвращения домой, где ожидал нас завтрак: сейчас избитое сливочное масло, редис, только что вынутый из парника, творог, сметана, сливки и прочее. Требования мои были уважены. На возвратном пути мы заехали к тому острову, где виднелась лодка Писарева, но ее уже там не было; гребцы наши сказали, что лодка уже у пристани, куда и мы поспешили.
Писарев встретил нас с сияющим лицом. Лов был удачен, и рыба клевала очень хорошо; он поймал двух щук, из которых одну фунтов в шесть, и десятка полтора окуней; в числе их были славные окуни, с лишком по фунту. Писарев обнимал и благодарил меня за удочки. «Всем тебе обязан, – говорил он, – а у моего товарища две удочки откусили щуки, а третью оторвал большой окунь». Вся добыча была отправлена к повару для приготовления к обеду.
После завтрака Шаховской напомнил нам о своих «Игроках», и мы изъявили общее желание его слушать. Надобно предварительно сказать, что слушать чтение Шаховского было дело не легкое, особенно если он читал по черновой рукописи. Мы испытали это уже не раз. По большей части случалось так, что Шаховской начинал читать свою пиесу, чтоб «дать тон», как он говорил, и потом передавал ее Кокошкину или мне; разумеется, это делалось только в таком случае, если рукопись была начисто переписана; но в настоящую минуту он притащил кучу листов такого маранья, что мы заранее пришли в ужас: очевидно, что читать должен он был сам. Мы заметили Шаховскому, что трудно будет разбирать черновую рукопись, до такой степени испещренную поправками, до невероятности запачканную; но удержать его от чтения было уже невозможно. Он говорил: «Пелвый акт я сам пелеписал, и по нем будет холосо читать; втолой, плавда, не пелеписан, ну, да я лазбелу как-нибудь». Но, увы, набело переписанный первый акт похож был на самый первый черновой набросок. Шаховской весьма плохо разбирал его, заикался, плевал, перевирал стихи и слова: вместо «друг мой» говорил «труп мой», вместо «я отплачу тебе» – «я поплачу по тебе» и, наконец, рассердился на себя. Досталось бедной его лысине, которую он шлепал немилосердно. «Ну сказите, ради бога, – вопил Шаховской, – есть ли в Лоссии какой-нибудь сапозник, какой-нибудь подлец, котолый бы писал так, как я! Ну, да тепель я посталаюсь», – и начинал стараться. От старанья выходило хуже; наконец, Шаховской поперхнулся, закашлялся и задохся. Я вызвался попробовать: не могу ли читать, покуда он отдохнет? Шаховской с радостью согласился, но читать не было никакой возможности: кроме сквернейшего почерка, грубейщих ошибок в правописании, – знаков препинания или совсем не было, или они ставились наперекор человеческому смыслу. Я возвратил рукопись, сказав, что никак разобрать не могу. Шаховской сделал гримасу и стал продолжать чтение сам. За одним актом он промучил нас часа два. По несчастию, действующих лиц было множество и с презатейливыми именами; были князья и графы, и Шаховской, не разбирая их фамилий, беспрестанно употреблял фамилии своих знакомых – то граф Завадовский, то граф Комаровский, то князь Вадбольский! Невозможно было не хохотать! Князь Шаховской был тем хорош, что от всей души сам смеялся над собою. Наконец, кончился первый акт. Мы сидели в тени на берегу озера, ветерок продувал нас, и сидеть было прохладно, но Шаховской был весь в мыле, как добрая лошадь, проскакавшая десятка два верст. Мы уговаривали его отдохнуть, пройтись или даже полежать на стоявшей тут широкой садовой скамейке. Он пошел походить с нами по тенистой береговой дорожке; мы старались заговорить с ним о другом: о постановке его пиесы кому-то в бенефис, о петербургских интригах против него, даже о Шекспире, о котором он никогда не мог довольно наговориться, но, увы, все наши хитрости были напрасны: через полчаса Шаховской сказал: «Ну, тепель я вам плочту втолой акт или хоть половину его. Вы слышали только изложение пиесы, а тепель начинается интлига». Делать было нечего, опять пошли к столу и сели вокруг Шаховского. Можно себе представить, каково было чтение второго акта, написанного на листах ненумерованных, да и слово «написанного» не идет сюда: это просто прыгали по листам какие-то птицы, у которых ноги были вымараны в чернилах; листов один к другому он не мог подобрать, и выходила такая путаница и ералаш, что, наконец, сам Шаховской, к общему нашему удовольствию, сказал: «Надо напелед листы лазоблать по порядку и пеленумеловать, но я рассказу вам интлигу». И начал рассказывать интригу, в которой мы, правду сказать, также ничего не поняли. По догадкам, дело состояло в том, что шайка мошенников-игроков приезжает на ярмарку, чтоб обыграть каких-то богатых князей и графов; сначала успевает в своем намерении, потом игроки ссорятся между собою и выводят друг на друга разные плутни. Молодые графы и князья их прощают и отпускают мошенничать по всей православной Руси. Шаховской просил нас сказать ему откровенно наше мнение о первом акте и о содержании пиесы. Кокошкин отделался тем, что по первому акту нельзя судить, но что, вероятно, в последних трех будет много комических сцен и что князь не может написать пиесы, в которой не был бы виден его талант; но мы, все остальные, мягче или резче, неблагоприятно отозвались о новой пиесе. Я откровенно сказал князю Шаховскому, что считаю оскорблением искусству представлять на сцене, как мошенники вытаскивают деньги из карманов добрых людей и плутуют в карты. Я был не совсем прав и не предчувствовал гоголевских «Игроков»; неясно и нетвердо понимал я тогда, что высокое художество может воспроизводить и пошлое и, до известной степени, низкое в жизни, не оскорбляя чувство изящного в душе человеческой. Некоторые нападали на спутанность и неясность отношений между игроками, на стихи, изрубленные, как лапша, в разговорах действующих лиц; а Пущин сказал, что Шаховской только по слухам знает черных игроков и что язык у них и приемы совсем другие. Всех более впился в Шаховского Писарев и доказывал ему несообразность в определении характеров некоторых лиц и непоследовательность, неестественность в их поступках. Он даже говорил, что это не люди, а воплощенные мысли князя Шаховского, что это безжизненные куклы. Итак, бедный князь Шаховской, не привыкший к такому дружному и положительному охуждению, претерпел совершенное поражение. Он защищался, сколько мог, но крепко призадумался и приуныл. Как-то и все были, казалось, не очень довольны, что огорчили старика своею резкою искренностью.[36] Рано позавтракав, рано сели обедать, а после обеда все полегли спать, в том числе и я. Но мне не спалось; я взял себе в провожатые одного из бедринских старожилов и пошел осматривать противоположный, болотистый берег. Я нашел, что почти во всю длину озера или пруда, шириною сажен на сто, вплоть до небольшого возвышения, тянулось топкое, кочковатое торфяное болото, поросшее мелким лесом. Не имея длинных сапог, я не мог исследовать его сам, но мой спутник ходил по нем до самого озера; я увидел, что почва колыхалась и опускалась под его ногами, и чем ближе к воде, тем сильнее. Я убедился, что вода уже подмыла земляную поверхность этого болота, избитого окнами, или прососами, и что рано или поздно оно все превратится в пловучие острова, а вода займет его место до самого того возвышения, по которому я шел. Тогда-то Бедринское озеро, подумал я, будет поистине великолепно.[37] Я поспешил домой, чтобы поздравить Кокошкина с блестящею будущностью так горячо любимого им Бедринского озера; но, к удивлению моему, нашел все общество, занятое – картами. «Как, – сказал я, – и в деревне понадобились карты! Это верный знак, что пора в Москву; это значит, мы пресытились красотами весенней природы и всеми деревенскими удовольствиями». Я смутил моих приятелей своей ораторской выходкой, а сам в ту же минуту присоединился к ним и с увлечением занялся игрою. Впрочем, я поспешил сказать моим товарищам, что мы не деревенские жители, а городские гости, приехавшие в подмосковную полюбоваться природой, и что для нас простительно примешивать городские забавы к деревенским. Шаховской был удивительно забавен в игре! Он все хитрил и считал свои хитрости непроницаемыми, но их почти все отгадывали, кроме Кокошкина; Писарев же умел так искусно его подлавливать, что бедной лысине Шаховского и коричневому пятну на лбу доставались частые удары ладонью.







