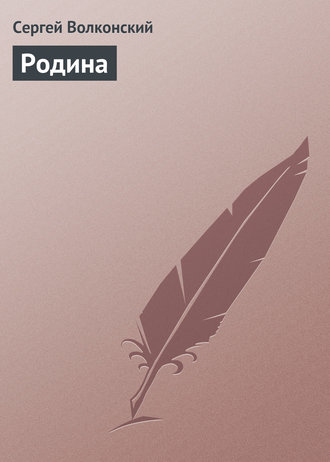
Сергей Волконский
Родина
«Не тяжело ли для всей нашей Русской земли и для нашего православия, что мы, вступая в XX век, до сих пор не можем отрешиться от обычая преследовать тех людей, которые не одинаково с нами мыслят, веруют и исповедуют иную веру? У нас отменено рабство телесное, но неужели можно спокойно смотреть на порабощение духовное?.. Если человек есть действительно свободное, разумное существо, то дайте же ему возможность свободно избирать веру и исповедовать ее. Не преследуйте его, если он совсем отказывается от внешнего исповедания веры, или переменил ее на другую».
Статья священника Черкасского – второе слово из среды духовенства в этом направлении. Было еще коротенькое скромное письмо в «Новом времени» под инициалом «У», в котором смелый батюшка заявляет, что преосвященный Никанор ошибается, а г. Розанов пребывает в полном согласии с апостолом Павлом.
К сожалению, в печати эти два голоса остались единственными из духовенства. Все остальное было в совсем ином и, должен сказать, безотрадном духе; и безотрадно не только направление, а самые способы мышления, приемы полемики. Прямо руки опускаются перед этой путаницей понятий, туманностью рассуждений, неточностью и произвольностью терминологии. Все, что появлялось на страницах «Московских ведомостей» за подписями Рождественских, Знаменских, Симанских и других, ряд возражений, опубликованных в «Орловском вестнике» и перепечатанных в других газетах, все это канцелярское богословие – какая-то логическая немощь, облекающаяся в елейно – благолепную церковность на подкладке политической благонадежности.
Эта последняя нота так сильна, что она пробивается сквозь всякую другую аргументацию, лезет вперед, и теперь уже не только всякий церковный, но всякий философский вопрос на богословской почве превращается в вопрос полицейско – политический; это какой-то заколдованный круг, из которого никто выйти не может и в который непременно всякого хотят втащить. Вселенская церковь Христова больше не упоминается, христианство упоминается не в смысле доктрины – «вы мыслите, чувствуете по-христиански или не по-христиански», – но в смысле организации, корпорации, и тут в смысле тела Христова нам говорят только об одном: русская православная церковь, и всякий вопрос, возникший на почве религиозной, переводится на почву «русскости».
Все пускается в ход, чтобы это смешение понятий не только укрепить, но как бы освятить свыше. Уже апостолы, видите ли, знали, намекали, предвидели, предсказывали. Апостол Павел говорит, что антихрист придет, когда будет взят из мира «удерживающий». Оказывается, под «удерживающим» апостол разумел русское самодержавие. В Апокалипсисе говорится о Деве с Младенцем во чреве. Оказывается, что эта Дева – православие, а Младенец во чреве – Россия. Что же удивительного, что, с одной стороны, простой народ говорит: «Известное дело, все святые говорили по-русски», – а с другой стороны, г. Скворцов в январском номере «Миссионерского обозрения» называет требование свободы и непринуждения в делах веры подкопом под русскую государственность. Можно спорить против мнений, нельзя спорить со смешением понятий…
Через месяц после орловского инцидента появилась проповедь отца Иоанна Кронштадтского. Выписываю то, что было в газетах.
«В наше лукавое время появились хулители святой церкви, как граф Толстой и в недавние дни некто Стахович, которые дерзнули явно поносить учение нашей святой веры и нашей церкви, требуя свободного перехода из нашей веры и церкви в какие угодно веры.
Что это такое? Отречение от христианства, возвращение к язычеству, к одичанию, к совершенному растлению нашей природы? Вот куда ведут наши самозванные проповедники.
Нет, невозможно предоставить человека собственной свободе совести потому именно, что он существо падшее, растленное, и у человека страстного и совесть грешная, и свобода растленная, а у иного и совсем сожженная.
Благодаря проповедуемой ныне Стаховичами свободе совести многие стали совсем жить без совести: юноши, женский пол, мужья и жены, торговые аферисты, банкиры, – отсюда жалкое растление многих.
Вообще жизнь утратила у многих христианский характер и стала хуже языческой. Отсюда происходят убийства, самоубийства, частые поджоги; отсюда неповиновение детей родителям, юных старшим, подданных начальству. Выходит все наизнанку…
Вот свобода совести к чему приводит».
Не подвергая разбору слова иерея, замечу только, что он под свободой совести разумеет нечто совсем другое, чем другие ее противники, так как говорит о ней как о чем-то, что у нас уже существует…
Малое знакомство публики с терминами и безразборчивое с ними обхождение полемистов внесло немало туманности в полемику. Епископ Никанор и отец Иоанн прямо употребляют слова «свобода совести» в смысле «распущенность»; за ними и многие другие отождествляют требование свободы исповедания с требованием безнаказанности за всякие бесчинства и изуверства. На это даже и отвечать не приходится: пусть говорящие проверят сами себя.
Наконец вышел знаменитый ноябрьский номер «Миссионерского обозрения». В нем целый отдел посвящен орловскому инциденту. Статьи расположены в следующем порядке: 1. В. А.Тернавцева «Вопрос о свободе совести на Орловском миссионерском съезде». 2. Текст доклада Стаховича. 3. Епископа Никанора «Свобода совести как христианская основа». 4. Священника – миссионера Потехина «В чем находят себе оправдание меры государственного принуждения и воздействия на раскольников и сектантов». 5. Воронежского епархиального миссионера Т. Рождественского «Свобода совести и русское законодательство о сектантах». 6. Краткий свод словесных возражений тамбовского миссионера Айвазова, Тернавцева и редактора «Миссионерского обозрения» В. М.Скворцова.
Странное впечатление производят все эти статьи. Они снабжены, если можно так выразиться, всею оболочкой серьезного исследования, но на самом деле под оболочкой внешних приемов я напрасно ищу одного ясного, точного положения: все шатко, туманно, приблизительно, не говоря уже о противоречиях. Одно общее все-таки ощущается у всех этих авторов, одно ясно выраженное положение. Приведу его со слов священника Потехина, который выражает его наиболее просто, реально и, будем иметь смелость назвать вещи их именем, – наиболее цинично:
«Мы благословляем государственную власть в России, которая, начиная от помазанника Божия, благочестивого царя нашего, и кончая слугами его, всеми этими губернаторами, судьями, исправниками, становыми и урядниками, – так ненавистными «свободной совести» пропагандистов, – идет на помощь церкви, препятствует свободе отпадения и совращения и дает время пастырям и пасомым их исправиться и укрепиться, чтобы они наконец вошли в свою силу и просвещали бы, и охраняли бы, и спасали бы охраненное ими стадо Божие». Итак, государство путем запрещений своих под страхом уголовных кар сберегает паству церкви до каких-то неизвестных времен, когда она «наконец» «оправится» и уже сама будет заниматься ими.
Развивая свою мысль о «провиденциальном» значении государственной власти, священник Потехин договаривается до того, что будто бы «даже во времена гонений, когда государство стремилось разрушить церковь, даже в те времена эта самая власть в силу собственного принципа закономерности обуздывала народные движения против христианства и не давала врагам его со свободной совестью… до конца губить церковь Христову». И оказывается, что только благодаря заботливости языческих правителей, гонителей христиан, церковь спасена от гибели. «Язычники, иудеи, магометане вовне, – продолжает священник Потехин, – и бесчисленные еретики внутри церкви, все они, по человеческим понятиям, могли много раз разрушить церковь Христову, и все они были сдерживаемы рано или поздно «законом», мерами власти государственной, которая, сознательно или бессознательно, это другой вопрос, в своих собственных интересах или в интересах церкви, сдерживала совершение величайшего после грехопадения прародителей и распятия Христа на кресте беззакония – разрушение церкви Христовой».
До этого еще никто не доходил. Протоиерей Смирнов ставил сохранение чистоты веры в России в зависимость от твердости монархического принципа: преосвященный Никанор видит в русском единодержавии орудие, препятствующее воцарению в мире Антихриста; преосвященный Феофан находит, что Антихристу просторнее действовать в республиках и демократиях, потому что некому произнести «veto». Но, кажется, еще ни один церковный писатель не договаривался до того, что если врата адовы не одолели ее, то этим церковь обязана между прочим Нерону и Диоклетиану…
Итак, несокрушимость церкви обеспечена (так нас учат наши пастыри церкви) властью государственной, покоится на начале человеческом, земном, преходящем. Можно ли серьезно подойти к какому-либо выводу, выросшему на подобном основании? Можно ли серьезно говорить о вопросах церкви с теми, кто сам о ней так говорит? Очевидно, нет, ибо это разговор о разных предметах. То, что они называют церковью, это нечто ими самими сочиненное, ими составленное и объясненное, но уже совершенно не то, что действительно есть церковь. Нельзя же в самом деле верить, что при перемене государственного строя в той или иной стране рухнет Вселенская Христова церковь. То, что построено на государстве, что на земных началах утверждено, то, конечно, испытает преходящесть всего земного, но Вселенская церковь не рухнет – по крайней мере это обещано, хотя священнику Потехину обещание это и не кажется вполне надежным и много раз, по его мнению, церковь висела на волоске. Убедить отца – миссионера в неосновательности его опасений, конечно, трудно, но еще труднее видеть в церкви, о которой он говорит как о спасенной от гибели мерами государственной власти, ту церковь, о которой сказано, что врата адовы не одолеют ее. Когда мне это скажет чиновник департамента, я ему скажу: «Виноват, вы не знаете, что такое церковь, вы заблуждаетесь». Но когда мне это или подобное вышеприведенным изречениям говорят пресвитеры и епископы, то я им говорю: «Вы знаете, что такое церковь, но вы ее искажаете».
Во всяком случае, мы должны быть благодарны священнику Потехину за то, что он высказал свои мысли до конца. Люди, стоящие на ложной почве, редко это делают; они чувствуют, что, чем дальше развивать корень, тем ярче выступит ложь, и это останавливает их. Так, верно сказал кто-то, что недоговоренная истина звучит как ложь, а недоговоренная ложь звучит как истина. «Договаривайте, договаривайте же!» – все время хочется крикнуть нашим полемистам. Скажите: можно или нельзя, справедливо или несправедливо, по-человечески или не по-человечески, по-христиански или не по-христиански? Или уже в таком мраке мы живем, что не различаем этих крайностей? Так скажите, можно ли оправдать настоящее положение вещей, не противореча смыслу, духу и свидетельству православной церкви? Священник Потехин сделал попытку такого оправдания; мы видели, к чему она привела.
Во всякой стране, где есть церковная цензура, то есть цензура церкви без вмешательства гражданской, такие писания были бы осуждены как противоречащие свидетельству церкви о самой себе. Да и весь упомянутый номер «Миссионерского обозрения» производит впечатление какого-то отречения церкви от самой себя ради чего-то другого, якобы более общего. Этому придается характер жертвы, даже подвига. «Церковные ведомости» прямо говорят, что в настоящем своем положении перед гражданской властью в России церковь «жертвовала собой для мира»… Очевидно, газета хотела или, вернее, не хотела сказать, что гражданская власть приносила церковь в жертву миру. Но как же церковь позволяла жертвовать собой.
Иногда этому отречению от себя дается такое объяснение, что не церковь жертвует собой для мира, а пастыри жертвуют своим личным человеческим самолюбием ради церкви Божьей. Так, священник Потехин уверяет, что невыносимо тяжело положение миссионеров, которых вследствие вмешательства гражданской власти «клеймят именем гонителей веры, душителей свободы совести, новейшими инквизиторами»… Но мысль о судьбе церкви, говорит автор, стоит выше личных чувствований и расположений, и он с готовностью принимает всякие злохуления. Такой взгляд на дух своего пастырского служения и на свои обязанности перед церковью выставляется как признак смирения.
«Именно в силу исторически сложившихся отношений церкви к светской власти миссионеры на Орловском съезде не входили в область вопросов общегосударственного значения. Храня по отношению к власти апостольские заветы послушания, они, видимо, верят, что остальное исполнит сам Господь». Неужели «смирение и простота» удержали их от обсуждения самых жгучих запросов духовной жизни человека? Можно лишь пожалеть об этом.
Если мне скажут, что это неправда, что смирение это искреннее, я отвечу – тем хуже, ибо есть случаи, когда смирение перестает быть доблестью. Когда воин, поставленный для защиты сокровищ, вверенных ему царем его или народом, «из смирения» не поднимает оружия при приближении посягателей, смирение его не доблесть. Когда пресвитеры, воины воинствующей церкви Христовой, которым Бог поручил блюсти церковь свою, «из смирения» не поднимают духовного меча своего в отражение посягательств, откуда бы эти посягательства ни шли, – смирение их не доблесть.
Поменьше «смирения», г. Тернавцев, и побольше ясности. Что значит – «остальное совершит Господь»? Что это – остальное? То, о чем пастыри «по смирению» не говорили, а о чем «светский, посторонний съезду человек» в противоречие со съездом заговорил? Как же Бог исполнит то, что вам, да и стольким пастырям кажется несправедливым и опасным и, наконец, антицерковным? Ясности! Ясности! – восклицаешь все время, читая наших полемистов. Епископ Никанор находит, что о свободе совести нельзя даже говорить, потому что это есть логический абсурд; отец Иоанн Кронштадтский говорит о свободе совести как о чем-то, что у нас уже существует, и перечисляет ее пагубные последствия; г. Тернавцев утверждает, что свобода совести переходит в свободу от совести, считает ее, значит, логически возможной, но нравственно нежелательной; священник Потехин считает выражение «гонитель свободы совести» клеймом для христианина, значит, признает свободу совести чем-то уважительным, чего преследовать и отнимать нельзя; по мнению миссионера Айвазова, отделение церкви от государства подобно отделению души от тела и «не может возбудить сочувствия с нашей стороны»; по мнению «Церковных ведомостей», от такого отделения церковь только бы выиграла (как известно, она «жертвует собой»).
Света! Мы молим о свете. Только не оттуда он, кажется, брезжит, откуда мы вправе ожидать его.
«На предложении Стаховича, – говорит Тернавцев, – необходимо остановиться с большим вниманием, потому что почти вся образованная Россия думает так же, как он». Да, и в этом наша надежда. И мы признательны г. Тернавцеву, что он взял на себя труд подсчитать нас; если бы это сделал один из нас, его бы, вероятно, обвинили в самообольщении. Но г. Тернавцев забыл присоединить к образованной России ту «необразованную», которая самою жизнью и понесенными за веру страданиями научена если не думать, то, во всяком случае, чувствовать так же, как мы.
«Совесть человеческая единому Богу токмо подлежит, и никакому государю не позволено оную силою в другую веру принуживать». Мы уповаем, что наступит день, когда эти слова Петра Великого будут выражать собой не теоретическое пожелание, а подтверждение практического порядка вещей в нашем отечестве. Всякая попытка оправдать противное идет вразрез с духом христианства и ведет к искажению понятия православной церкви. Если сами представители священства принимаются за такого рода задачу, то это только доказывает внутреннюю слабость церкви, вынужденной цепляться за постороннюю помощь и прибегать к чужим мерам, чтобы заменить бессилие своего меркнущего авторитета. Вернет же себе церковь свой авторитет только тогда, когда будет признана ненормальность ее канонического положения в России. А сейчас ненормальность больного организма объявляется нормальной, и ложными теориями силятся эту ненормальность оправдать. Это может усыпить умы, но не может излечить больного организма. Мы больны. Россия больна, и, что хуже всего, больна духом. Для оздоровления ее одно только средство – освобождение духа в делах веры от вмешательства недуховной власти и возвращение церкви утраченного авторитета. Считаю это главной, существеннейшей, более того – единственной реформой. Не хочу сказать, что когда это будет, то настанет золотой век, но пока этого не будет, все другие реформы – напрасная трата сил.
Я сказал, что доклад этот я читал в разных домах и что в свое время были записаны у меня отзывы и разговоры. Припомню кое-что не столько в виде оценки моей работы, а ради характеристики тех людей, чьи слова привожу.
Когда я написал принцессе Елене Георгиевне Альтенбургской с предложением прочитать у нее доклад по вопросу о свободе вероисповедания, она ответила запиской, в которой писала: «Конечно, чем больше об этом, тем лучше». Брат ее, принц Георгий Георгиевич Мекленбургский, выслушав чтение, сказал: «Никогда еще в петербургской гостиной не было высказано столько правды». Здесь же на чтении у принцессы присутствовал поэт граф Голенищев-Кутузов, типичный представитель официального мышления и благонамеренного вероисповедания. Брат мой Петр во время чтения наблюдал за ним; он сказал мне: «Кутузов краснел все больше и пыхтел так, что страшно за него становилось». Брат мой в свою очередь был предметом наблюдения: доктор Петерсон, известный дерматолог, сказал мне: «Как интересно было наблюдать за лицом вашего брата во время вашего чтения; такая живость, такая подвижность». Известный писатель, юрист Анатолий Федорович Кони подошел и сказал: «А Победоносцов топнет ногой и скажет «Eppur non si muove» (то есть «а все же не движется» – искажение слов Коперника о вращении Земли).
У великого князя Владимира Александровича я нашел ясное и тонкое понимание общечеловеческой стороны вопроса и наткнулся на традиционное «но», встающее всегда между принципиальными вопросами и их применением к России. Бедная Россия, которую всегда кормили каким-то детским сгущенным молоком, как ребенка, у которого еще зубки не прорезались, и не дай Бог, чтобы прорезались…
Глубоко взволновало меня отношение старика графа Палена. Помню, как на концертном балу в Зимнем дворце окликнула меня графиня. Кто помнит концертные балы? Есть еще такие, что помнят? В дверях между «концертным залом», где танцуют, и «арабской», где играют в карты, всегда сидели старые статс – дамы, смотрели, разговаривали, вспоминали и судили: увядшая краса, увешанная драгоценностями, почтенная старина, украшенная знаками отличия и благоволения. Мне всегда казалось, что в этом месте «арабской залы» паркет горячий. Тут около двери в танцевальный «концертный зал» – другая дверь, в «малахитную», где царская семья пьет чай. И это преддверие, отделенное стеклянной дверью, всегда насыщено беспокойством, любопытством, некоторым страхом. Тут или сидят, или торопливо скользят. Скользят адъютант или фрейлина, пролетает с закорючистым пером на кивере своем придворный скороход, в то время как у ломберных столов сидят за картами – эполеты, лысины, оголенные, давно уже не молодые плечи. Андреевские ленты и нагрудные портреты… Почему я там очутился?..
– А, Волконский, мы знаем, что вы заняты интересными вопросами и пишете интересные вещи.
Кланяюсь милой старушке графине Пален.
– Мой муж так интересуется, но он болен, никуда уже не ездит. Будьте милы, как-нибудь приходите к нам позавтракать, а после завтрака ему почитаете.
Подробности разговора нашего после чтения я забыл; но помню, что после глубокого молчания, смотря в точку перед собой, старик сказал: «Я думаю, кто тот человек, который бы мог передать ваш доклад государю…» Я остолбенел. Мне показалось в эту минуту, что всякий может себе ставить этот вопрос, но только не он, ибо кто же, как не он, может передать? Он, рыцарь без страха и упрека, он, бывший министром юстиции, он, верховный церемониймейстер во время коронации, он, достигший предела всех наград и всякого доверия? Но я не подумал об одном – он лютеранин. У нас не умели никогда верить безотносительности заявлений иноверца в области этих вопросов. Когда человек поднимал голос и нельзя было придраться к нему лично, всегда находили аргументы, подтачивающие беспристрастность его заявлений. Говорили: «Ну да, известное дело, он получил заграничное воспитание», – или: «У него бабушка лютеранка», – или: «У него фамилия польская», – или «У него мать католичка» – и пр. и пр.
Нельзя перечислить, во всяком случае, я не могу перечислить всех нелепостей, которые говорились по поводу моего доклада, но, перечитывая эти строки, написанные двадцать лет тому назад, и сейчас еще задыхаюсь от тогдашнего угара. Кричит разум, совесть вопиет, и встает на дыбы все внутреннее существо. Ясно становится, что не могла держаться такая ложь; она должна была рухнуть. Но в мире нравственном зло, которое рушится путем уничтожения, а не путем врачевания, приводит к обратному ту – как отражение в воде опрокидывает колокольню; и физический принцип возмещения превращается в нравственный принцип возмездия.
Сейчас мы проходим через период возмездия, и, как всегда бывает, страдает огромное большинство людей неповинных. Против возмездия ополчаться нельзя, его можно только сносить: чем глубже причина, тем неизбежнее последствие. Но возмездия ниспосылаются не ради одного только наказания, а ради возрождения. Условие возрождения – осознание причин, осознание своего греха. Есть ли в нас это осознание? Сомневаюсь. Я думаю, что в этих вопросах если произошел сдвиг, то очень незначительный в смысле численности; опасаюсь, что люди, покинувшие Россию и там, за рубежом, работающие над «восстановлением», понимают это восстановление в цельном смысле этого слова. Боюсь, что, выйдя за пределы родины, они только переменили место и унесли с собой все то самое, чем жили прежде, – без разбора, без проверки, без переоценки. И в поклаже их остались невытравленные зародыши, невырванные корни старых неосознанных грехов, старой, ими не ощущавшейся болезни. Заставить людей ощутить болезнь своего миропонимания, заставить почувствовать присутствие разлагающегося яда в том, из чего они хотят строить, есть обязанность всякого, кто сам – это чувствует. Вот почему счел долгом своим дать место на этих страницах тому, что затемняло нашу жизнь в те минувшие годы, об исчезновения которых столь многие сокрушаются.
Большевизм смахнул все прошлое – с тем хорошим, что в нем было, но и с тем плохим, что в нем было. Сокрушаться об исчезновении хорошего – бесполезная трата чувствительности; но осознание плохого, оценка его и закаление себя в ненависти к этому плохому – есть воспитательный долг тех, кто хочет работать над восстановлением достойного отечества. Не для того большевизм все опрокинул, не для того на месте лицемерия поставил цинизм, чтобы мы на пустом месте этого цинизма восстановляли лицемерие.
Так думаю я, сидя в холодной, уплотненной квартирке Шереметевского переулка в Москве, в то время как там, за рубежом, происходят совещания: претенденты, бывшие министры, бывшие думцы, епископы, журналисты… В квартиру вчера вселили проститутку; комендант ходил по коридору и кричал: «Если не поставите ей кровати, в двадцать четыре часа вы будете выселены». У нее ночевали две женщины и мужчина; песни до трех часов ночи… В коридоре напротив меня женщина с четырьмя детьми – с семи часов утра визг и гам… Ухожу в прошлое. Пишу. Даже картины прошлых грехов дают утешение от окружающей действительности. В них побудительная сила, побуждение к работе – все-таки жизнь; здесь кругом одно умиранье, надвигающаяся смерть… Ухожу в прошлое.
Хочу теперь рассказать, как вопросы, затронутые в предыдущей главе, отразились в нашей семье.







