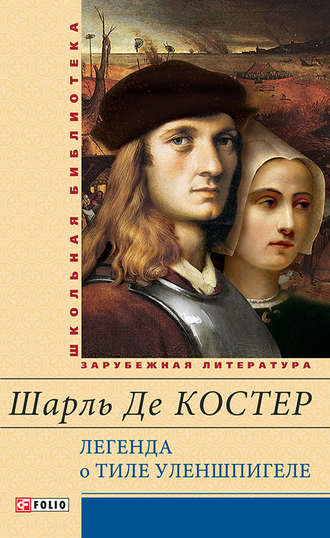
Шарль де Костер
Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и других странах
© Издательство «Фолио», 2010
* * *
Об эпосе одного братского нам народа
В мировой литературе есть книги, которые по своей художественной мощи, по самому своему значению приравниваются к целым библиотекам. А порой даже превосходят их…
Именно такой книгой является и «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» бельгийского писателя Шарля Де Костера, появившаяся в 1867 году, а задуманная примерно лет на десять раньше. Уже в 1856 году молодой Де Костер, начинающий поэт и критик-дилетант, основал с ещё более молодым художником Фелисьеном Ропсом еженедельник «Уленшпигель» – довольно радикальное по своему направлению издание, посвящённое текущей злободневной бельгийской тематике, названное в честь Тиля Эйленшпигеля (Уленшпигеля), героя старинной немецкой (собственно нижненемецкой) народной книги, мудрого весельчака, гроссмейстера жанра.
По «Легенде» Де Костера, Тиль Уленшпигель родился одновременно с его угрюмым антагонистом, испанским королём-деспотом Филиппом II. Стало быть, в 1527 году, через десяток с лишним лет после того, как появилась эта «нижненемецкая» книга о Тиле Эйленшпигеле (1515 год). Книга, которая как бы обобщила уже многосотлетний фольклорный образ того весельчака.
…Мы настолько привыкли к предельной серьёзности немецкой культуры Нового времени, что как-то забываем: средневековая-то немецкая культура, а особенно культура «нижненемецкая», «нидерландская», обычаи тамошнего села, а особенно города – это прежде всего стихия смеха, веселья. Весёлой компрометации всего того недоброго, что нависало над тогдашним человеком.
Тиль Эйленшпигель – фольклорное, бесконечно живое олицетворение того смеха, с помощью которого народ (по-крайней мере «нижненемецкий») сопротивлялся бесчисленным бедам, сваливавшимся на его плечи.
И вот на этом герое и остановилась писательская зеница позднейшего времени приблизительно посредине теперь уже позапрошлого столетия. При этом Шарль Де Костер и хронологически, и, так сказать, национально-географически «уточнил» биографию своего героя.
…Итак, родился он во Фландрии, в одной из многочисленных нидерландских провинций, принадлежавших тогда монарху, над владениями которого, по тогдашнему выражению, никогда не заходит солнце, испанскому королю Карлу I, позднее ставшему императором Священной Римской империи Карлом V. Карл родился в Нидерландах, в Генте, что, в конце концов, не помешало ему на своей якобы «родине» установить крайне деспотический режим. А «родной» город, отказавшийся как-то платить чрезмерные налоги, Карл вообще подверг самым жесточайшим репрессиям. Однако ещё бóльшие несчастья Нидерландов, фактически превращённых испанской короной в колонию, были впереди, когда Карл передал управление ими своему сыну Филиппу, доведшему деспотизм отца до поистине параноидальной тирании…
Герой «Легенды» Тиль Уленшпигель, родившийся одновременно с её антигероем-королём Филиппом II, бросает вызов этому деспотизму, этой тирании главным своим оружием – смехом. И собственно оружием.
«Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» – невиданного объёма и силы художественно-романный пейзаж нидерландской национальной революции против мировой монархии, главным орудием которой стал пиренейский, крайне агрессивный католический фанатизм. Пейзаж, созданный Де Костером, разительно не похож на предшествующий европейский исторический роман «вальтерскоттовского» типа с его уклоном в хронологическую, археологическую и даже антикварную точность. А ещё более не похож на квазиисторический роман Дюма-отца, роман шпаги и интриги.
«Легенда» – это что-то совсем другое. И для понимания её глубинного смысла необходимо напомнить именно о времени её появления. И, соответственно, о некоторых – основополагающих – приметах того европейского времени.
Так вот, Шарль Де Костер начал работу над своим романом словно «посредине» теперь уже позапрошлого столетия. Столетия, наиболее отличительной чертой которого было национально-историческое, так сказать, обустройство решительно всех народов континента. Во множестве, в неимоверной пестроте форм и «жанров» этого обустройства: от государственно-политического до литературного и языкового, и вообще национально-культурного.
…Европа когда-то, среди прочего, начиналась с Великого переселения народов. А тысячелетием позднее после этого, приблизительно с Французской революции, этой исторической «внучки» революции нидерландской, бурные стихии которой и воскресили роман Де Костера, предстаёт уже время большого обустройства, окончательного исторического укоренения европейских народов, которые на протяжении всего девятнадцатого столетия упрямо ищут средства этого укоренения и с разной мерой успеха-неуспеха стараются выстроить дом своего собственного бытия. Свою собственную судьбу.
Это великое всеевропейское народостроительство от Пиренеев до Киева… Именно в разнообразии способов, «стилей» и особенностей этого строительства, его политической, интеллектуальной, художественной или какой-то другой архитектуры.
Это могла быть и грандиозная революция (скажем, польская, а затем венгерская). И созидание систематизированного, «словарного» ландшафта родного языка. Или историографически систематизированного национального прошлого…
Кипы такой же публицистики, монбланы доктрин и концепций, направленных к национальному сознанию. Зрелому. Жаждущему этой зрелости. Или ещё в зародышевом состоянии.
И всё это – на всех европейских широтах. Континентальный процесс предстает где-то явственно, резко, выпукло, а где-то – бурлит, тормозится, даже приостанавливается. Или, по крайней мере, «минимизируется» (как это на нашу беду произошло в тогдашней подроссийской Украине…)
Тем не менее, это процесс – именно всеевропейский, охватывающий чуть ли не всю тамошнюю событийность, становится ведущим содержанием тогдашней культуры и вообще истории.
Стало быть, кто-то должен был создать литературно-романное обобщение этого содержания, представить его колоссальное художественное резюме. Что и сделал Шарль Де Костер в своей «Легенде». Этой песни песней этого народостановления и народосохранения…
«Провинциальный журналист, – позднее восторженно писал Ромен Роллан, – неожиданно для всей Европы создал эпос, равный “Дон Кихоту”».
Что ж до эпитета «провинциальный», употреблённый выдающимся французским писателем, «бургундская» повесть которого «Кола Брюньон» предстаёт очевидным наследованием «фламандской» «Легенды», то с ним, этим эпитетом, стоило бы поспорить.
Но к нему-то и стоит прислушиваться.
«Провинция, – бросил когда-то наш земляк киевлянин Николай Бердяев, – это то, что далеко от Бога. Киев – в административном контексте – был в те времена действительно провинцией. Но святыни на его холмах и в его пещерах придавали ему содержание, очевидно, далёкое от провинциальности…»
В общем-то, по-латински слово «провинция» обозначает, среди прочего, «важное значение» или «предназначение».
«Легенда» Де Костера и в биографии автора, и в географии самого романа – это «провинциальность» именно такого важного значения и предназначения.
Итак, Бельгия. Страна удивительной исторической судьбы. Страна, которой соседи (да и не только они) как будто рассчитывались друг с другом в своих геополитических, военно-стратегических и других подобных расчётах… И нередко даже грубо…
Может быть, это и превратило эту страну-миниатюру в своего рода европейскую повивальную бабку упомянутого всеевропейского суверенного народонарождения?
Удивительным образом мы как-то подзабыли именно такую роль Бельгии в великом историческом времени…
Биография самого Де Костера – это, похоже, решительное производное от двух фундаментальных событий бельгийской истории, которые наиболее явственно выражают её общий характер.
Он родился в 1827 году. И достаточно далеко от Бельгии, в Мюнхене, где его отец, фламандец по происхождению, был кем-то наподобие кастеляна у тамошнего папского нунция. То есть будущий памфлетист позднесредневекового католицизма родился, так сказать, рядом с резиденцией папского посла в ультракатолической баварской столице…
Но не только это.
Два крупных события в истории маленькой страны, ставшей впоследствии родиной автора «Легенды». События, несомненно определившие его судьбу, включая писательскую. Одно событие имело место весьма задолго до его рождения, другое – вскоре после.
…Не лишним будет вспомнить, что в восемнадцатом веке Южные Нидерланды, собственно Бельгия и… Западная Украина вошли в состав одного и того же государственно-политического образования. В состав венской империи, в протяжённое государство Габсбургов. Поэтому, чуть ли не синхронно с Французской революцией, главным паролем которой стало слово «нация», Бельгия восстала против тяжкой длани габсбургской бюрократии и провозгласила себя полностью независимыми «Соединёнными Штатами Бельгии».
Уже на следующий, 1791-й, Вене – понятно, с принудительной «помощью» галицких рекрутов, – удалось восстановить предыдущий статус-кво. Однако, как сказал один поэт, слово было найдено.
Весть по всей Европе: маленькая будто бы усмирённая и будто бы «провинция» решилась бросить национально-патриотическую перчатку могучей тогда ещё империи! И пусть на часок своей уже истории – победила.
Первый подвиг бельгийского патриотизма, наверняка с отрочества запомнившийся Де Костеру.
Второй, после падения Наполеона, перед этим усмирявшего Австрию – и соответственно усмирившего Бельгию, – последнюю, чтобы «наказать» Францию, антинаполеоновская коалиция «отдаёт» Голландии, дав ей в режиме бесстыдного феодального международного «права» что-то вроде взятки – за её участие в этой самой коалиции.
Вообще же фламандское большинство Бельгии этнически и языково было будто бы близко «братской» Голландии. Но куда там, теперь уже голландская бюрократия вела себя по отношению к новоприсоединённой «провинции» так, что героика 1789 года здесь повторилась. И ещё в более патетической тональности, и мало того, даже романтически-оперной. В прямом значении слова.
…В августе 1830 года в Брюсселе исполнялась знаменитая опера «Фенелла, или Нима из Портичи» о восстании итальянцев в Неаполе против испанского господства. И в продолжение бурных оваций после этого спектакля брюссельцы бросились на штурм редакций реакционных газет и канцелярий начальника политической полиции и министра «юстиции». После этого – баррикады, ожесточённые бои с голландскими карательными войсками на этих баррикадах и в поле.
Зеница всей либеральной и радикальной Европы останавливается на тогдашней бельгийской патетике. Французские и испанские волонтёры сражаются на этих баррикадах. Словом, так называемые «великие державы» уже не решились устранить вновь завоёванную Бельгией независимость, которая теперь становится убедительным фактом всей дальнейшей Европы… Исключением стала только петербургско-романовская политика: Николай I начинает военную подготовку к интервенции. При этом он «неосторожно» объявил, что в ней будут принимать участие военные соединения сателлитной тогда Польши. И те, необычайно возмущённые стратегическими планами Николая, восстали против него. Польская революция, следовательно, как вполне определённое производное от революции бельгийской. А там уже недалеко и до 1848 года, этой «весны народов», совпадающей с весной биографии самого Де Костера.
Вот такой непосредственный исторический «пролог», романтико-революционный этюд к «Легенде об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке»: на маленьком бельгийском участке европейской ойкумены бурлили те же страсти, которые, по своему раскалённому веществу, составляли первооснову всей тогдашней континентальной истории. Европейское человечество обосновывалось в своих «национальных квартирах», и в Бельгии этот процесс приобретал наиболее очевидный, прямо уж притчевый характер.
А между тем «провинциальный журналист», из необходимости, по самой своей специальности, погружённый в несущееся, аж до пестроты национально-событийное разнообразие, у истоков которого стояли те недавние события, приступая к своему эпосу, вместе с тем хронологически почему-то отступил от них. Аж в шестнадцатое столетие.
Дело в том, что европейская национально-патриотическая патетика столетия девятнадцатого обладала одной весьма драматической чертой-тенденцией, которую можно было бы назвать «энтропией» (то есть неизбежным убыванием) этой патетики. Эта патетика имела во всех своих проявлениях, во всех странах, как будто бы своё «утро», радостное и обнадёживающее, а далее – именно неизбежное температурное снижение, так сказать, вечернее, и даже более того – «похолодание».
К примеру, с чем можно сравнить необычайный патриотический пафос итальянского Рисорджименто – рождение единой Италии с его бессчётными строительными жертвами в пользу этого великого строительства? И что ж, наконец, возникла столь ожидаемая единая Италия, а затем чуть ли не пол-Италии садится на проржавленные пароходы и отплывает за океан в поисках лучшей жизни. И вот, многообещающее радостное утро национальной истории. Молодой Де Костер основал литературно-общественное объединение, которое так и называлось – «Общество радостных»… Но годы проходили – и радость эта всё уменьшалась и уменьшалась. Де Костер-журналист вместе со своими единомышленниками в упомянутом «Уленшпигеле» упрекает то клерикальную реакцию, то франкофонных либералов за их пренебрежительное отношение к фламандским проблемам, то поддерживает гентских ткачей-забастовщиков. Однако всё убавляется и убавляется пафос национальной общности, будто бы ещё совсем молодого суверенитета. Жизнь всё более становится безрадостной.
Характерна судьба упомянутого выше соучредителя «Уленшпигеля», художника Фелисьена Ропса. С течением этого безрадостного времени он становится мэтром европейского декаданса, мастером мрачного офорта, ведущей темой которого является всевластие дьявола и его якобы послушного демонического же ассистента – женщины…
Фламандец по происхождению, Жорис Карл Гюисманс провозгласил Ропса гением, однако мир романа французского писателя-пессимиста Жоржа Шарля Гюисманса – не менее мрачный, чем ужасающие сюжеты прославленного им соотечественника…
Как помнится читателю «Легенды», её герой родился «в городе Дамме во Фландрии». Крошечный городок неподалёку от прославленного когда-то в европейских анналах города Брюгге. И вот, в самом конце девятнадцатого века появляется роман своего же фламандца Роденбаха под названием «Мёртвый Брюгге». Художественная консистенция этих мрачных настроений так называемого «конца века»…
Де Костер не дожил до того времени, когда Бельгия – а в ней её провинция Фландрия – превратилась в метрополию европейского, в собственном литературном значении, «декаданса». Известный литературовед Георг Лукач в конце жизни, улыбаясь, вспоминал, что в молодости он и его поколение крупнейшим писателем всех времён и народов считали Мориса Метерлинка, фламандца, но уже родом из Гента, дебют которого окончательно утвердил пришествие поколения уже не смеющегося…
Де Костер наверняка предчувствовал его появление и вообще не мог не видеть безрадостного характера современной ему цивилизации. И в связи с этим его литературное поведение приобретает направление, ставящее его среди художников, которые видят не только конец, но и начало того или иного явления. Его истоки, нередко такие непохожие на его, этого явления, продолжение, а тем более конец.
Ромен Роллан весьма проникновенно поставил «Легенду» Де Костера рядом с «Дон Кихотом» Сервантеса, рядом с книгой, осмысливающей-завершающей конец Средневековья, после чего его героика попадает в условия совершенно нового, негероического мира, выглядит там лишней и просто комической в своей неуместности. И тем не менее, «провинциальный журналист» столетия спустя рискнул создать эпическую панораму того, что со всей бытийной энергией, в вихрях истории полное жизненных сил грядёт – после Средневековья. После Дон Кихота.
…Именно один нидерландский историк впервые разделил мировое время на древнее (античное), средневековое и как раз это самое «новое». И не случайно. Ведь так называемое Новое время начинается, прежде всего, с нидерландской революции, отложившейся от Средневековья так, как созданные ею энергичные суверенные штаты отложились от оцепеневшей испанской монархии. Так что Сервантес создал гениально обобщённый художественный портрет этой, пусть и героической, но уже оцепенелости и закостенелости, а Де Костер – точно так же удивительно обобщённый портрет Нового времени, когда оно ещё действительно было новым, аж кипело этим новым.
«Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» – роман-миф. Произведение насквозь фольклоризированное, начиная с первоприсутствия в нём героя. При этом миф и фольклор здесь не только тема, но и сам метод художественного созидания, орудие для всей романной образности. Тем самым смысловая площадь «Легенды» в сравнении с традиционным реалистическим романом того времени (именно тогда и возникает сам термин «реализм») необычайно расширяется. Писатель действительно представляет эпоху в крайне широком, «надреалистическом» формате, во всех её основоположностях. Достаточно напомнить о вечной эпической молодости главного героя и его любимой, которая даже устала быть молодой…
Этот полусказочное «условное» пространство-время романа в соединении с представленной здесь конкретнейшей тогдашней нидерландской – и не только – историей и позволяет писателю обнаружить-представить все бурлящие универсалии бурлящей эпохи, когда разрушались старые формы истории в пользу новых.
«Легенда» именно в мифологизированной тональности – и во множестве «мизансцен» – представляет решительный антагонизм между главным героем и двумя злопыхательскими по отношению к нему монархами. Предельно фольклоризированный рассказ со всем влиянием сказки и легенды представляет то, что по сути было главным реальным содержанием эпохи. Предыдущая иерархия мира рушится, и на смену ей приходит совершенно новый образ человеческого существования. Тысячелетняя власть поставленной над этим миром гипераристократической единицы становится прошлым, а после этого им уже будут править не Карл V или Филипп II – а тем более их наследники-преемники, – а, говоря патетически, народ, воплощением которого и предстаёт Тиль Уленшпигель.
«Легенда» Де Костера – это именно роман-миф о тектоническом сдвиге мировой истории от царя до его подданного, который наконец сам для себя становится царём. То, что стало бытом девятнадцатого столетия, у романиста-сказочника предстаёт ещё легендой – в чрезвычайно красочных исторических декорациях столетия шестнадцатого.
Были ли эти монархи, отец и сын, такими, как у Де Костера? Что ж, у исторического Карла V при определённых усилиях, наверное, можно найти героические черты средневекового императора – из тех, которые старались объединить-унифицировать под своим скипетром решительно весь мир. Один из мировоззренческих миражей собственно Средневековья…. А, скажем, у Шиллера-драматурга, который в своём качестве историка профессионально занимался «историей отпадения Нидерландов» (название его обстоятельного труда), король Филипп таки совсем другой, чем в «Легенде»… Но всё же, после этого вспоминая эти фигуры, в самом конце этого воспоминания, наши мысли невольно, а всё же возвращаются к этим «легендарным» образам… И это не только романный гипноз Де Костера. Исторически реальный Филипп II. Тот, по остроумному выражению чуть ли не Томаса Манна, «Дон Кихот зла», в своих попытках сохранить то, что было неумолимо обречено, слишком уж на самом деле напоминает, казалось бы, чуть ли не лубочный в своей мифологической прямолинейности его «портрет» у Де Костера.
Писатель, таким образом, что-то капитально угадал в веществе истории – в её великих кризисах и переменах. Именно с нидерландской революции она сдвигается в своём первоприсутствии – от монархии к тому, что позднее назовут европейской демократией. Но всё-таки – чем является это народоприсутствие в романе Де Костера?
Как-то так исторически сложилось, что в европейских литературах теперь уже позапрошлого столетия с определённого его периода «народное» понемногу начало означать «консервативное». Да и не только в художественной литературе, а и в общественном обиходе, среди прочего, в политической жизни. Тогда как главного – ультранародного – героя, проходящего здесь сквозь весь психологический и другие спектры существования, вместе с этим в консерватизме уж никак не заподозришь: он, Уленшпигель, – как раз олицетворение человеческого порыва, особой и, одновременно, подлинной «авангардности». Он действительно в передних рядах истории. Истории, которая по «Легенде», выносит самый суровый приговор монархам-деспотам, одновременно освобождая место… Кому и для чего? Что стоит за этим вхождением «народного» на европейский, а впоследствии и всемирный горизонт? Что несёт с собою Уленшпигель?
Вопреки распространённым реакционным предрассудкам, «народное» – это совсем не синоним «консервативного». «Народное» имеет другую традицию и тенденцию, которая и определила мировой пейзаж последних столетий. «Национальный».
Уленшпигель – это, по автору, крайнее олицетворение «фламандского». «Дух нашей матери Фландрии», – как сказано в последних строках романа.
«Национальное» здесь для Де Костера – это уж никак не дистанцирование от чужого и вообще чужака, от этнически «не-своего». Не ксенофобия. Нет. Это прежде всего – самый древний, вполне испытанный человеческим опытом метод коллективного, родового – неэгоистического – существования. Крайне необходимое цивилизации. А особенно современной. Оно должно осуществляться не через великих монархов, таких же великих эгоистов, а именно посредством того этнического и, если угодно, территориального содружества людей. Патетически говоря, хотя бы посредством той же «Фландрии»… Как одной из многих национально-коллективных величин истории – в положительном её развитии и направлении.
«Фландрия», понятно, здесь синонимична всем другим народам.
…Это уже позднее, уже после Де Костера, «народное» в бельгийской литературе (и, впрочем, не только в ней) как-то словно загустело, застыло. Утратило свою первоэнергию. Превратилось во что-то действительно консервативное, успокоенное и неспешное. В некий реакционно-моралистический укор сумятице бегущей истории. Тогда как «Легенда» – это необычайной подвижности колоссальный образ, как будто роман-гобелен (фламандское изобретение!) молодой национальной интенсивности. Тиль Уленшпигель. То есть «Тильберт» (меткий, подвижный). Так окрестили героя, а затем он посвящает саму окружающую историю в эту подвижность. В её грандиозные тогдашние метаморфозы.
Таким образом, народно-традиционное здесь совсем не консервативное.
А что же является основным орудием этой интенсивности и подвижности? А то, что (где-то) уже после Де Костера с катастрофической скоростью исчезает из национальной литературы. И не только из неё.
Смех. То есть то, что столетиями и даже тысячелетиями было наиболее аутентичной традицией народа. Любого, в конце концов. А также «нижненемецкого», уленшпигелевского, особенно. Смех как особое заклятие против всех возможных бед и несчастий. Всех чрезмерно застывших форм жизни. Смех как стратегия неизменной победы над ними.
Когда то украинский писатель Евген Гуцало сказал о произведении другого писателя: это роман, где царит смех.
Как жаль, что это сказано не о «Легенде об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке»… Книга, в которой действительно властвует-господствует смех.
По одной из своих многочисленных профессий Уленшпигель – шут. Понятно, только не в позднем, вырожденном значении этого слова. Уленшпигель-шут – неутомимый в своих бесконечных шутках памфлетист, «сатирик» человеческой глупости и дурости. Всех их этажей, проявлений и измерений. Смех – это и есть настоящая духовная гигиена мира, очищающая его от этой глупости.
Де Костер жил – а если точнее, умирал – тогда, когда этот смех уже понемногу сам замирал. По крайней мере, он уже не прорывался в художественную литературу. С такой энергией, как в «Легенде», где его отзвук ещё слышен в полную силу.
И вот писатель в своём великом романе возвращается к великим истокам Нового времени ещё и потому, что в эту эпоху народный смех звучал особенно громко и непринуждённо, очищая историческую дорогу этому времени.
Смех этот, как правило, будто и в целом простодушный. Даже «элементарный». Акустический его эффект-хохот далёк от, так сказать, специализированной, утончённой «интеллигентской» остроты. Он ещё крепко связан с физиологией и вообще с материальной фактурой мира сего. Толстяк Ламме Гудзак…
И здесь – ещё одно крайне характерное измерение эстетики Де Костера. Чрезвычайная красочность этой материальной фактуры в ней – это, похоже, является литературным претворением старинного, именно «нижненемецкого» приближения к стихиям материального. Приближение в живописи нидерландской. Фламандской. И, наконец, голландской. «Фламандской школы пёстрый сор» (Пушкин). Живописные сюжеты и средства писатель уже позднейших времён превратил в настоящее золото литературной описательности. «Легенда» мерцает всеми цветами, оттенками и отблесками этой живописи. В определённом смысле Де Костер будто завершает его, уже чисто своими – литературными – средствами. Невероятно живые его «натюрморты». Особенно съедобные…
Вот так и был создан, может быть, последний великий национальный эпос Европы. Среди прочего, будто бы романное ей, этой Европе, наставление: вот как когда-то она начиналась в новом своём историческом качестве. И пусть не забывает тот свой «новоевропейский» дебют. Свои великие проекты…
«Провинциальный журналист», а вот будто как какой-то атлант, поднял художественную задачу, эквивалентную по своей грандиозности величайшим подвигам мировой литературы.
Среди прочего, гениальный артистический инстинкт подсказал ему остановиться на исторически вроде бы незавершённом фламандском феномене, который в ту эпоху не только представлялся исторически ещё именно нерешённым, но и даже «подзабытым» этой историей. Фламандское, мол, это что-то «провинциальное», вчерашний день истории без дня завтрашнего в ней. «Малоголландское» и т. п.
Но что нам ведомо о том завтрашнем дне?
Франкофонный роман Де Костера – выходит, роман написан одним из самых авторитетных языков мира, – о фламандском мире, который тогда казался уже европейской глушью.
Дескать, Фландрия – отработанный пар истории.
…Горько, но сами фламандцы отнеслись к роману Де Костера сдержанно, а то и прохладно. Среди других претензий, почему это роман «о нас», а написан «не по-нашенски»? А на опостылевшем «жаргоне» этих франкофонных валлонов, которые, где только возможно, всё «нашенское» вытесняют… На Украине «Энеиду навыворот» когда-то порицали за «котляревщину», стало быть, за гениальный её смех. Во Фландрии «Легенду» – так сказать, за «декостеровщину». То есть за чрезмерно громкий смех, за её слишком шумное веселье.
Словом, «Легенда» оказалась посреди мировой литературы – великой (обширной) – довольно поздно. И в особых условиях тогдашней истории, по общему своему характеру неблагоприятных.
Только для этого романа история сделала исключение. Во время Первой мировой великодержавное снова, уже традиционно, попробовало конфисковать бельгийскую суверенность. Растоптанную германско-кайзеровским оккупационным сапогом. Правда, оккупанты попробовали во Фландрии создать сателлитную структуру, будто симметричную сателлитному украинскому гетманату. Однако без особого успеха.
Словом, мир возмутился этой оккупацией. И как-то необходимо заинтересовался судьбой собственно Бельгии, ну и, конечно, Фландрии.
Характерно, что именно тогда, в те военные годы, наш земляк-литератор Аркадий Горнфельд и перевёл «Легенду» на русский язык: «Пепел Клааса стучит в моём сердце»…
То было время, когда «национальное» заблудилось на чернотропах истории, охваченной ксенофобией, неистовым шовинизмом и вообще человеконенавистничеством.
Однако бельгийско-фламандская проблематика наперекор этому сохранила своё первичное народно-гуманистическое напряжение, высокий пафос настоящей цели аутентично-национального. Как средство человечности, а не против неё. Хотя понятно, что смеховую силу «Легенды» дальнейшая литература повторить уже не могла.
Мир стал другим.
Но в нём всё же осталась «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке», этот романно закодированный дебют новой Европы. Муки и радость этого её рождения. Великие планы-проекты, грандиозные мечты и намерения истории вокруг этого рождения.
И может, «народное» в его победах и в его веселье ещё проявит себя – в истории грядущей?
Один выдающийся русский писатель свой роман назвал просто: «Народ бессмертен».
И несомненно не только фламандский, которого обессмертил писатель бельгийский.
А что касается дальнейшей роли этого народа… Как-то сравнительно недавно натовское командование устроило на этой территории маневры. Цель – война против партизанского подполья. «Местным» неосторожно предложили условно укрывать – условных «партизан». «Своих».
…И потомки Уленшпигеля, фермеры, рыбаки, клерки, монахини и так далее, чуть ли не сразу возродили героику бельгийского антиоккупационного подполья Первой и Второй мировых. Возродили, да так, что командование так и не смогло до конца маневров найти этих условных «гёзов»…
«Никому не удастся похоронить… дух нашей матери-Фландрии, – говорит Уленшпигель, которого пытались похоронить недруги. – Фландрия тоже может уснуть, но умереть она никогда не умрет!».
«И он ушел с ней, распевая свою шестую песеню. Но никто не знает, когда он спел последнюю».
Ибо, несомненно, он её ещё не пропел…
Вадим Скуратовский


