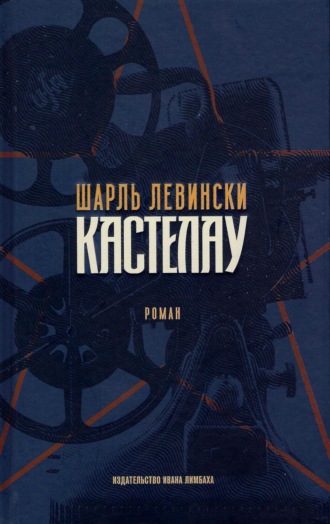
Шарль Левински
Кастелау
Страница сценария «Песнь свободы»
(Первая редакция) [19]
Личный кабинет великого герцога. Интерьер. День.
Великий герцог за письменным столом, заваленным всевозможными бумагами, изучает какой-то документ. Гофмаршал Вакерштайн застыл в подобострастном ожидании.
Великий герцог окунает перо в чернильницу, намереваясь подписать, но колеблется. В задумчивости подпирает голову рукой. Вакерштайн деликатно покашливает, напоминая о своем присутствии.
Великий герцог, вздрогнув и очнувшись от дум, подписывает документ и протягивает бумагу Вакерштайну.
Вакерштайн с почтительным, низким поклоном принимает бумагу.
Вакерштайн: Ваше величество… (Помахивая бумагой, чтобы просохли чернила, почтительно пятится, намереваясь уйти.)
Великий герцог: Скажи-ка, Вакерштайн…
Вакерштайн (останавливаясь): Ваше величество?
Великий герцог: Скажи-ка, Вакерштайн, ты вообще понимаешь этого Наполеона?
Вакерштайн: Так точно, ваше величество, я его очень хорошо понимаю. Осмелюсь сказать: я даже чувствую родство с ним.
Великий герцог (удивленно): Родство? Ну-ка, потрудись объяснить, в каком же это смысле?
Вакерштайн: Сей же миг, ваше величество. Вот я лично очень даже не прочь пропустить глоток-другой доброго вина, и Наполеон, сдается мне, тоже завзятый выпивоха. Правда, упивается он не вином, а битвами. И, как всякий выпивоха, не может вовремя остановиться. А коли так, его тогда неминуемо начинает покачивать. И вот ежели в такую минуту его… [20]
Интервью с Тицианой Адам
(7 августа 1986)
Лучше выключите сразу эту штуковину. У меня сегодня… Нет настроения. И сил нет. Я же не девчонка, в конце концов.
Нет, правда. Не сегодня. Мы же не по договору…
Туалетная бумага? Причем тут это…? Ах, вон что. За ваш счет? Знаете, как это называется? Дерьмовый гонорар, вот как! [Смеется.] Дерьмовый гонорар. До вас хоть дошло? Или у вас, американцев, с юмором не того…
Ну ладно. Только недолго сегодня. Я правда устала. Так на чем я остановилась?..
Глупость, которую я тогда…? Глупость – это мало сказать. Это вообще было… Если бы проводили олимпиады по идиотизму, золотая медаль мне была бы обеспечена. С дубовыми листьями и скрещенными мечами [21]. Я была еще такая молоденькая. Задним числом не верится даже, что можно такой молоденькой и несмышленой быть. Вы тоже когда-нибудь еще…
А все потому, что эта Маар так надменно со мной обращалась… Словно я и правда у нее в горничных, не только по роли. Однажды вообще перед всеми меня… Только за то, что я посмела в гримерной на ее персональное кресло присесть. Такую выволочку мне устроила, вы даже представить себе… Словно я алтарь осквернила… Или на портрет Гитлера плюнула.
Зато с важными людьми прямо сахарная была. Если кто в политике что-то значил или связи на самом верху имел, с теми она… Улыбка, что твой турецкий мед. Не знаю даже, продается он сейчас или нет? Приторная такая дрянь, до того вязкая, что зубы не разлепишь.
Какая же я была идиотка! Вам не понять. Вы же американец.
К примеру, тот же Шрамм… Для него у нее всегда была улыбка до ушей наготове. Потому что про него известно было… Что он с самыми важными шишками пьет. Все сплошь бонзы и важные птицы. Для них он там кем-то вроде шута был, так я думаю. Разыгрывал из себя комика, а за это они его на свои товарищеские попойки… Для детишек у них даже молока, считай, не было, зато для важных господ… Шампанское рекой, все равно что воду… Когда Августин с ними гулял, он на следующее утро каждый раз… Но за маской они вообще уже не видели, что он за человек… А он даже не стопроцентный был. В смысле не то чтобы оголтелый нацист, не темно-коричневый. Совсем нет. Член партии, это конечно, само собой. Это все они были. Тогда иначе просто нельзя… Но так… «Актер я не великий, – так он мне однажды сказал. – Но я умею ладить с людьми. А в нашем ремесле это главное».
Вы же хотели, чтобы я вам все объясняла.
Так вот, с Августином, у которого нужные связи имелись, она всегда была само очарование. Зато со мной… Вот я и решила: не мешает и мне что-то такое придумать, чтобы меня тоже уважать стали. И поначалу все даже получилось, в лучшем виде. Покуда…
Не могли бы мы до завтра…? Мне бы соснуть часок, женскую красоту беречь надо. Вчера гости опять допоздна… и в дым… А мне как хозяйке иногда просто неудобно с ними не выпить, иначе они обижаются.
Ну да ладно. Дайте-ка мне огонька, а уж потом… Потом закроем эту тему.
[Пауза.]
И вот я стала давать понять… Намеками. То одно упомяну, то другое, как бы ненароком, вроде как проговариваюсь. Мол, есть у меня поклонник, очень важный мужчина, и для студии УФА тоже… И вроде как он мне протежирует. И серьезные роли обещает. Дескать, придет время, сами увидите. Ну, все, конечно, тут же уши навострили и давай приставать, как… Про подробности расспрашивать, и то, и это… Прямо чуть не допросы устраивали. А я в ответ: мол, ничего не могу, связана словом, обещала молчать как могила. Ну а их-то это только еще больше раззадоривало.
Словом, выдумка моя сработала в лучшем виде. Маар стала со мной как шелковая. Переключаться она умела как по заказу.
Ну а потом я… Переигрывать – самая страшная ошибка. А актриса-то я была еще совсем неопытная. До опытной так и не доросла никогда. Шанса больше так и не… Талант вроде как был, это многие говорили. Знающие люди, не просто так…
Вот я, дуреха, и скажи: мол, мой покровитель хоть и прихрамывает малость, но ему это даже… А уж по части кино его слово вообще самое весомое. Фамилию я, конечно, не назвала, настолько ума даже у меня хватило, но другие, конечно, ясно, на кого подумали.
Сами понимаете, на кого они подумали.
Геббельс. Представляете, какая я была идиотка?
Вообще-то, это ведь не ваша тема. Для работы вашей это ведь ничего не… Может, лучше это просто…?
Мне, правда, было бы приятней, если бы это…
Ну хорошо. Если без этого никак… Но тогда завтра вы для меня еще разок в «Кэш и Кэрри» заедете.
А ночью у меня вдруг звонит телефон. У меня тогда прелестная квартирка была. Шлютерштрассе, на углу Моммзена. Мне ее один деляга обставил, индюк из торговли, с которым я еще у Бергхойзера… Не иначе, совесть замучила, оттого что от супружницы своей он так и не… Спальный гарнитур, полированный, розового дерева. И вот сплю я в шикарной кровати, и вдруг звонок. Среди ночи. Скорее даже под утро. Около четырех. Какой-то мужчина, он не представился, ни имени-фамилии, ни звания, вообще ничего, а сразу допрашивать начал. Одни и те же вопросы, снова и снова. Какой такой у меня друг сердечный, когда я последний раз с ним виделась и чем он вообще занимается. И все в таком духе. А еще слышно, как там, в комнате… мужики смеются. Не смеются даже, а прямо гогочут. Я со страха чуть в штаны… Это сейчас вроде как просто выражение такое, но тогда я и правда… Только вы уж в работе вашей, пожалуйста, этого не пишите. Я в самом деле описалась. Потому что подумала: все, это конец. Осталось только щетку зубную упаковать и ждать, когда за мной…
Что за идиотский вопрос? «Только из-за телефонного звонка?» Конечно, из-за звонка, из-за чего еще!? Вы в те времена не жили. Где вам знать. Я авантюру с Геббельсом себе придумала, да это тогда пострашнее смертоубийства… Тогда за анекдот про Гитлера можно было… Или если скажешь, что в этой войне нам не победить.
Конечно, я пыталась выкрутиться. Прикинулась дурочкой, делала вид, будто вообще не понимаю, о чем… И друга у меня никакого нет, мне о мужчинах вообще думать некогда, у меня, мол, только съемками голова занята. Но он мне вообще не поверил, я сразу это поняла, он такой сразу строгий стал… Мол, он может и другие рычаги использовать… И я, дескать, не в последний раз его слышу, в этом я могу не сомневаться, точно не в последний раз. И трубку повесил.
«А потом? А потом?» Дурацкие вопросы. Потом ничего. Потом меня уже в Берлине не было. С квартиры я съехала. В тот же день. Все там оставила. Хотя гарнитур розового дерева – это тогда самый шик был. А в гостиной два кресла, настоящий дамаст. Ну, почти настоящий. Один чемоданчик только прихватила, и ничего больше.
К любимому. К бывшему моему. Мы… Даже не скажу – расстались. Я от него сбежала. Но он все еще был… Влюблен, как мальчишка. Вообще ни о чем не спросил, когда я к нему с одним чемоданчиком… Сказал только: «Если б знал, что ты придешь, белье бы постелил свежее».
Нет, вовсе я не думала, что у него им меня не найти… Не настолько уж я была дурочкой. Уж на студии-то они меня всегда… Тут совсем другое. Просто в той квартире я уже заснуть не могла. Каждую секунду тряслась бы, что телефон снова… А у Вернера телефона не было.
Вернер Вагенкнехт. Он сценарий написал к «Песне свободы».
Можете не рыться в ваших записях. Я прекрасно знаю, что другое имя вам называла. Франк Эренфельз. Но это и есть Вернер.
Распечатка из Википедии
Вернер Вагенкнехт
Вернер Вагенкнехт (31.05.1898, Фюрстенвальде – 20.04.1945, Кастелау) – немецкий писатель и сценарист.
Биография
Юность и годы войны (1898–1918) [Править]
Вернер Вагенкнехт родился 31 мая 1898 г. в Фюрстенвальде на Шпрее, в семье почтового служащего Отмара Вагенкнехта и его жены Софи. Ранняя смерть отца стала для ребенка большим потрясением, запечатленным впоследствии в автобиографическом романе Вагенкнехта.
Вагенкнехт учился в городской гимназии Фюрстенвальде (сегодня гимназия им. братьев и сестры Шолль), которую он досрочно окончил в 1916 г. Призван в армию солдатом, но ввиду слабого здоровья службу проходил в полковой канцелярии. По окончании войны поступил в Университет им. Гумбольдта (Берлин), изучал германистику. Университетское образование не закончил.
Первые литературные опыты (1919–1924) [Править]
Первые стихотворения Вагенкнехта обнаруживают явственные приметы экспрессионизма и отмечены ярко выраженным влиянием Георга Тракля. Но уже вскоре молодой автор обратился к прозе и к более реалистичной манере письма. Разрозненные публикации военных рассказов в периодике особого отклика не нашли. Вагенкнехт зарабатывал на жизнь преимущественно написанием покадровых титров к немым фильмам.
Первые успехи (1925–1933) [Править]
Роман «Команда Ноль» (1925), горький расчет с бессмысленностью и жестокостью войны, мгновенно принес автору широкую известность. Критикой – в частности, Карлом фон Оссецки в журнале «Вельтбюне» – книга была встречена с энтузиазмом, хотя подверглась и резким политическим нападкам из-за своей идейной направленности. Вручение автору Пацифистской книжной премии даже сопровождалось уличными беспорядками.
С этого времени Вагенкнехт получил возможность целиком посвятить себя писательству. Однако приблизиться к успеху своего литературного первенца писателю поначалу не удавалось. Слишком личностная и камерная книга воспоминаний «Одинокие вдвоем», хотя и благожелательно отмеченная критикой, широкого читательского спроса не удостоилась.
Одновременно с этим Вагенкнехт начал работать как киносценарист, прежде всего для студии УФА, хотя сам же назвал этот вид своей литературной деятельности «буднями на конвейере». С возникновением звукового кино оказался весьма востребованным его ярко выраженный талант к созданию жизненно достоверных диалогов. При участии Вагенкнехта созданы сценарии многих популярных художественных фильмов.
Роман «Стальная душа» (1930) принес ему новый большой успех. Это масштабное социально-критическое полотно воссоздает трудную жизнь пролетарской берлинской семьи в годы мирового экономического кризиса и инфляции. Главный герой, бывший солдат Манни Трост, теряет работу на кабельном заводе (где – отсюда и название книги – производится кабель с «проволочной душой») и все больше впадает в нищету. Вовлеченный в криминальную среду, он, не по убеждениям, а скорее от отчаяния, вступает в штурмовые отряды СА и погибает в одном из уличных столкновений. Обличительный пафос книги, в особенности последние слова главного героя («Бессмысленно! Все было бессмысленно!»), вызвали ожесточенное неприятие со стороны национал-социалистов, что не помешало несомненному успеху книги.
Годы национал-социализма (1933–1945) [Править]
После захвата власти национал-социалистами Вернер Вагенкнехт становится нежелательной фигурой. В рамках акции «Против антинемецкого духа» 10 мая 1933 года среди произведений многих других авторов публичному сожжению были подвергнуты и его книги.
Поскольку творчество Вагенкнехта было официально квалифицировано как «антинародное», он не был принят в состав Имперской палаты письменности, что означало полный запрет на публикации. Поскольку по той же причине он не мог быть принят и в члены Имперской палаты киноискусства, ему пришлось писать под различными псевдонимами (Вернер Андерс, Антон Хэльфер и др.), продолжая деятельность киносценариста для студии УФА. Неоднократными возможностями эмигрировать (в том числе при посредничестве Лиона Фейхтвангера) Вагенкнехт не воспользовался, продолжая почти до самого конца войны оставаться в Берлине. Он скончался при невыясненных обстоятельствах на киносъемках студии УФА, проходивших в Кастелау (Бавария).
Наследие и посмертная судьба [Править]
Произведения Вернера Вагенкнехта в наши дни почти забыты. Из его книг в послевоенные годы был переиздан только роман «Стальная душа», но интереса не вызвал. Его дневники, которые он однажды назвал «важнейшим своим произведением», не сохранились.
Произведения [Править]
а) Книги
Начало и конец, стихотворения, 1919
ПоПытки, стихотворения, 1920
Часовщик, рассказы, 1922
Команда Ноль, роман, 1925
Одинокие вдвоем, воспоминания, 1927
Квадратные круги, рассказы, 1928
Стальная душа, роман, 1930
б) Киносценарии
Нескончаемая улица, 1926
Я и ты, 1927
Когда наступит май, 1929
Детки, детки, детки, 1930
Его лучший друг, 1931
Вечерняя заря, 1932
Доктор Фабрициус, 1932
Пока реет знамя, 1935 (под псевдонимом Вернер Андерс)
Путь к счастью, 1935 (под псевдонимом Вернер Андерс)
Государственная афера, 1938 (под псевдонимом Генрих Хаазе)
Железный кулак, 1941 (под псевдонимом Антон Хэльфер)
Почему бы и нет? 1942 (под псевдонимом Антон Хэльфер)
Восстание в кукольном доме, 1943 (под псевдонимом Антон Хэльфер)
[Данный перечень не является исчерпывающим. Помоги Википедии, если можешь его дополнить.]
Дневник Вернера Вагенкнехта
(Октябрь 1944 [22])
Я для нее слишком стар. По-настоящему я ей неинтересен. Ни одной моей книги она так и не прочла. Она вообще книг не читает. Она принесет мне несчастье.
Я люблю ее.
До сих пор не пойму, как она три тяжеленных чемодана ко мне на пятый этаж втащила. Тити, если чего захочет, своего добьется. Открываю дверь – а она стоит как ни в чем не бывало и мордашку маленькой девочки нацепила, как обычно, когда натворит что-нибудь. «Только пожалуйста, не надо сильно на меня сердиться» – вот что на этой мордашке написано. Однажды выкурила все мои сигареты, хоть и знала, что это последние и других не будет, и вот точно такую же мордашку скроила. Знает, что умеет быть милашкой, и бессовестно этим пользуется.
Но она такая милашка.
«Если б знал, что ты придешь…» – пробормотал я от неожиданности, а она тут же за меня договорила: «…белье бы постелил свежее, верно?»
Понятное дело, мы уже вскоре очутились в постели, и, разумеется, я все грехи ей простил и, кроме «да» и «конечно», ничего сказать не мог. Но даже тогда она не была со мной честна. Я же знаю, вовсе не такой уж я хороший любовник, как она мне демонстрировала.
Да, она лжет мне, но до чего же неотразимо лжет.
Я знаю, она снова меня бросит. Как в прошлый раз. «Она разбила мне сердце» – так ведь говорят, хоть это полная чушь. Сердца не бьются, они очень даже эластичные.
И снова разобьет.
Тогда, в первый раз – она ни за что в этом не признается, но я-то на сей счет не обманываюсь, – она потому только со мной связалась, что еще ничего в киношном мире не смыслила. Она и вправду думала, если человек пишет киносценарии, то он на студии самый главный и может роли распределять. Только это и делало меня привлекательным в ее глазах. Выведала, кто скрывается под псевдонимом, и попросту заявилась ко мне на квартиру. Дескать, хочет поговорить со мной о своей роли, так и заявила, хотя вся роль была – одна фраза. Такая врушка. До того наивная. И до того обворожительная. Она и вправду надеялась, что через мою постель сможет заполучить роли поинтересней. А потом, когда поняла, что поставила не на ту лошадку, мигом исчезла. Ничего не поделаешь, деловые времена.
Но это были два самых дивных месяца в моей жизни. Хотя нет, не дивных. Самых волнующих. Я, в общем, не старик еще, но когда тебе к пятидесяти, все время думаешь: может, это вообще в последний раз. Я был влюблен, как гимназист. И все еще влюблен ничуть не меньше.
На сей раз, наверно, это продлится недели две. Пока она от испуга не оправится и кого-нибудь поинтересней, понужнее не подцепит.
Я, кстати, не думаю, что тот звонок из гестапо был. Эти по телефону не звонят. Попросту вызывают на Принц-Альбрехт-штрассе или сразу заявляются на дом. В черных кожаных пальто. Даже если бы Геббельс вдруг прослышал об этой истории… (Геббельс. До чего же унизительны мои поползновения столь дешево над ним потешаться. В дневниках, которые никто никогда не прочтет. Зато поглядите, какой я отва-а-ажный!) Но даже если – вряд ли из-за такого пустяка он спустил бы на нее своих псов. Уж скорее наоборот, ему бы польстило, что о нем такие слухи распускают, как же, бабельсбергский ходок. Может, даже попытался бы воплотить молву в жизнь, на одну-две ночки.
Мне совсем другое представляется: что на самом деле друг сердечный, про которого ее расспрашивали, это был я. Ведь не бог весть какая тайна, что я все еще сценарии пишу, под псевдонимом. Вот, может, кто-то и захотел на этой информации поощрительную галочку в личном деле заработать. Но Тити я об этом не скажу, иначе она перепугается и мигом свои чемоданы соберет.
Каждый день с ней бесценен.
Будь моя воля, я бы все любовные сцены в своих книгах сейчас, задним числом, переписал. Такими бесплотными, такими безжизненными они мне нынче кажутся. Ведь я тогда еще не знал Тити. Она еще не открыла мне, сколько чудес можно творить при помощи двух рук и губ и…
А потом придет режиссер (нет, у них это теперь называется «постановщик»!) и все опять повычеркивает. Даже в дневнике никаких «пошлостей»!
Тити.
Она ненавидит, когда я ее так зову. Хочет, чтобы ее Тицианой величали, и ужасно гордится, что это и вправду ее настоящее имя. А при этом свои тициановские рыжие волосы, с которыми она родилась и за которые ее так окрестили, давно перекрасила в белокурые. Хочет быть, как все, но при этом оставаться чем-то особенным.
Ты такая юная, Тити.
Я знаю, это ненадолго.
Но мне все равно.
Слишком долго я был один.
Интервью с Тицианой Адам
(11 августа 1986)
Сколько угодно можете включать магнитофон – я все равно не передумаю. Просто не хочу. Не хочу и всё. Вот помру – тогда пожалуйста… А пока я жива…
Вы в Бога верите? Я нет.
В интересах науки! Не смешите… Вам до них и дела нет. Докторская степень – вот что вам нужно… Чтобы все по плечу похлопывали, восхищались… Говорили: «Ну ты и пройда, это ж надо, что раскопал!» Книгу хотите из этого сварганить, чтобы фамилия ваша на обложке… Не его, а ваша! А вы потом книжку на полку поставите и всякий раз, проходя мимо… В интересах науки!
Дайте же мне огня, черт возьми!
Тогда зажигалку купите! Спишете потом по графе производственных расходов. На задабривание Тицианы Адам. Чтобы она предоставила вам дневники Вернера Вагенкнехта.
[Пауза.]
Но вы их не получите. Может, когда-нибудь я и дам вам страничку-другую прочесть. Но целиком – никогда. Даже не надейтесь.
Ради сохранения памяти о нем! Чем больше слов, тем меньше причиндал! Да за все эти годы ни одна собака… Я однажды в книжный зашла… Вообще-то, я отродясь туда не ходила. Времени нет читать, да и глаза… Да ладно, скажу как есть. Я ни одной книги Вернера не прочла. Я и книги – это вообще… Не срослось, как говорится… А уж как он хотел, чтобы я хотя бы одну… Но это оказалась такая толстенная хрень… Я наплела что-то, отговорилась. Сказала, мол, я же в тебя влюблена, не в твою писанину. Хотя тогда вообще еще… По-настоящему-то я его полюбила, когда он умер уже. Нет, раньше, конечно. А вот поняла только потом.
[Долгая пауза.]
О чем, бишь, я? Ну да, в книжный заглянула и спросила какую-нибудь книгу Вернера Вагенкнехта. Только посмотреть… Они даже фамилию такую не знали. Даже фамилию не слыхали! Так что кончайте тут насчет сохранения памяти распинаться. Никакую память никто не хранит. Никто. Кроме меня, разве что.
После войны я в Берлин поехала, квартирку свою разобрать хотела. Только разбирать оказалось нечего. Об этом соотечественнички ваши позаботились… Точнехонько сброшенной бомбой. Хрясть, и как корова языком… Вот тебе твоя полировка, вот тебе твое розовое дерево.
А у него наоборот. Дом уцелел. Квартире повезло больше, чем хозяину. Ну вот, я дверь отпираю, ключ-то у меня был еще, а там… Какие-то совсем чужие люди. Даже мебель еще его. Беженцы, голь перекатная, женщина с тремя [неразборчиво]. Такое уж время было. Другие-то его бумаги, да и книги все они давно на растопку… Но дневник свой он… Если бы молодчики из гестапо нашли, ему был бы каюк сразу. Но он все равно писал, не мог иначе. Каждый день. У него это как болезнь было.
В картофельном подвале. Там такая ниша была, раньше туда банки с огурцами ставили. Ну а когда подвал под бомбоубежище отвели, нишу эту мы замуровали. Правда, от прямого попадания эта туфта в полкирпича мигом бы… [Смеется.] Не по-настоящему замуровали, а так, для блезира, все ведь второпях делалось. Четыре кирпича только вынуть, а за ними…
Вот я эти бумаги и забрала, и теперь они мои. То, что он в Кастелау написал, и три картонки из Берлина. Только это мне от Вернера и осталось. Могилу его они давно уже… Наверно. Там на кресте даже не настоящее его имя. Но дневник его…
За все эти годы никто не спросил. Забыли, зарыли, и дело с концом. Шито-крыто. А теперь вы заявляетесь и хотите…
Да хоть тысячу раз меня попросите, я вам то же самое отвечу. «Гёц фон Берлихинген», знают у вас в Америке такую вещицу? Нет? А вы поинтересуйтесь, полистайте [23].
Посмертно. Еще одно расфуфыренное словцо. Посмертно все они порешили забыть все, что было. Посмертно все оказалось иначе, чем на самом деле. Посмертно…
Вернера они похоронили, а этот Вальтер Арнольд… Марианна рассказала мне, как они вместе по деревне на джипе разъезжали, он и тот американский полковник. Который, вообще-то, из Вены родом был. Культур-офицер, так это у них тогда называлось. Наш Вальтер Арнольд, он потом вон какую карьеру сделал. А Вернера…
[Плачет.]
Видите, что вы наделали? Теперь мне снова краситься придется! Да оставьте меня в покое! Не нужен мне ваш носовой платок…
Хотя ладно уж, давайте.




