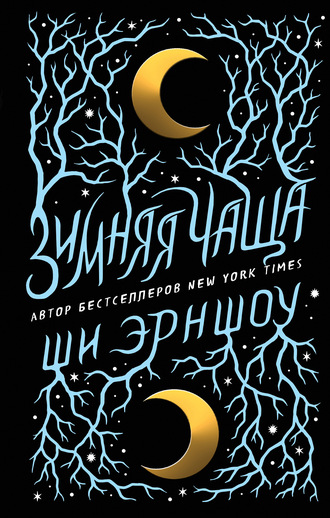
Ши Эрншоу
Зимняя Чаща
Глаза слезятся от холода, в голове гудит колокол.
Над озером стелется туман, густой и мутный, как ольховый дым. Он напоминает мне о том дне, когда мы похоронили бабушку на маленьком кладбище на западном берегу озера. Похоронили в темной земле, где, накрытые искрошившимися могильными плитами, лежат золотоискатели.
«Погребальный туман» — так сказала о том дне мама. Только такая погода и подходит для похорон – чтобы горевать, чтобы прятать слезы, текущие по щекам, то, что нужно для оцепеневших, рвущихся на части сердец. Но теперь погребальный туман поднимается над озером, волнами скатываясь вниз по горным склонам. Туман-напоминание. А может быть, предупреждение.
Сегодня хороший день, чтобы хоронить мертвых.
Оливер
Когда мне было десять лет, отец повел меня в поход далеко в горы Блю Мейл. Спали мы в палатке, под дождем, который шел всю ночь и просачивался в маленькую дырочку в нейлоновой ткани. К утру вокруг наших спальных мешков образовалась целая лужа, а я всю ночь дрожал от холода.
Мне еще никогда в жизни не было так холодно, как тогда.
До недавних пор не было.
Холод в здешних лесах – это что-то. Он залезает внутрь, пробираясь сквозь одежду, носки, кожу, пронизывая до мозга костей. Я осторожно выбрался из столовой через заднюю дверь, не дожидаясь, пока вожатые заметят меня. Пока вообще кто-нибудь меня заметит. Впрочем, сделать это было не так уж сложно: я был просто еще одной тенью, промелькнувшей в обманчивом, тусклом свете свечей.
Деревья окутал плотный тяжелый туман, я пробирался по снегу, петляя среди разбросанных в беспорядке лагерных хижин. Номера у хижин тоже шли беспорядочно – четвертая хижина, следующая двадцать шестая, за ней – одиннадцатая. Дичь полнейшая. Но я добрался до хижины четырнадцать, куда был определен в первый день – с этого момента уже прошло несколько недель, – толчком отворил дверь и нырнул внутрь.
Большинство людей никогда не слышали ни про озеро Щучья пасть, ни про лагерь для трудных подростков на его берегу.
Очень уж далеко в горах спрятано от мира это место. Отсюда до ближайшего города на машине ехать и ехать несколько часов по крутой извилистой дороге. Так что неудивительно, что этого озера нет почти ни на одной карте. Подходящее место, чтобы потеряться.
Но я никогда не намеревался пропадать без вести, нет.
Внутри у стен хижины стоят две двухъярусные кровати – хибара эта рассчитана на четверых человек. Воздух здесь пахнет сырой древесиной и дымом костра. Этот запах намертво впитался в простыни, крахмальные наволочки, в обтрепанный зеленый коврик в центре комнаты – буквально во все.
Я присаживаюсь на корточки рядом с пузатой чугунной печкой-буржуйкой в углу хижины.
Вожатые требуют, чтобы огонь в печке не угасал никогда, чтобы она горела день и ночь, согревая лачугу. Но большинство из нас забывают об этом. Сейчас наша печка не горит, в ней остались только тлеющие угли.
Я кладу на угли сухие поленья, развожу огонь, но в комнате по-прежнему холодно, снаружи завывает ветер, бьется в тонкое оконное стекло. Я скидываю башмаки и иду к деревянному комоду, приткнувшемуся у стены справа. Выдвигаю нижний – мой – ящик. Но в нем пусто. Моя одежда, рюкзак, с которым я приехал сюда, несколько книг, мобильник с разрядившейся батарейкой – все исчезло.
Должно быть, вещи забрали вожатые. Сложили мои пожитки в коробку, когда я пропал, и приготовились отослать их, когда расчистят дорогу, моему дяде.
«С печалью сообщаем вам, что ваш племянник, Оливер Хантсмен, исчез из лагеря для трудных подростков «Щучья пасть». Если он возвратится, мы поставим вас в известность об этом. А пока возвращаем вам все его имущество».
Я задвигаю ящик, чувствуя странную пустоту в животе. Немногие принадлежавшие мне вещи исчезли. Не скажу, что мне очень уж жаль, однако это все, что у меня было. Все, что хоть что-то для меня значило.
И напоминало о прошлой жизни. О родителях. Я стараюсь сдержать наворачивающиеся на глаза слезы. Чувствую, как все сжимается у меня внутри. Возможно, вожатые уже освободили мое место для кого-то другого. Мой ящик, моя койка – ничто больше не хранит и тени воспоминаний о ком-то, кто жил здесь, а потом исчез.
Можно подумать, что Оливер Хантсмен не существовал никогда на белом свете.
Забираюсь по лесенке в койку – мою старую койку – и ложусь на тощий продавленный матрас. Смотрю на потолок. Он находится надо мной на расстоянии вытянутой руки и покрыт вырезанными именами, непонятными значками и непристойными рисунками. Их оставили мои предшественники – парни, которым не спалось, или было скучно, или просто хотелось, чтобы их помнили. Они вытаскивали свои карманные ножи и начинали резать дерево в доказательство, что они жили на этой земле.
В кармане куртки я нахожу холщовый мешочек с травами, который дала мне она. Мешочек пахнет так же, как мамин сад, где она выращивала чабрец, картошку и морковку – ее мы ели, вытаскивая за зеленые хвостики прямо из земли. Я прижимаю мешочек к груди, пытаясь прогнать угнездившийся там холод. Стараюсь не думать о маме – такие мысли для меня всегда как ножом по сердцу. Они заставляют чувствовать себя одиноким – ужасно, безнадежно одиноким.
Все называют Нору ведьмой. Лунной ведьмой, полной зловещих мыслей и странных слов. Ведьмой, которая живет в странном доме, наполненном странными вещами. А стоит этот дом среди леса.
Может, правду говорят. А может, просто пересказывают чужие сплетни. Или рассказывают о ней, чтобы никто не стал трепаться о них самих.
Возможно, она тоже чувствует себя одинокой. Непонятой. Ощущает внутри пустоту, которая никогда не будет заполнена.
В точности как я.
Потрескивает в печке огонь, а я закрываю глаза и укрываюсь с головой одеялом, чтобы немного согреться.
Пытаюсь уснуть. Мир вокруг начинает таять и размываться. На какое-то время я засыпаю, но сон приходит тягучий, мрачный – в нем я бегу среди деревьев, подняв глаза вверх, и ищу звездное ночное небо, но не нахожу. Я заблудился, и я падаю в снег, и мне холодно, холодно, холодно, пока она не трогает меня за руку, и я моментально просыпаюсь.
Открываю глаза. Я лежу все на той же койке и смотрю в потолок.
Но я больше не один.
Внизу слышны голоса и шарканье подошв.
Остальные вернулись.
Я продолжаю тихо лежать, слушая их шаги, слушая, как захлопнулась входная дверь. В хижине темно, солнце давно село, и никто не знает, что я здесь, лежу, притаившись на верхней койке. Они не знают, что я вернулся.
– Я же говорил, что ничего она не погаснет, – говорит кто-то. Я узнаю́ этот голос. И голоса остальных, вместе с кем я делил эту хижину до того, как потерял память. До того, как пропал. Это сказал Джаспер, у него высокий голос.
Слышу, как подбрасывают в печку новые поленья, как шаркают ногами, выдвигают и задвигают ящики комода. Нижняя койка подо мной трещит и шатается – это Лин шлепается на матрас и начинает колотить ногой по деревянной раме.
Джаспер, койка которого находится прямо напротив меня, говорит.
– Не понимаю, зачем мне нужно знать это дерьмо. Зачем он мне, этот компас? В сортир по нему ходить, что ли? А в лес я после того, как вернусь отсюда, ни за какие коврижки не пойду.
– А если вдруг тебя пригласят работать здесь вожатым? – ехидно спрашивает Лин, и они втроем хохочут.
– Черта с два я соглашусь, – отвечает Джаспер.
В разговоре повисает долгая пауза, слышно лишь, как все громче завывает снаружи ветер, заставляя щелкать и трещать огонь в печке. По крыше начинают барабанить капли дождя.
Я думал, что все уже уснули, но тут Джаспер говорит:
– Две недели сегодня.
– Заткнись, – обрывает его Ретт со своей нижней койки.
– Просто я думаю, где он, – поспешно добавляет Джаспер.
– Найдется, – резко отвечает Ретт. Словно гвоздь вбил. Возможно, мне нужно сказать им что-нибудь, показать, что я здесь, – но я продолжаю молчать, чувствуя, как все сжимается у меня внутри.
– Ты что, можешь осуждать его за то, что он не хочет возвращаться? – спрашивает Лин. В комнате становится тихо. – На его месте я бы тоже спрятался.
– Точно, – хмыкает Джаспер.
Кто-то бурчит себе под нос, кто-то кашляет, но ничего существенного никто не говорит. Вскоре все засыпают – посапывают, похрапывают, дергая ногой, задевают деревянные рамы кроватей, подтягивают к подбородку свои одеяла, чтобы согреться.
В щелях сложенных из бревен стен хижины тоненько свистит ветер. Ужасный это свист – нескончаемый, унылый, сводящий с ума.
Дождь превратился в снежную крупу, та, в свою очередь, сменилась снегом, который стал налипать на подоконники.
Я все еще лежу неподвижно, слушаю, как дышат мои соседи по хижине. Они не знают, что я здесь. Что я вернулся из леса. «На его месте я бы тоже спрятался», – сказал Лин.
Что же случилось той ночью, когда под натиском снежной бури дрожали стены хижин? Что случилось той ночью, которая вычеркнута теперь из моей памяти?
Я откидываю одеяло и тихо спускаюсь по лесенке на пол, крадучись иду по комнате. Никто не пошевельнулся. Я, конечно, могу разбудить их, сказать, что вернулся, спросить, что же такое, в конце концов, случилось той ночью, чего я никак не могу вспомнить.
Но подкативший к горлу комок не позволяет мне сделать это, а ноющая боль в груди говорит, что я не должен им верить.
Случилось нечто такое, чего не хочет хранить моя память.
Наверняка нечто темное и мрачное.
Я не могу оставаться здесь, с ними. Не могу оставаться в этом месте, переполненном одними только дурными воспоминаниями.
Натягиваю башмаки и приоткрываю дверь ровно настолько, чтобы проскользнуть наружу. Оглядываюсь напоследок и замечаю, что кто-то шевелится. Ретт, по-моему, это он приподнимает голову. Но я закрываю за собой дверь быстрее, чем он успевает что-либо понять.
Раньше, чем видит, как я сбегаю отсюда.
Нора
Ночь в горах опускается быстро.
Заснеженные вершины проглатывают заходящее солнце. Съедают его целиком. Я заношу только что наколотые поленья и кладу их возле печки. Их будет достаточно, чтобы согревать меня и Сюзи всю ночь до самого утра. Если они разгорятся, конечно.
– Ты в лесу нашла все эти вещицы? – спрашивает Сюзи, стоя возле темнеющего окна и проводя пальцем по предметам, сваленным у меня на подоконнике. Больше всего ей понравились, насколько я понимаю, серебряный подсвечник и маленькая, размером с ладонь статуэтка – танцующие мальчик и девочка. Усыпанное веснушками лицо девочки слегка запрокинуто, так, словно она смотрит в воображаемое небо. Эти свои находки я знаю как свои пять пальцев. Они заполняют дом, и от этого он не кажется таким пустым.
Почти весь день Сюзи бегала со своим мобильником, пытаясь поймать сеть, даже после того, как я сказала, что здесь сигнала нет. Устав, она ушла на кухню и принялась то и дело снимать трубку телефона, надеясь услышать гудок. Ничего, разумеется, не услышала, кроме гробовой тишины. Закончилось тем, что от она отошла от телефона, а мобильник выключила, чтобы не разряжать батарейку.
А сейчас наступил вечер, и Сюзи выглядит подавленной, ее голос звучит низко и уныло.
– Да, в лесу, – отвечаю я на вопрос о вещицах на подоконнике. – Во время полнолуния.
Какое-то время Сюзи следит, как крутятся на ветру снежинки за окном.
– В школе о тебе много чего говорят, – произносит она наконец. Рассеянно, так, словно я на самом деле и не слушаю. – Говорят, что ты с деревьями разговариваешь. И с мертвыми тоже.
Что-то в ее голосе подсказывает, что Сюзи самой хочется верить во все это, чтобы потом, вернувшись в школу, она могла сказать: «А знаете, я была в доме Норы Уокер, и все, что о ней говорят, – чистая правда».
Слова Сюзи должны были бы задеть меня, но я хорошо знаю, что говорят люди и обо мне, и о моей семье, так что эти сплетни давно не ранят меня, стекая словно дождевые капли с зонта. Я знаю, кто я есть и кем не являюсь. Нет, я не осуждаю людей за их любопытство. Иногда мне даже кажется, что они просто испытывают зависть и желание стать чем-то бо́льшим, кто они есть. Сбежать от серости их заурядной жизни.
Я прохожу на кухню, зажигаю спичкой две свечи – одну для Сюзи, одну для себя – и тихо замечаю:
– Знаешь, я никогда не разговаривала с мертвыми.
Это правда, хотя Уокеры часто были способны видеть призраков, которые бродят по старому кладбищу на дальнем конце озера. Да, мы, Уокеры, видим порой потусторонние тени, фантомы, проплывающие по дому из угла в угол. Наши глаза действительно способны видеть то, что не дано другим. Но этого я Сюзи не говорю. Не хочу представлять доказательства, что я на самом деле могу быть такой, какой они меня воображают.
Сюзи моргает и постукивает пальцами по предплечью, прищуривает глаза, словно не верит мне, словно уверена, что я что-то прячу от нее. Например, десяток черных котов на чердаке, щетку, засунутую в шкаф за зимние куртки, или спрятанные под половицами банки, в которых я храню сердца своих жертв. Но ничего подобного в доме нет, только сушеные травы, печная сажа и дремлющие по углам воспоминания.
– Постелю тебе на диване, – говорю я.
Одеяла и подушка, на которой здесь спал прошлой ночью Оливер, скомканы и лежат на краю дивана.
Сюзи осматривает продавленный диван, его подлокотники с вылезающей наружу набивкой и хмурится. И спрашивает, надувая губки:
– А кровати, на которой я могла бы спать, у тебя нет?
– Прости, нет.
Она отводит взгляд, изучает гостиную. Быть может, она рассчитывала, что я живу в одном из больших домов у озера – бревенчатых вилл с пятью спальнями, игровыми комнатами в цокольном этаже и ванной, где она могла бы полежать в душистой пене, отогреваясь с мороза.
– А может, я… – она запинается и совсем тихо заканчивает: – Могу спать с тобой, в твоей комнате?
Мне вновь становится жалко ее.
Говорить «да» мне не хочется, я не хочу делить свою кровать с девчонкой, которая наверняка сплетничает обо мне в школе, жадно разглядывает странные вещицы в моем доме, чтобы потом распустить новые слухи, когда вернется в Фир Хэйвен. Но с другой стороны, мне хочется чувствовать себя нормальной, обычной девушкой, которая может пригласить к себе подругу, а если они засидятся допоздна, оставит ее ночевать. Что станет рассказывать Сюзи обо мне в школе, меня совершенно не волнует.
– Отлично, – срывается у меня с губ прежде, чем я успеваю удержаться.
Я запираю обе двери, и мы взбираемся по лестнице ко мне на чердак. Фин поднимается вслед за нами.
Здесь Сюзи сразу же подходит к стене, на которой расположены окна, а я взбиваю лежащие на кровати подушки – одну для Сюзи, одну для себя.
Снег усилился, густо валит за окном, липнет к стеклу. Интересно, нет ли поблизости мотылька? Может, следит за мной, поджидает среди деревьев. За неделю до смерти бабушки костяной мотылек целое утро бился в окна нашего дома – хлоп-хлоп-хлоп крылышками, шор-шор-шор. Так сильно бил крылышками и колотился маленькой головкой, что, казалось, вот-вот стекло разобьет. Тогда я впервые увидела живьем того зловещего мотылька, о котором меня столько раз предупреждала бабушка. Помню, как мама металась в то утро по дому, то заплетая, то расплетая свои волосы, словно таким образом можно было что-то изменить.
Мама знала, что приближается смерть: костяной мотылек был ее вестником.
Той же ночью мы с мамой проснулись и обнаружили, что бабушка вышла из дома, чтобы в последний раз побыть на берегу озера. Вокруг бабушки кружились осенние листья – оранжевые, золотисто-желтые, печальные, – и мы знали, что мотылек был прав. Смерть приближалась, как мы и боялись.
А теперь такой же костяной мотылек преследует меня.
– Почему ты остаешься здесь на зиму? – спрашивает Сюзи, касаясь окна кончиками пальцев.
Я зажмуриваю глаза, чтобы прогнать воспоминания о мотыльке и бабушке, и отвечаю:
– Это мой дом.
– Понимаю, но ты могла бы уезжать на зиму, как это делают другие.
– А мне зима нравится, – говорю я. Я люблю тишину. Холодную бескрайнюю тишину. Но это еще не все. Здесь мое место. Все Уокеры из поколения в поколение жили в этом лесу. Среди древних сосен. Так было всегда, вот и все.
Мы просто не знаем, как это – жить где-то еще.
– Твой дом старее остальных, – замечает Сюзи, продолжая смотреть в окно, хотя в такую метель вряд ли она может разглядеть другие дома на берегу озера.
– Этот дом построил мой прапрадед, – говорю я. – И было это задолго до того, как здесь начали строить другие дома, – взгляд у Сюзи мягкий, на ее щеки и рыжевато-каштановые волосы ложатся блики от зажженной свечи, которую она держит в руках. – Он был золотоискателем, – продолжаю я. – Сколотил себе состояние на Черной реке.
Но, как и большинство мужчин в нашей семье, он появился и исчез так же быстро, как переходит в ночь осенний вечер. Впрочем, тех мужчин я не виню: все женщины из рода Уокеров были ветреными, неверными, когда дело касалось любви. Мужчины всегда были для них лишь мимолетным увлечением. Как мой отец, например. Не знаю, невезение тому виной или выбирать мы не умеем, но только мужчины никогда здесь надолго не задерживаются.
Я иду к платяному шкафу и переодеваюсь в тренировочные брюки и толстый, грубой вязки свитер. А Сюзи все стоит у окна, прижав к стеклу ладонь.
– Ты говорила, что нашла того пропавшего парня? – спрашивает она.
Я закрываю дверцу шкафа, на секунду ловлю свое отражение в зеркале – глаза сонные, волосы свалялись, расчесать пора.
– Да, нашла. В лесу, – осторожно отвечаю я.
Местные знают про Чащу. Говорят о нем тайком, всегда шепотом. Словно боятся, что лес услышит их и накроет своим мраком. «Никогда не говори о Чаще», – это предупреждение много раз встречается на страницах книги заклятий.
– Как он выжил там столько времени? – спрашивает Сюзи, отстраняя руку от окна.
– Ему повезло, – говорю я. А может, совсем наоборот. Обнаружить, что ты потерялся в Чаще, – это несчастье. Катастрофическое.
«Обреченный он, – сказала бы бабушка, будь она здесь. – Про́клятый. Сторониться его нужно».
У меня по спине пробегает ледяной холодок, вползает в грудь и застывает там, тяжелый, как цемент.
– А мог бы закончить как тот, другой парень, – замечает Сюзи.
Я вскидываю глаза, смотрю на ее силуэт, четко выделяющийся на фоне окна, за которым метет снег.
– Какой другой парень?
– Тот, что умер, – пожимает плечами Сюзи, поворачиваясь ко мне. – В ту же ночь, когда пропал твой парень.
Мне хочется сказать, что он не мой парень, но вместо этого я спрашиваю.
– Умер?
– Ну да, в ту ночь, когда была снежная буря, – поджимает губы Сюзи.
– А что с ним случилось?
– Не знаю. Просто слышала, как другие говорили об этом. Они хотели вызвать полицию, но телефоны уже отрубились.
– Кем был тот парень? – подхожу я ближе к Сюзи.
– Точно не знаю, – отвечает она, наматывая на палец прядь волос, но делает это не потому, что нервничает, а просто по привычке. – Все помалкивают, никто разговаривать об этом со мной не хотел. Но мне удалось кое-что подслушать в зале, когда они шептались между собой.
– Они говорили о том, как он умер? – спрашиваю я. У меня все сжимается в груди, не могу вдохнуть. Сюзи мотает головой и хмурится при мысли, каково это – найти свою смерть в этих лесах, на собачьем холоде. – Слышала только, что один парень пропал, а второй умер.
Я опускаюсь на край кровати, смотрю в окно через плечо Сюзи.
– Кто-то умер, – глухо повторяю я, в основном для самой себя, и провожу пальцем по бабушкиному кольцу, ощущая мягкие очертания серого лунного камня.
Словно могу призвать бабушку, услышать ее успокаивающий голос, которым она рассказывала мне свои истории. Но бабушка, конечно, передо мной не появляется.
Какое-то время мы с Сюзи молчим, сквозь стены просачивается холод, огонь в печке внизу, похоже, начинает угасать. Спальня кажется мне необычно пустой, в ушах начинает звенеть, а когда я моргаю, кажется, что стены спальни дрожат и качаются.
Наверное, я слишком устала. И не выспалась.
– Не хочу это обсуждать, – говорит Сюзи и шумно выдыхает – то ли раздраженно, то ли измученно, не могу понять. – Все это ужасно.
Она отходит от окна к кровати и быстро забирается под шерстяное одеяло, так и не сняв свою кенгурушку и джинсы. Будто надеется, что сможет спрятаться там от смерти и легко забыть все.
Она закрывает глаза, ее мягкие волнистые волосы раскидываются по подушке. От Сюзи пахнет розовой водой, напоминающей старинные французские духи, какими теперь пользуются только леди в домах для престарелых, которые курят тоненькие сигареты и все еще красят себе ногти вишнево-красным лаком.
На секунду мне почти удается обмануть себя, заставить поверить, что у нас нормальная вечеринка с ночевкой. Что мы с Сюзи – две лучшие подруги, слишком засидевшиеся у телевизора, жуя попкорн и смотря ужастики, накручивая друг другу бигуди, хихикая, вспоминая мальчиков, с которыми целовались в школе. Совсем другой вечер. Совершенно иная жизнь.
Люди смотрят на меня и видят ведьму. Девчонку опасную, неуправляемую, полную темных мыслей. Но они не видят, что я скрываю от всех. Не замечают, что я чувствую себя потерянной, одинокой, потому что единственного человека, который меня понимал, бабушки, нет больше на этом свете. Не понимают, что я ощущаю себя недостаточно хорошей, недостойной и что ношу на сердце камень.
Никто не видит, что у меня не меньше душевных ран, чем у остальных.
Что я тоже надломлена.
Я неохотно залезаю в постель.
Утыкаюсь коленками в коленки Сюзи, головой в ее локоть, а когда она засыпает, слышу, как она начинает храпеть в подушку. Впрочем, храпит Сюзи негромко, этот звук, можно сказать, даже успокаивает, но я лежу без сна.
Мой мозг трещит от перегрева.
«Парень умер». Мне становится не по себе. «Парень умер». А мы заперты в этих горах. «Парень умер». И я не знаю, что об этом думать. Будь сейчас лето или хотя бы дорога не была заблокирована, сюда прибыла бы полиция. Они задавали бы вопросы. Выясняли все обстоятельства дела. Но ничего этого не произойдет, пока не расчистят дорогу, и мне непонятно, стоит ли чего-то бояться. «Как он умер? Это был несчастный случай или что-то другое?» Сюзи упомянула о его смерти как-то вскользь, словно это все случилось уже давно, год назад, а то и больше. «Ах, ну да, той зимой парень умер, как же это так снова-то произошло?»
Но я никогда не знала никого, кто бы умер, если не считать бабушки. Возможно, если бы не тот мотылек или не парень, которого я нашла в лесу, мне было бы спокойнее. И не трещали бы у меня сейчас мысли в голове, как кузнечики в высокой прибрежной траве в осеннюю лунную ночь. Возможно.
Но мои мысли не успокаиваются, грохочут, носятся по кругу. «Знал ли Оливер, что случилось с тем парнем? Был ли он там, когда это произошло? Помнит ли об этом?»
Проходит час. Снег все сильнее бьет в стекло, начинается буря, катится на нас вниз по горным склонам. Фин дергает лапами, скребет когтями по деревянным половицам – ловит во сне кролика или мышь.
Я заставляю себя опустить веки. Молю сон прийти ко мне.
Но вместо этого смотрю в потолок.
Смотрю, пока ночь за окном не становится непроглядной, пока не вскипают в голове беспокойные мысли, и тогда я слышу стук.
Тук-тук-тук по стеклу, тук-тук-тук.
Снаружи кто-то есть.
– Что это? – бормочет Сюзи, не разлепляя глаз. Она говорит, продолжая оставаться в своем сне, она еще не проснулась до конца.
– Я что-то слышала внизу, – тихо отвечаю я, выбираясь из постели. – У двери.
Перевожу взгляд на лестницу и прислушиваюсь.
– М-м, – мычит Сюзи и вновь зарывается головой в подушку.
Ветер бьет о стены дома, сердце колоколом стучит в груди. Осторожно, тихо, ступенька за ступенькой я спускаюсь вниз. «Парень мертв» – эта мысль отдается в моей голове с каждым ударом сердца.
Я снова слышу стук – отчетливый, быстрый, он доносится с той стороны входной двери. Это, я думаю, может быть только мистер Перкинс или кто-то из лагерных вожатых – хотят предупредить меня, что среди нас разгуливает убийца. Посоветуют запереться на все замки и не выходить из дома. Ко мне привыкли относиться как к самой большой опасности в наших лесах, но теперь это, возможно, больше не так.
Я подхожу к окну, медленно дышу, пытаясь унять волнение, звенящее в висках. Я отодвигаю в сторону краешек занавески. Кто-то стоит на крыльце, засунув руки в карманы, сгорбившись от холодного ветра.
Я его знаю.
Я отодвигаю щеколду и толчком открываю дверь. В открывшийся дверной проем влетает порыв ветра, приносит с собой пригоршни снега.
Ночной гость поднимает голову.
Оливер.
– Я не знал, куда еще пойти, – говорит он, хмурясь.
Ко мне снова возвращается способность дышать, и я отступаю на шаг, позволяя Оливеру войти внутрь.
– Что ты здесь делаешь? – спрашиваю я.
Он стягивает капюшон, поднимает глаза. В неосвещенной комнате его зрачки кажутся еще темнее.
– Мне нужно место, где бы я мог отсидеться.
Я скрещиваю руки на груди, в голове продолжают крутиться слова, от которых я никак не могу избавиться: «Парень умер. Парень умер».
– Почему ты не мог остаться в лагере? – спрашиваю я.
Я наблюдаю за ним, пытаясь найти причины, по которым я не могу позволить парню, которого я едва знаю, остаться у себя в доме. Причины, по которым я должна сказать, чтобы он уходил, но только вижу перед собой парня, которого я нашла в Чаще, – замерзшего, дрожащего и одинокого. Вспоминаю, как он, раздевшись, сидел у огня в тот вечер, когда я привела его назад. Помню, какими холодными, буквально ледяными были его руки, как сильно он стискивал зубы и как расслабились его мышцы, как только я прикоснулась к нему.
– Я никому там не верю, – отвечает он.
– Почему?
Его взгляд задерживается на мне, прежде чем скользнуть в сторону. После долгой паузы он говорит:
– Мне некуда больше пойти.
Мне кажется, что я слышу на чердаке какое-то движение. Это Сюзи – то ли проснулась, то ли просто перевернулась на другой бок. Звук замирает.
«Парень умер», – снова думаю я. Эти слова крутятся в голове, повторяются, словно эхо…
Я сглатываю, перевожу взгляд на Оливера и говорю то, чего не хотела бы произносить вслух:
– В ту ночь, когда ты пропал, умер парень.
Слова слетают с моих губ, вызывая странную боль у меня под ребрами – будто я попалась на рыболовный крючок.
– Что? – хмурится Оливер.
Я чувствую, как сжимаю челюсть, не отрываясь, смотрю на него, боясь упустить малейшее движение, которое может что-нибудь выдать. Показать, что Оливер пытается что-то скрыть от меня.
– Парень умер, – повторяю я, гораздо тверже на этот раз.
Но Оливер смотрит, словно ничего не понимает.
– Ты этого не знал? – спрашиваю я.
– Нет, я не… – он замолкает, стоит, слегка покачиваясь на носках, и я вижу, как он бледен – холод еще не полностью вышел из его тела. – Я ничего не помню. Я не мог…
Его голос затихает.
Мне хочется притронуться к нему, успокоить, но я продолжаю держать свои руки скрещенными на груди, изучаю каждую черточку его лица, линию скул. Я высматриваю признаки, что Оливер лжет, скрывает что-то. Но вижу лишь глубокое замешательство.
– Я не могу вернуться в лагерь, – говорит он наконец. – Не будь дорога занесена, я ушел бы, но… – тяжело выдыхает он. – Но я застрял здесь.
Оливер вздыхает, и, клянусь, мне кажется, что ветер стихает. Он закрывает глаза.
Потерянная вещь, найденная в лесу. Которая сейчас больше казалась мне лесом, чем парнем.
И я говорю, прежде чем успеваю остановиться, убедить себя, что это плохая идея.
– Хорошо, – на секунду мне становится тревожно. – Ты можешь остаться здесь на ночь.
«На одну ночь», – добавляю я про себя. Еще одну ночь я разрешу спать здесь парню, который говорит так, словно внутри него шуршит легкий ветерок, который не может вспомнить, что с ним произошло в ту ночь. Его взгляд слегка сносит меня с катушек, и мне хочется кричать. Женщины из семьи Уокеров не могут верить собственным сердцам – нашим обманчивым, истекающим кровью сердцам. Этим беспечным, глупым комкам мышц, которые слишком часто бьются, слишком легко разбиваются. Наши сердца слишком хрупкие, чтобы им верить. И все же я позволяю ему остаться.
Я запираю входную дверь и подкладываю поленьев в печь. Когда Оливер присаживается на диван, замечаю, что он все еще держит в руке холщовый мешочек с травами, который я дала ему. Я была уверена, что Оливер выбросит этот мешочек, но он его сохранил.
– Спасибо, – говорит он, и я останавливаюсь у подножия лестницы, раздумывая и вертя кольцо с лунным камнем.
– А я могу тебе верить? – спрашиваю я.
«Слишком поздно ты его об этом спрашиваешь». Конечно, ведь я уже разрешила ему остаться. Позволила своему сердцу биться сильнее, позволила себе поверить, что Оливер может быть другим, не таким, как все. Что он может ощущать внутри себя такую же пустоту, как и я. Интересно, если он ответит «нет» – найду я сил заставить его уйти? Нет, наверное.
Оливер смотрит на меня своими бездонными глазами, и моя голова начинает кружиться, становится легкой, и в ней не остается ни одной мысли. Такое ощущение, что я стою на качающейся корабельной палубе, и нет ни компаса, ни звезд над головой, чтобы направить меня к берегу.
– Я не знаю, – отвечает он наконец, и у меня пересыхает в горле.
«Парень умер. Умер, умер, умер» – эти слова прочно засели у меня в голове, они пустили корни в моем черепе, протянули колючие ветки с ядовитыми цветками, отравили мои мысли.
Внутри меня и внутри дома собирается буря. Темнеет в дверном проеме, тьма выползает изо всех углов, растекается из-под старых скрипучих кроватей.
Вернувшись в комнату, я чувствую себя одиноко, неуютно под собственным одеялом. Потолок чердака кажется мне слишком крутым и шероховатым, похожим на хрупкие кости, которые легко ломаются, рассыпаясь на куски. Я заставляю себя закрыть глаза, но вижу перед собой только мотылька, вспоминаю его белые, как зола, крылышки, приближающиеся навстречу мне из тьмы. Мотылек охотится за мной.
Оливер вернулся из леса.
В ночь, когда бушевала снежная буря, что-то случилось. Что-то плохое.
«Когда видишь бледную бабочку, – не раз говорила бабушка, глядя на меня своими похожими на черные луны глазами, – знай, что смерть неподалеку».



