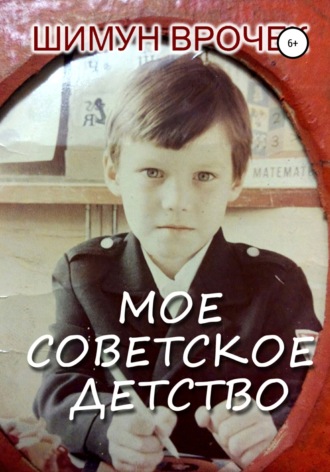
Шимун Врочек
Мое советское детство
8. Песнь Земли
Как я в детстве боролся за экологию.
Нижневартовск, зима. Вышел я гулять, мороз под тридцать, а во дворе синий "жигуль" греется. Без водителя. Двери закрыты, двигатель тарахтит. Этот жигуль мне сразу не понравился. Выхлопные газы, вспомнил я увиденный по телевизору документальный фильм. Много документальных фильмов, особенно о капиталистах. Они отравляют атмосферу. И до катастрофы осталось всего ничего. А тут она стала еще ближе! И все из-за одного водителя, который завел вредный двигатель и ушел домой, чтобы не мерзнуть. А тут выхлоп, и прямо на белый снег черные хлопья оседают.
Ужас.
Я прямо видел, как столбик, показывающий загрязнение атмосферы Земли, лезет вверх, играет музыка Чайковского "Смерть лебедя", а трагический голос диктора сообщает, что до гибели всего живого на Земле осталось шесть… пять… четыре… три минуты…
В общем, из головы у меня этот "жигуль" не выходил. Я погулял, попинал снежные комья, посмотрел на детский сад через забор, проверил пещеры, вырытые в огромном сугробе… Кто-то забыл красную лопатку. Я посмотрел на нее и вылез обратно. Все было не так и все не то. Я вернулся к жигулю. И стал ждать.
Прошел час, а мужик не возвращался и не выключал мотор. Я занервничал. "Как можно быть таким безответственным?", думал я о жигулисте. "Из-за таких, как он…" Он что, капиталист? Нет, он такой же, как мой папа и мой дядя Сережа, советский. Но почему ведет себя как эти, что вырубают тропический лес, а редкие индейцы и птицы потом вымирают?
Земля на моих глазах клонилась к закату. Кажется, воздух стал значительно темнее, и дышать становилось трудно. Мир умирал. Тысячи животных и растений взывали к моему разуму и воле.
Я понял, что должен что-то сделать.
Я пошел к жигулю, полный решимости. Мне было лет семь. Я подошел к зловонной выхлопной трубе этой советской "машины смерти". Снег уже в радиусе метра был черный и мертвый. Дым поднимался клубами на морозе. Ад наступал. Та планета из фильма "Через тернии к звездам" – она была уже рядом. Ее дыхание сочилось из выхлопной трубы.
Я шагнул вперед. Я брал снег комьями и бросал в жерло загрязнения, кашляя от выхлопа. Я был рыцарь экологии и октябренок. За моей спиной стоял Ленин (прищурившись, он одобрительно качал головой) и другие животные. У животных были страдающие и истовые глаза героя из фильма "Коммунист".
"Орленок, орленок, влети выше неба". Я бросал и бросал. Снег. Много снега. Целую тонну снега. Спина у меня взмокла, шапка развязалась и съехала на затылок.
Но отдохнуть я не мог. Загрязнение лилось в атмосферу, и я так мало мог сделать. Но я делал, что мог. Я почти засыпал трубу.
– Эй, ты! – меня окликнули.
Я поднял голову и с трудом разогнул натруженную спину. Уже стемнело.
– Эй, пацан! – грубый мужской голос.
Ко мне, не торопясь, ленивой походочкой деревенского драчуна шел мужик в черной дубленке. Я видел, как клубы пара слетают с его губ и запутываются в серых барашках на воротнике. Они показались мне похожими на мертвый снег.
Это был хозяин синего "жигуля".
Я выпрямился и смотрел на него. Мужик подошел и возвышался надо мной, как темная башня. Глаза у него были бледно-голубые.
Страха я не чувствовал. Я хотел сказать: как же так можно? Выхлоп. Вот мне и приходится за вас Землю спасать. А я еще маленький, я уже устал.
Почему-то я думал, что мужик это не специально, а потому, что не сообразил, как это вредно. И что он будет мне даже благодарен.
Несколько секунду мужик смотрел на меня. Взгляд безразличный, словно искоса. Я понял, ему нужно объяснить, что его машина вредит природе и нельзя так делать. Он поймет, не дурак же он и не капиталист, который вредит природе из жадности.
– Дядя, нельзя… – начал я. И тут он меня ударил.
Нет, не ударил. Равнодушно стукнул предплечьем в меня, словно толкнул бревном. Никакой боли, только глухой звук. Я упал на снег. И почувствовал удивление. За что?
Мужик сел в машину и уехал.
Во дворе наступила тишина. А я все лежал, оглушенный. "Я спасал природу, а он…" Как же так?
Потом встал, отряхнулся и пошел домой.
– С тобой все хорошо? – спросила мама, выглядывая из кухни. Она что-то варила. – Ты какой-то тихий.
– Да, – сказал я.
Из окна нашей квартиры я увидел пустой двор, черное пятно выхлопа. И целую гору снега, что я накидал, спасая мир.
И неожиданно почувствовал гордость.
Я пытался, но потерпел неудачу. Пусть кто может, сделает лучше.
9. Про любоффь
Дед Гоша рассказывал, как его приезжали снимать с телевидения. Как раз на Золотую свадьбу. В общем-то, снимали их обоих – и деда и бабушку, но бабушка перед камерами превращается в Хозяйку медной горы – замирает, как малахитовая. А вот дед нет. Дед органичный и прекрасно себя чувствует. Правда, на вопросы отвечает только на те, на которые хочет. К тому же он глуховат, так что не факт, что он точно услышал, о чем журналисты его спросили. Но это не важно.
Дед рассказывает: они меня спрашивают, как вам удалось сохранить такую крепкую семью? Сколько лет прошло. А я говорю: жену свою надо любить крепко. И все.
Смеется.
– Любить надо и все. Ясно тебе?
Я говорю: ясно.
– Я бабушку твою встретил – у нее тогда волосы были белые-белые. Красивая девка, – говорит дед. – Косы – толстущие, длинные.
И заканчивает победно:
– Вот за косы я ее и полюбил!

Третий слева, в шикарных носках – дед, крайняя справа, в косынке – бабушка.
Деда уже нет, а бабушке недавно исполнилось 82 года.
10. Моя печаль
Моя печаль – старый цирк.
На самом деле он новый, я знаю, что он новый, только изображает, что старый.
Но это все равно очень грустно.
Мой отец поет по итальянски – высоким чистым тенором, словно никогда не выкурил ни одной сигареты.
Он едет на велосипеде под куполом, по натянутому канату.
На нем – широкий белый клоунский костюм и остроконечная шляпа.
Мой отец играет на скрипке и крутит педали. Он печален, как положено клоуну, и он светел, как печаль по детству и радости, что уносит с собой детство. Он тихонько смеется, потому что ему нравится играть на скрипке и ехать под куполом на одноколесном велосипеде. И то, что он знает, что это похороны, его похороны, все равно не мешает ему получать удовольствие от хорошо сделанной работы. А потом он поет.
Силенцио! – кричит распорядитель.
Силенцио! Questo dovrebbe essere
Un funerale!
Тишина! Это похороны!
Все затихают, и под куполом, в темной пустоте, звучит только его чистый светлый голос.
Сегодня ровно год со дня смерти отца. Прошел год, а я все равно не верю, что его больше нет.
Овчинников Станислав Георгиевич. Стас. Георгич. Папа.
Когда мне было девять лет, я верил, что мой отец никогда не умрет.
Сейчас мне тридцать девять и я знаю. Я точно знаю.
Мой отец бессмертен.
11. Восстание желтых повязок
В школе я поставил два спектакля. Они назывались:
"Восстание Спартака" и "Восстание желтых повязок". Как видите, я разрабатывал одну тему.
Автор сценария, режиссер и исполнитель главной роли – я. В остальных ролях одноклассники. В "желтых повязках", кажется, была даже одна женская роль, но кто именно из одноклассниц играл – помню смутно. Помню только, что почему-то это меня волновало.
5 класс. Урок истории, Древний Китай. "Восстание Жёлтых повязок".Желтых повязок у нас не было, мы повязали головы пионерскими галстуками. Вышло неплохо.
Сейчас, думаю, нас приняли бы за команду революционного суши-бара, но тогда мы были по-настоящему круты.
Роль толстого "мандарина" играл Ромик Новичков. Коренастый, живой, с вечно глумливым выражением на круглой физиономии. Идеальное лицо зажравшегося феодального зла.
Помню, он дико кричал, когда восставшие крестьяне "зарезали" его за дверью класса. В этот момент я понял, что смерть за кадром действует гораздо сильнее.
Я играл вождя восстания по имени брат Чжан. На самом деле братьев было трое и они действовали по одиночке, поэтому царские войска разбили их. Но мои братья объединились перед последним сражением. Они осознали свою ошибку, забыли обиды и собирались умереть достойно. К тому моменту силы восставших были обречены, царские войска оттеснили их в болото. "Повязки" были изранены, у них кончились еда и питье. Сейчас я понимаю, что в сущности, тогда я использовал сюжетный ход "Трех поросят" – об единении семьи перед лицом инфернального зла. Но это посредственности повторяют, великие же – крадут.
Я тогда не знал этой мудрости, но крал, не стесняясь.
В спектакле участвовали все мальчишки, кроме двух. Все хотели быть "желтыми повязками". И даже одна девчонка (забыл кто. Ленка Полуэктова?). Мы сняли пиджаки, закатали рукава рубашек и повязали головы пионерскими галстуками. Я объяснил, как это будет, и начал распределять роли. И тут выяснилась первая проблема. Все хотели быть братьями Чжан, а просто восставшими рабами – никто. Я почувствовал головокружение. Земля уходила у меня из-под ног. Мой стройный сценарий на глазах превращался в 羊屎 (козий помет, кит.). Героическим усилием я предположил, что братьев Чжан на самом деле было не три, а больше. Просто о некоторых история умалчивает. Поэтому мы все стали братьями Чжан. И даже одной сестрой Чжан (Полуэктова, ты?).
Это было настоящее семейное восстание.
Один из братьев был ранен, поэтому своей повязкой он подвязал руку. Другого брата ранили в живот, он лежал на парте и время от времени стонал. "Держись, брат Чжан", говорили ему.
У одного из пацанов галстука не было, поэтому он был брат Чжан, Потерявший-Повязку-в-Бою.
В спектакле по плану было три акта. Первый акт – я, как главный брат Чжан, произношу речь, о том, в какой 兩廂山羊 (задняя часть козы, кит.) оказалось восстание и почему. Второй акт – прибывает посланник императора и предлагает нам сдаться. Мы гордо посылаем его к истокам Янцзы. Посланник уходит. Акт третий – Мы готовимся к смерти, прощаемся друг с другом и ждем смерти. Я говорю: вот так и закончилось восстание Желтых повязок. Аплодисменты.
Начали. Речь я отбарабанил без запинки – у меня тогда была идеальная память. Начался второй акт…
К нам прибыл Толстый Мандарин, которого играл Ромик. Это у китайцев так называются чиновники, но мне всегда представлялось что-то круглое и оранжевое. Явно зажравшееся, но с запахом Нового Года. Возможно, это и есть обаяние зла.
– Крыса, не имеющая совести и пожирающая чужой хлеб! – сказал я. Эта фраза из учебника поразила мое воображение, поэтому, кажется, я использовал ее дважды. – Зачем ты явился сюда?
– Привет, жалкие мятежники! – заговорил Толстый Мандарин, нагло усмехаясь. – Меня послал великий император Хань! Он предлагает вам жизнь, жалкие черви!
– Чего хочет император?
– Вы… – после подвига с "Хань" Ромик вдруг начал терять слова и мучительно пытался их найти. – …окружены. Вы все… умрете в этом болоте! Сдавайтесь, ничтожные рабы! Бросайте оружие!
– Передай императору, мы не сдадимся, – отрезал я. Как настоящий революционный вождь. Правда звенела в каждом звуке моего голоса. Правда и вера в великое светлое будущее китайского трудового народа.
– Мы не сдадимся! – дружно повторили остальные братья Чжан. Они тоже верили.
– Сдавайтесь! – сказал Ромик.
– Не сдадимся! – ответили братья.
– А я говорю: сдавайтесь!
– Нет!
– Да!
– Уходи отсюда! – сказала сестра Чжан (Полуэктова?).
– Сама уходи! – огрызнулся Ромик.
Я чувствовал, что история закольцовывается и начинает пожирать саму себя. Нужно было спасать спектакль. Кажется, Ромик забыл, что должен был уйти сразу после ультиматума и дать нам героически умереть. Что делать?! На мгновение у меня снова закружилась голова, но я взял себя в руки.
– Зарезать этого толстопузого! – приказал я с истинно революционным пафосом. И показал на дверь. – Выведите его отсюда и убейте. Я не хочу видеть смерть этой собаки!
Потрясенная тишина. Тяжелораненый брат Чжан от удивления перестал стонать. Рустик Нуриев и еще один мальчишка подхватили мандарина под руки и потащили к двери.
– Нет, брат Чжан! – хныкал трусливый Мандарин. Ромик всегда быстро соображал. – Не надо, нет! Пожалуйста! Я не хочу умирать!!
Его вытащили за дверь.
Дверь закрылась.
В следующее мгновение дикий вопль разорвал тишину. Девчонки-зрительницы вздрогнули и начали переглядываться.
– Так будет с каждым угнетателем трудового народа, – веско сказал я. – Конец.
Аплодисменты. Дверь распахнулась.
– Что здесь происходит?! – раздался возмущенный голос. Наша классная аж привстала.
Ромка умирал так громко и выразительно, что на крик прибежал наряд дежурных с красными повязками на рукавах и какая-то учительница с изменившимся лицом. А потом пришла завуч.
Так закончилось восстание желтых повязок.
12. Атомная тень
Мое советское детство прошло в тени ядерной войны – и это была настоящая жуть. Детство было замечательное, всем бы такое – но я всегда, даже в самой веселой игре чувствовал затылком черное ядерное облако. Где-то там, высоко над горизонтом. Мы, советские дети, всегда знали: человечество от самоубийства отделяют каких-то полчаса – пока летят ракеты. С началом Перестройки и разоружения, дружбы с Америкой и прочего – это облако исчезло, давление на затылок ушло, и я вздохнул спокойно. Это удивительное чувство легкости, не передать. Я словно летать начал, хотя шли опасные и безумные 90е. Мне уже больше не снились ядерные сны, похожие на кадры из "Писем мертвого человека". Пыль, тьма, противогазы и ветер.
А сейчас это облако возвращается. И что-то мне совсем не радостно.
13. Рядовой
Овчинников Никита Петрович.
Родился в 1905 году на Урале, в деревне Сухая Речка. Мой прадед по отцовской линии.
Я бы очень хотел написать, что мой прадед был добровольцем, одним из первых подавшим заявление в Первый Уральский Добровольческий танковый корпус, прозванный немцами "Дивизией черных ножей" за клинки с черными рукоятками и бесстрашие. Как прошел с боями до Берлина. Как стал гвардейцем, получил из рук маршала Жукова "Орден славы" и как на броню его Т-34 женщины освобожденной Европы бросали букеты цветов… Как закончил войну майором или полковником. Как вернулся домой, красавец, увешанный медалями, и прабабушка бросилась ему на грудь, рыдая от счастья.
Я бы хотел.
Но правда такова, что мой прадед был призван в армию в первые дни войны.
И погиб примерно через месяц или полтора, в конце сентября, начале октября 1941 года.
Рядовым.
Умер от ран, написано в похоронке.
Похоронен в братской могиле в деревне Моисеевичи Валдайского района Новгородской области.
Точная дата смерти неизвестна. Мой прадед один из нескольких солдат и сержантов в этой могиле, у которых дата смерти не установлена. Похоже, в деревне был полевой госпиталь, потому что у всех в этом списке стоит причина смерти "умер от ран".
Именно поэтому я думаю, что это был сентябрь-октябрь 1941. Первые даты смертей – у тех, у кого дата стоит – приходятся на конец сентября. И как раз к концу сентября фронт откатился к этому рубежу.
Полная неразбериха первых месяцев войны привела к тому, что некоторые смерти не были толком зафиксированы.
У меня нет ни одной фотографии прадеда.
Я даже не видел ни одной его фотографии.
34 армия на этом рубеже стояла полтора года, до начала 1943 года. Сначала была Демянская оборонительная операция, затем Демянская наступательная… Но в общем и целом до начала 1943 года фронт топтался здесь примерно на одном месте.
Еще до войны дед сказал детям: война скоро будет. Меня сразу заберут в армию. Надо ехать в деревню, там вам будет легче пережить войну.
Был 1940. И они поехали из Кунгура, где прадед заведовал конюшней, в деревню Полетаево.
Бабушка рассказывала: в деревне дети бегали и кричали "богачи едут"! Потому что две телеги с вещами и лошади везут.
Колхоз был тогда богатый, знатный. Потом его объединили с несколькими захудалыми колхозами и стал колхоз очень бедный. Но ничего, прадед оказался прав… Ели все, собирали зерна, выпавшие из колосьев, варили ботву, копали мерзлую картошку с убранных полей. Выжили.
Отец рассказывал мне, что прадед вел дневник. Каждый день мелким аккуратным почерком записывал в толстую тетрадь все, что произошло за день. У него была целая гора этих тетрадей.
Ни осталось ничего.
Ни клочка бумаги.
Дорого бы я дал, чтобы прочитать одну из этих тетрадей.
Уверен – прадед до последней минуты был достойным человеком. Дед Никита.
14. Танкист
Овчинников Георгий Никитич (2 мая 1928 – 26 февраля 2014). Мой дед Гоша.
Сержант, командир танка Т-34-85.
Годы службы 1949-1953, Австрия-Венгрия

Он вспомнил, как работал на военном заводе в Закамске после войны. Барак 117, отряд 4. Они все ходили в коротких папахах – это был шик, заводской, последний. Лихие чубы, молодые лица – с черными кругами недосыпа под глазами. ФЗО был не лучше тюрьмы, он фактически и был тюрьмой. Режим, надзиратели, пайки. Уйти было нельзя. Два с половиной года – и работа, работа, работа с утра до вечера. Вечером чтение книг и смех ребят. Песни под гармошку. Молодые – даже изматывающая, по много часов работа, не могла этого из них выбить. А в субботу – танцы. Играй, гармонь. Играй. Короткий отпуск домой, в деревню, словно глоток морозного воздуха, когда душно, накурено, а ты выскакиваешь во двор – и ловишь ртом.Когда с завода разрешили уходить – нет, не на вольные хлеба, не домой, в деревню, а – в армию, Георгий записался одним из первых. Первым. Военкомат, распределительный пункт, покупатели. Бершеть, танковое училище. Рычаг на себя, рычаг от себя. Поехали!Семьдесят кило нужно приложить, чтобы повернуть Т-34. На десять кило больше, чем он тогда весил. И коленом рычаг – н-на.
А сколько этих поворотов нужно сделать, чтобы добраться из пункта А в пункт Б? Сотни. К финалу стокилометрового дневного марша от механика-водителя остаются только глаза, да слой копоти на роже. По пять-семь кило сбрасывали, комбинезон мокрый насквозь.
Кажется, легче танк на своей спине дотащить.
Вылезти из люка сил нет, встаешь – шатает. Некоторых механиков остальной экипаж вытаскивал на руках, те уже в беспамятстве были. Танк секунду назад остановился, а ты уже не здесь. Ты умер.
Сил нет даже спать. А надо бы еще поесть, иначе силы и не восстановятся.
Да, даже в деревне Георгий так не упахивался, как будучи танкистом.
А танкистом – никогда так, как на заводе, за четырнадцатичасовую смену у станка.
И тягаешь эти огромные дуры в сорок кило, снаряды, голыми руками. Поднимаешь и грузишь, ставишь и тягаешь…
Лучше быть танкистом.
===
***ФЗО (школа Фабрично-заводского обучения)
15. Связист
Я родился благодаря советской армии.
Кунгур. После школы отец закончил техникум по разделу "связь и радиотехника". Что соответствует очень нужной воинской специальности. В военкомате отца и его одногруппников обозвали "спецнабором" и сказали, что служить они пойдут только в связь. Готовьтесь, оболтусы. И хватит там ржать в коридоре, здесь все слышно.
И вот приходит осень 1975 года. Призыв.
Бабушка:
"Провожали Славку в армию, всем двором пировали. Весело было! Гармошка, бражка. Отплясали, уехал он служить. А через месяц соседский мальчишка прибегает, кричит: там ваш Славка идет! Как так-то? У меня аж сердце екнуло. Выскакиваю на улицу. А он выруливает себе из-за угла – стриженый налысо и лыбится".
Оказалось, весь их набор разобрали, а на него не нашлось покупателя. Двух краснодипломников взяли, а его с синим оставили. Отец взмолился: я тут уже месяц сижу, время теряю, давайте меня по обычному разряду? В свойственной отцу реактивной манере он тут же договорился с хорошим "покупателем" старлеем – ехать служить в теплый край, под Краснодар, к летчикам. Самолеты – это романтично. Старлей ушел к начальству, возвращается… "Не положено по обычному", пожимает плечами, "Извини, парень".
В общем, отправили отца домой до следующего призыва.
– Ладно, – сказал дед, почесав затылок под беретом. – В армию тебя, оболтуса, не взяли. Тогда женись.
Сыграли свадьбу. Отец с мамой еще в техникуме встречались, а тут такой повод. В следующем году отца все-таки забрали в армию. Как спеца связиста, отправили в учебку, затем на запасной командный пункт где-то в Уральских горах. Они там сидели под землей и ходили все, генералы и рядовые, кадровые и срочники, в серых комбинезонах без знаков различия – чтобы враг не догадался. А однажды их командный пункт учебным штурмом взял отряд спецназа… Впрочем, это уже другая история. Отец, опять с кем-то договорившись, звонил домой по секретной линии и громко смеялся в трубку.
Бабушка:
"Телефон был только у соседки. Она прибегала: Галька, твой Славка звонит! Мы с Людой бегом."
А еще через месяц отец приехал в отпуск. Потому что родился я.
Бабушка смеется:
"Первый раз забрали – через месяц вернулся, нате! Второй раз забрали, через два месяца пришел. Че ему в армии не сиделось-то?"
=======
Мой отец (на фото справа) с сослуживцем. Войска связи 1977 год:








