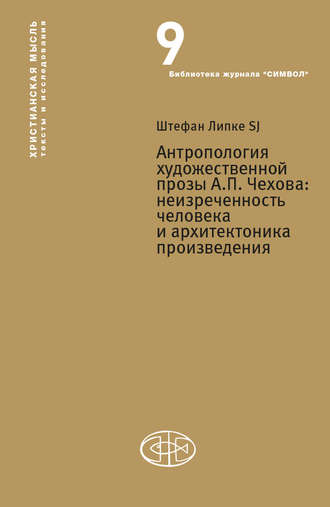
Штефан Липке SJ
Антропология художественной прозы А. П. Чехова. Неизреченность человека и архитектоника произведения
© Институт св. Фомы, 2019
Предисловие
Антропология давно находится в центре моих интересов. В начале это была, в первую очередь, философская антропология средневековых схоластов, а в дальнейшем – экзистенциализма и феноменологии. Помимо того, особую роль для меня играет критика идеологий, выдвинутая Т.В. Адорно и Э. Левинасом, т. к. я уверен в том, что человек не должен быть объектом априорных идеологий, да и не может быть ими постигнут, и что единственным путем к познанию человека является понимание. В этом как раз заключается, как мне кажется, сходство между подходом Чехова-медика и моим, как священника, выросшего в среде медиков и педагогов.
Настоящий труд является дополненным и обработанным вариантом кандидатской диссертации, защищенной в 2017 году в Томске под научным руководством Е.Г. Новиковой. Его ведущий вопрос можно поставить следующим образом: какова антропологическая позиция А.П. Чехова и с помощью какой поэтики он воплощает ее в своей прозе? При этом работа покажет, что это единый вопрос, ни в коем случае не два.
За то, что настоящая монография состоялась, хочу поблагодарить, помимо Е.Г. Новиковой, всех преподавателей, сотрудников и коллег «родной» кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета, а также рецензентов моей диссертации, в частности, А.Д. Степанова (Санкт-Петербург), С.А. Комарова (Тюмень) и А.Н. Кошечко (Томский государственный педагогический университет).
Введение
Вопрос «Что есть человек?» был задан еще в древности, в Псалтири (Пс 8, 5). Согласно же И. Канту, он объемлет все остальные философские вопросы[1]. Поэтому философская антропология представлена самыми различными направлениями.
Начиная с платонизма, сложилась традиция понимания человека, согласно которой духовное в нем выше телесного. Соответственно, данная традиция утверждает, что телесное начало ограничивает дух или даже пленяет его[2].
Философская школа стоиков (Чехов активно изучал труды Марка Аврелия[3]) также задается вопросом о свободе человека. Человек предстает здесь как существо, по необходимости тесно связанное с природой, но свободное принимать необходимое и, тем самым, готовое превзойти свою природу[4].
В XVII в. Р. Декарт исходил из представления о раздельном существовании телесного и духовного аспектов в человеке. Он утверждал, что под высшей единой субстанцией – Богом – есть две субстанции: протяженная и мыслящая. Две эти субстанции сосуществуют, однако между ними нет единства, поэтому в человеке наличествуют два разных начала[5]. В XVIII в. эта деконструкция человеческой личности была продолжена Д. Юмом, по мнению которого целостной человеческой личности не существует, а есть всего лишь «bundle of perceptions» («пучок восприятий»), который только по сложившейся привычке называют единым человеком, как воспринимаемым, так и воспринимающим[6]. В рамках изучения творчества Чехова важно указать также на деконструкцию образа человека в социал-дарвинизме Г. Спенсера, согласно которому человек является всего лишь животным, вовлеченным в эволюционный процесс выживания, поэтому никакие представления о гуманности для него не имеют значения[7].
Значимым фактором для антропологии времен Чехова стал также материализм, т. е. представление о том, что основным (или даже исключительным) началом в человеке является материальная сторона. Среди большого количества представителей этого направления следует назвать, прежде всего, К. Маркса, идеи которого не могли не занимать Чехова. К. Маркс утверждает, что духовное обусловлено материальным: «Не сознание людей определяет бытие, но наоборот, их социальное бытие определяет их сознание»[8].
Данный небольшой tour d'horizon показывает фон антропологии писателя и врача А.П. Чехова. Образ человека для многих его современников еще до распространения теорий З. Фрейда после 1897 г. оказался деконструированным, расчлененным между духовным и материальным началом, остро встал вопрос о свободе человека, о том, является ли он носителем особого достоинства и прав или просто частью природы.
Наша гипотеза заключается в том, что Чехов отвечает на данную ситуацию, представляя человека как многогранного, неизреченного индивида. Главным же способом выражения его неизреченности является не прямое высказывание антропологической позиции (что вполне логично), но многоуровневая архитектоника чеховского произведения.
Тем самым мы рассматриваем позицию Чехова в свете критики идеологических систем, сформулированной в ХХ в. и основанной на убеждении, что человек не должен быть объектом для другого человека. Как подчеркивал М. Бубер, человек – это всегда самостоятельное «ты», превосходящее любую оценку, обсуждение и тем более осуждение. Затем, после опыта уничтожения человека системой осуждения в нацизме, идя по стопам Э. Гуссерля, ее развили Т.В. Адорно и Э. Левинас[9]. Близок к ней и М.М. Бахтин. В его трудах проявляется своего рода антропология «диалогичности». По политическим причинам она долгое время не могла быть предъявлена мыслителем как его собственная философская концепция, но нашла свое выражение в качестве философского фона его литературоведческих исследований, в частности, о Ф.М. Достоевском[10]. М.М. Бахтин изучил и описал «диалогичность» как уважение к чужой личности (пусть даже вымышленного героя) и как невозможность окончательного определения человека, что воплотилось во взаимоотношениях между автором и героем и в самопознании персонажа[11].
Уже это показывает, что мы развиваем свою позицию в т. ч. в диалоге с философией, а также с Библией (об обоих аспектах, а также других, например, о психологии, в дальнейшем еще следует сказать подробнее). Само слово «неизреченность» вошло в русский язык, скорее всего, через переводы Библии, например, Послания к Римлянам (Рим 8, 26) и Второго послания к Коринфянам (2 Кор 9, 15). «Неизреченный» – это перевод греческого слова «алалэтос», а еще более конкретно – его латинского эквивалента «in-ef-fabilis» (не-из-сказуемый). В нашу работу термин вошел также как перевод слова «ineffabilis», но из традиции аристотелизма, в которой данное выражение первоначально относится к гносеологии. Аристотель подчеркивает, что индивидуальное, в отличие от общей закономерности, не до конца определяемо; оно не является случаем общей идеи и, соответственно, не подвергается определению или окончательному высказыванию[12]. В латинских переводах и комментариях это ведет к формулировке «individuum est ineffabile»: индивидуальное неизреченно, а затем, в дальнейшем осмыслении – индивид неизречен.
Выбор термина из традиции аристотелизма может показаться неожиданным, т. к. Чехов активнее обращался к иным философским школам: платонизму, стоицизму и толстовству. Однако к ним Чехов отнесся весьма критически, поскольку подозревал, что все философии дают общему, абстрактному учению приоритет над конкретным, в частности, над индивидуальным человеком. Именно в аристотелизме особенность конкретного уважается. Как подчеркивает Б.М. Эйхенбаум, опорой для творчества Чехова в общем (и, можно добавить, для его антропологии тем более) является медицина[13]. В своей медицинской школе Чехов научился видеть индивида в каждом человеке[14]. В связи с этим именно слово «неизреченность», связанное с традицией Аристотеля, которая отказывается подвергать индивидуальное существо определению или окончательному высказыванию, нам кажется уместным для описания образа человека у Чехова.
Необходим для нас также диалог с изучением художественной антропологии в российском литературоведении. Значим для нас, например, В.Я. Пропп, который изучил роль персонажей в фольклорном произведении; образы героев описаны здесь как характерные устойчивые типы[15]. В свою очередь, Л.Я. Гинзбург показала, как данные исходные типичные образы видоизменяются в литературе XIX в.[16]. Д.С. Лихачев, реконструируя литературный процесс древней Руси, также выдвигает на первый план проблематику образа человека[17].
Более того, и Чеховедение неоднократно обращало внимание на антропологическую позицию писателя, по крайней мере имплицитно. Современники Чехова (Н.К. Михайловский, А.М. Скабичевский, Л.Н. Толстой) резко критикуют писателя за то, что он отказывается давать ясные и однозначные ответы на нравственные или политические вопросы и, в связи с этим, на вопрос, кем является человек и кем он должен быть[18].
В дальнейшем, после 1945 г., такие литературоведы, как З.С. Паперный, воспринимают Чехова как реалиста, описывающего суровую социальную реальность своего времени, и подчеркивают человечность Чехова, его любовь к бедным, к народу[19]. Однако при этом они недооценивают его уважение к индивиду и переоценивают роль в творчестве Чехова такого понятия, как «класс». Например, З.С. Паперный говорит о «мысли об обреченности буржуазного класса», к которой, по его мнению, «все ближе подходит» Чехов к концу своей жизни[20]. В данной концепции человек является, в первую очередь, членом социума.
Переломным моментом в восприятии антропологической позиции Чехова стал 1971 г., когда была опубликована книга А.П. Чудакова «Поэтика Чехова»[21]. Существует предание о том, что исследователь заранее показал свою работу М.М. Бахтину, который предупредил его, что чиновники «будут ругать»[22]А.П. Чудакова за отказ от узкого социологизма и партийного восприятия Чехова. На самом деле позиция А.П. Чудакова и ряда его современников оказалась не только весьма необычной, но и весьма перспективной. Чехов воспринимается теперь в ключе гносеологии и критики познания, в том смысле, что люди не знают окончательных истин, особенно друг о друге. В связи с этим А.П. Чудаков оспаривает мнение З.С. Паперного о том, что Чехов различает людей в первую очередь по критерию принадлежности к определенным социальным и идеологическим группам[23]. Далее В.Б. Катаев утверждает, что писатель воспринимает и описывает человека как неопределимое существо[24]. Ключевую для антропологии Чехова тему «личной тайны» человека впервые выявил И.Н. Сухих[25]. Его позицию продолжает В.И. Тюпа, согласно которому важным качеством чеховской прозы является «художественный персонализм», поэтому необходимо исследовать художественную форму произведений для того, чтобы понять, как в них описывается личность, и что именно в человеке берет верх: познаваемый, общий характер героя или его личность, не подвергающаяся общему определению[26]. Роль человека как индивида также изучает А.Д. Степанов; для него главной темой является вопрос о человеке в общении, в частности, о препятствиях в коммуникации[27].
Англоязычные литературоведы – Э. Дж. Симмонс[28], а позже Д. Рейфильд[29] – интерпретируют творчество писателя в аспекте его биографии, тем самым устанавливая связь между личностью Чехова, его становлением, его ценностями (особенно свободой) и его художественным взглядом на героев своих произведений.
В трудах таких исследователей, как А.С. Собенников[30], И.Н. Сухих[31] и М.С. Свифт[32], изучаются интертекстуальные связи произведений писателя, в частности, их связи с текстами христианской традиции[33]. Это придает масштаб и рельефность вопросу о том, кем, по мнению Чехова, является человек в глубине своего существа, какие у него могут быть окончательные цели жизни, на что человеку стоит надеяться, в чем заключается добро и зло в его жизни.
Немецкий славист М. Фрайзе акцентирует в чеховских произведениях измерение «смысла». Герой прозы Чехова – это человек, стоящий перед развалинами своей жизни и, может быть, именно данной ситуацией и призванный к надежде[34].
Таким образом, одним из итогов более ста лет Чеховедения является то, что антропологическая позиция Чехова, столь значимая для творчества писателя, не постигается с помощью высказываний автора и не подвергается однозначному определению. Сам Чехов настаивает на том, что его художественные произведения нельзя воспринимать как «проповедь», как прямолинейное изложение его позиции. Он считает: «Было бы приятно сочетать художество с проповедью, но для меня лично это чрезвычайно трудно и почти невозможно по условиям техники»[35]. Данное высказывание, кстати говоря, указывает на то, что позиция Чехова развивается в т. ч. в диалоге (иногда и полемическом) с художественной позицией Л.Н. Толстого, так же, как и с позицией У. Шекспира, И.С. Тургенева, Ги де Мопассана и др. Но здесь остановимся на том, что Чехов относился скептически к возможностям любых философских школ найти и выразить последнюю правду о человеке, в т. ч. в художественном произведении (притче и проч.)[36]. Поэтому антропологическая позиция Чехова должна быть выявлена, исходя из художественных категорий.
В связи с этим мы видим, помимо многих достоинств, некоторые недостатки в исследованиях, посвященных эксплицитно антропологической проблематике в творчестве Чехова, в частности, в трудах И.А. Гурвича, Г. Зельге и Т.Б. Зайцевой. И.А. Гурвич исследует вопрос о «человеке и действительности». Тем самым, с одной стороны, он уже учитывает особенность человека и ставит антропологический вопрос; но, с другой стороны, человек здесь еще представлен в своем отношении к окружающей его среде, например, к быту или к идеям своего времени[37]. Г. Зельге в своем диссертационном исследовании анализирует «поэтическую антропологию» А.П. Чехова[38]. Она изначально исходит из того, что великие произведения Чехова начинаются только с повести «Степь» (1888), а также рассматривает человека Чехова только в аспекте общечеловеческих категорий. Поэтому доминирующими темами в систематически представленной Г. Зельге антропологии Чехова стали болезнь, смерть, любовь и труд[39]. В 2015 г. была защищена докторская диссертация Т.Б. Зайцевой на тему «Художественная антропология А.П. Чехова: экзистенциальный аспект (Чехов и Киркегор)»[40]. В данном исследовании подчеркивается этическая сторона человека в творчестве Чехова, а именно необходимость для человека принимать «уникальный экзистенциальный выбор»[41]. Подобно Г. Зельге, Т.Б. Зайцева обращается к «экзистенциальным категориям» в антропологии Чехова (здесь: скука, страх, отчаяние, смерть, любовь), оставляя за рамками своего исследования исторические и социальные аспекты описания человека. «Художественная антропология» Чехова в исследовании Т.Б. Зайцевой стала изучением положения человека между сферами эстетики, этики и религии, а также размышлением о художественном методе писателя. С ее точки зрения, эстетический подход человека к жизни и к себе оказывается мимолетным, религиозный же – имплицитным, но значимым[42]. Таким образом, данные исследователи описали чеховскую антропологию в аспекте общечеловеческих категорий. Нам же представляется, что человек в творчестве Чехова должен изучаться не только исходя из общечеловеческих вопросов, но и как конкретный человек, как житель России конца XIX в., современник писателя. Н.В. Капустин справедливо отмечает: так же, как у А.С. Пушкина, у Чехова отдельный аспект указывает на целое, например, на тематику «Руси» или на общечеловеческие вопросы[43].
Но еще важнее – следует идти далее, чем И.А. Гурвич, Г. Зель ге и Т.Б. Зайцева, не останавливаясь на очевидном, как это могло произойти в социологической школе советских времен, ни слишком быстро оставляя его, чтобы перейти на план символов и скрытых смыслов. Ведь именно в синтезе обоих планов заключается чеховская позиция. Соответственно, мы исходим из следующей позиции: как у человека есть скрытая и явная стороны (скажем условно – душа и тело), так и у прозы Чехова есть скрытый и явный смысл, а у самого Чехова – антропологическая позиция и ее художественное воплощение. И только в их неразделимом сочетании можно найти собственную позицию Чехова.
Как считает Андрей Белый, художественную деталь в произведении следует понимать одновременно в ключе и реализма, и символизма[44], в результате чего каждый художественный факт указывает на целостность, превосходящую любые прямолинейные и однозначные высказывания[45]. Поэтому нам кажется необходимым изучать архитектонику произведений Чехова, т. е. направленность совокупности художественных приемов разных уровней произведения на то, чтобы читатель, воспринимая его, создал его целостный смысл[46], в данном случае – чтобы у читателя сформировался образ человека. Изучение и описание художественной антропологии в творчестве Чехова должно опираться на целостный анализ художественной архитектоники каждого изучаемого произведения писателя, поскольку образу человека в чеховском творчестве всегда соответствует единое целое произведение[47].
По мнению В.И. Тюпы, чеховский образ человека создается как взаимодействие между внешней и внутренней сферами: своим поведением человек выражает себя перед окружающим его миром и влияет на него; окружающий мир, в свою очередь, отчасти определяет самоощущение человека; но это уже не окружающий мир сам по себе, а мир, воспринимаемый конкретным человеком[48]. Это обусловило выделение следующих аспектов художественной структуры прозаического произведения, выбранных для специального анализа: фабула, высказывание героя, смех и плач, атмосфера произведения, место человека в пространстве, интертекстуальные связи произведения.
Фабулу можно назвать «сцеплением» между событиями[49]; здесь – между поступками разных людей и событиями в окружающем их мире. Однако возникает вопрос, не деконструирует ли Чехов образ человека как «действующего лица» и как существа, одаренного разумом, у которого поступки и образ мышления связаны между собой. Также актуализируется вопрос, влияет ли на чеховский образ человека «пессимизм»[50], обусловленный тем, что писатель сосредоточен на социальных, экономических, психических, семейных и иных проблемах, которые люди решить неспособны[51]. В то же время отсутствие сцепления, убедительно объясняющего события, может также указать на свободу человека, которая постигается только пониманием[52].
Высказыванием может быть собственно прямая речь героя или его мысли как внутреннее высказывание, а также высказывания рассказчика о нем. Причем у Чехова все они часто противоречат друг другу, а также фабульному развитию событий[53]. Особенность организации высказываний у Чехова заключается в том, что «его внимание постоянно [привлекает] дисфункциональность знака как носителя культурной памяти»[54]. Более того, иногда фабула этически дискредитирует того, кто высказывается[55]. Возникает вопрос, действительно ли подобная «бессмысленность» высказываний подчеркивает разобщенность между людьми (как считает А.Д. Степанов[56]) или же выявляет несвязность высказываний об индивидуальном человеке и невозможность определить его (как считает В.Б. Катаев[57]).
Важным аспектом антропологии Чехова являются смех и плач. А.Д. Степанов убежден в сатирическом характере рассказов Чехова о чиновниках[58]. Углубиться в суть сатирического начала прозы Чехова мы можем с помощью философской антропологии Х. Плеснера. Ученый говорит о том, что человек, в отличие от животного, вынужден не только быть собой, но и относиться к себе[59]. При этом на некоторые ситуации человеку не дано найти правильный ответ, так что он, отказавшись от рациональных попыток, дает возможность ответить своему телу, непроизвольно смеясь или плача[60]. Например, присутствует «парадоксальность ситуации, когда человек, привычно ощущая себя центром мироздания, в то же время явно не справляется с этой ролью, предполагающей его ответственность и идентичность, и пытается от нее уклониться»[61]. Смех также может быть ответом на «эмансипацию средств», когда средства не помогают достичь целей, а наоборот загоняют человека в беспомощное положение[62]. Комизм возникает также как протест против типизации или механизации человека[63]. При этом своим смехом человек стремится поделиться с другими людьми, хочет смеяться вместе с ними[64]. Таким образом смех может вырасти до совместного протеста, вплоть до того, чтобы стать основой для бунта. Плач же является противоположенной реакцией на ситуацию, с которой человек не может справиться. Это «капитуляция» человека перед властью чего-либо над собой[65] – боли, страдания, а также изумления и трепета. Плач, по сравнению со смехом, носит более интимный, уединенный характер[66]. Важна для нашей тематики конфликта между социальной ролью человека и тем, что им движет изнутри, также теория З. Фрейда. В своем труде об остроумном анекдоте и о шутке он подчеркивает связь между (совместным) смехом и подсознательным, особенно социально неприемлемой агрессией и сексуальностью[67].
Значимое место в художественной антропологии Чехова занимает атмосфера, т. е. взаимоотношения между человеком, его внутренними переживаниями и окружающей его средой. Н.М. Фортунатов, изучая чеховские пейзажи, считает атмосферу «важнейшим элементом формообразования»[68]. В данной работе мы включаем в анализ описание самого человека (одежда, мимика и т. д.) как характеристику состояния, выражающего его отношения с миром. Здесь также возникает вопрос о смыслах и значениях взаимосвязи человека с животным и растительным миром в творчестве Чехова[69]. Наконец, важна тема красоты, присутствия в человеке эстетического начала[70] в двух направлениях: воспринимает ли человек красоту и создает ли он ее вокруг себя.
Нарративное пространство воспринимается как «протяженность диегетического мира, самим актом рассказывания отмежеванная от пространства физического»[71]. Тем самым описание пространство вносит вклад в антропологию, как в описание героя, двигающегося в нем, так и в восприятие произведения читателем. При этом в контексте настоящей работы принципиальную роль играют категории «узости» и «широты», тщательно изученные Н.Е. Разумовой[72]. Важен также вопрос Н.М. Фортунатова и А.Г. Масловой о связи пространственной организации произведения с темой человеческой свободы[73].
Согласно М. Фрайзе, важнейшую роль для чеховской антропологии играют интертекстуальные связи, т. е. самовыражение человека, ориентированное на «символический багаж» читателя[74], которое «повышает семантическую слитность текста»[75]. Данный уровень создает «экзистенциальную и через это – также культурную идентичность человека»[76]. Опираясь на М.М. Вахтина и Ю. Кристеву, мы можем сказать, что благодаря связи произведения с другими текстами возникает бесконечность диалога, в котором автор не является высшей инстанцией, а выступает одним из участников. Данные интертекстуальные связи, с одной стороны, обогащают человеческое сознание, особенно в случае связей произведения с текстами, передаваемыми из поколения в поколение, получившими множество коннотаций и вошедшими в подсознательное, например, с произведениями фольклора и священными текстами[77]. С другой стороны, как подчеркивает Ю.В. Шатин, интертекстуальные связи выполняют «критическую функцию»: с их помощью литература разоблачает обман человеческого разума языком[78], т. к. бесконечность диалога текстов друг с другом мешает человеку найти в одном из них окончательные ответы на свои вопросы.
На всех указанных здесь художественных уровнях Чехов подчеркивает приоритет образа человека над любыми «специальными» вопросами[79] и поэтому изучает, способен ли человек сделать выбор в пользу своей неизреченной индивидуальности и осуществить его. Признание в том, что «никто не знает настоящей правды» (7, 446), вырастает в образ личности, превосходящей любые определения.
При этом мы исходим из того, что по доминирующим формам и позициям можно различить пять периодов в творчестве писателя: период ранних юмористических рассказов (до 1885 г.), экспериментирования с полемикой (1886–1889 гг.), пост-сахалинский период (1891–1894 гг.), период социальной критики (1895–1899 гг.), поздний период (с 1899 г.). Произведения будут рассматриваться именно в свете данной периодизации. Мы обращаемся к вопросу о том, каким образом архитектоника чеховских произведений в каждый из этих периодов указывает на заявленную нами неизреченность индивида.



