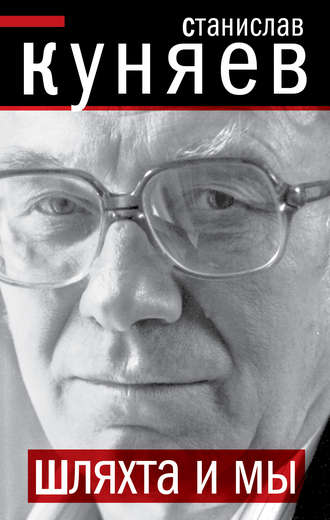
Станислав Куняев
Шляхта и мы
Является ли Пушкин русским интеллигентом?
«Польский след», начиная с курьезной истории обретения имени, проступал в моей судьбе постоянно. В 1960 году, во время моей работы в журнале «Знамя», я решил опубликовать на его страницах стихи моего тогдашнего поэтического кумира Бориса Слуцкого.
Я созвонился с ним, приехал в Балтийский переулок, где в желтом оштукатуренном доме времен первых пятилеток жил Борис Абрамович, позвонил в дверной звонок. Слуцкий открыл дверь – усатый, краснощекий, немногословный:
– Есть хотите? Я сейчас пожарю для вас яичницу, а вы пока прочитайте мои стихи и выберите для журнала все, что считаете возможным и нужным.
Я сел за стол и с благоговением начал перебирать листочки желтоватой бумаги со слепыми расплывчатыми строчками – видно, давно они были отпечатаны на плохой, изношенной машинке, да никак не шли в дело. Первое стихотворенье называлось «Польша и мы». Я как прочитал его – так запомнил наизусть и до сих пор помню.
Покуда над стихами плачут
и то возносят, то поносят,
покуда их, как деньги, прячут,
покуда их, как хлеба, просят —
до той поры не оскудело,
не отзвенело наше дело,
оно – как Польска не згинело,
хоть выдержало три раздела.
Для тех, кто на сравненья лаком,
я точности не знаю большей,
как русский стих сравнить с поляком,
поэзию родную с Польшей.
Она еще вчера бежала,
заламывая руки в страхе,
она еще вчера лежала,
быть может, на десятой плахе.
И вновь роман нахально крутит
и звонким голосом хохочет…
А то, что было, то, что будет —
про то и знать она не хочет.
Стихи о свободе восхитили меня, и весьма долгое время я ощущал их как мощную прививку вакцины вольнолюбивого полонофильства для моего духовного организма.
Да только ли для моего! Недавно я прочитал в сборнике «Поляки и русские», изданном в 2001 году в Москве на польские деньги (что немаловажно!), воспоминания поэта В. Британишского «Польша в сознании поколения оттепели»: «…вначале Польша была для нас окном в свободу… позже она была для нас окном в Европу», – пишет сам Британишский. Он же вспоминает фразу И. Бродского «Польша была нашей поэтикой». О товарищах по Ленинграду эпохи оттепели Александре Кушнере и Евгении Рейне Британишский пишет так: «Они, как и другие, боготворили Польшу, как страну Свободы, обожали фильмы Вайды…»
И естественно, что автор воспоминаний не может обойтись без признания заслуг крупнейших полонофилов военного поколения поэтов – Самойлова и Слуцкого: «Именно эти два поэта – авторы двух самых ярких и значительных поэтических текстов о Польше в нашей поэзии второй половины века… Мы повернули наши головы к Польше, которая стала для нас недостижимым идеалом свободы…»
Вспоминаю, что и я, естественно, не с такой экзальтацией и не с таким подобострастием, но любил Польшу некой «странною любовью», хотя, если обратиться к перечню имен из статьи Британишского (Слуцкий, Самойлов, Рейн, Кушнер, Бродский, Эппель, Марк Самаев – сюда бы еще добавить Горбаневскую), надо бы объяснить, почему все полонофилы тех лет – евреи и каким образом в их число попал русский человек Станислав Куняев? Ведь не только из-за истории с именем.
…Многие из нас в шестидесятые годы бредили словами «свобода» и «воля». Эти слова, как зерна, были рассыпаны в поэтических книжках тех лет. Да, настоящая поэзия должна быть именно такой! Недаром свою любимую книгу, изданную в 1966 году, я назвал «Метель заходит в город». Метель для меня была символом стихии, никому и ничему не подвластной. А Игорь Шкляревский, не мудрствуя лукаво, дал своему сборнику имя «Воля», а Вячеслав Шугаев назвал книгу прозы еще хлеще – «Вольному воля». Поэты военного поколения сразу уловили разницу нашего и их ощущения жизни. Поэт и переводчик Владимир Лившиц, прочитав мою книжицу «Метель заходит в город», прислал мне такое письмо:
«Порой берет зависть: как Вам удалось достичь такой душевной раскрепощенности, такой свободы?.. Вероятно, людям моего поколения это уже не дано. Стихов, которые меня тронули, так много, что их не перечислить. Талантливые, умные, ироничные, но главное их качество – свобода. Жизнь нет-нет да и подарит радость. Такой радостью была Ваша книга».
Вечная борьба Польши за свободу и вечное сопротивление поэзии насилию – цензуре, государству, тирании! Ну как было не восхититься стихами Слуцкого о Польше! А тут еще и наш Коля Рубцов отчеканил свою мысль о главенстве поэзии над жизнью:
И не она от нас зависит,
а мы зависим от нее!
Все это кружило нам головы и волновало сердца. Узы семьи, государства, долга, исторической необходимости – все отступало перед жаждой полной свободы – да не только по Слуцкому, а бери выше – по Пушкину! Сколько раз мы в нашем кругу, упиваясь, декламировали друг другу заветные строки:
Зачем кружится вихрь в овраге,
Подъемлет пыль и лист несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем среди лесов и пашен
Летит орел, тяжел и страшен,
На чахлый пень – спроси его!
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру, и орлу,
И сердцу девы нет закона.
Гордись, таков и ты, поэт,
И для тебя условий нет.
Часто мы даже поправляли Пушкина и вместо «условий нет» читали «закона нет», то есть возводили самоуправно диктат поэзии на вершины бытия, дерзко приравнивая поэта к Творцу.
Прочитать по-настоящему и понять национальное завещание Пушкина «Клеветникам России» нам еще предстояло.
Но вот камень преткновения: если слова из дневниковой записи Давида Самойлова «Любовь к Польше – неизбежность для русского интеллигента» справедливы, то в таком случае нельзя считать интеллигентами Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Федора Тютчева, Николая Некрасова, Петра Чаадаева, Константина Леонтьева… Русских гениев художественной жизни и истории, которые «не любили» Польшу. (А может быть, гений и интеллигенция «две вещи несовместные»?) Следом за ними стоит целый ряд людей культуры как бы второго ряда, но исповедующих те же убеждения и потому тоже «недостойных» носить почетное звание «русского интеллигента»: В. Жуковский, В. Даль, Н. Лесков, К. Аксаков, А. Хомяков, В. Кюхельбекер, историк С. М. Соловьев. Не слабо, как вы понимаете, панове. Кого же тогда, кроме Самойлова, Слуцкого, Бродского, Рейна, Кушнера и Британишского, можно ввести в сонм ордена русской интеллигенции? Неужели Польше так не повезло, что самые славные имена русской культуры были свободны от полонофильства? А кто же тогда остается в рядах интеллигенции? Одиозный Фаддей Булгарин, ревнивый товарищ Пушкина Петр Андреевич Вяземский, выродок русской жизни, перешедший в католичество Владимир Сергеевич Печерин? Наиболее серьезное имя среди них – Александр Иванович Герцен. Но и тот, по глубокому замечанию Достоевского, «не стал эмигрантом, но им родился»… Не густо. Тем более что без размышлений об особенностях полонофильства каждого из них не обойтись. А особенности эти весьма любопытны. Но перед тем как поразмыслить о каждом из них, хочу высказать одно общее соображение.
Многие русские писатели вольно или невольно сострадали малым народам, жившим на просторах Российской империи и вообще в славянских пределах. Пушкин восхищался вольнолюбием кавказских горцев:
Так буйную вольность законы теснят,
Так дикое племя под властью тоскует,
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,
Так чуждые силы его тяготят.
Лермонтов очаровал русское общество романтическими образами отрока Мцыри, Измаил-бея, Хаджи-абрека, Бэлы, Казбича. Толстой написал великую повесть о Хаджи-Мурате. Достоевский в «Дневниках писателя», Тютчев в политических стихах, Константин Леонтьев в повестях своей дипломатической жизни, Тургенев в романе «Накануне» демонстративно поддерживали греков и славян в их сопротивлении туркам, чехов в противостоянии онемечиванию, боснийских сербов в борьбе за национальное бытие с империей Габсбургов. Даже вступление России в Первую мировую войну было оправдано русским обществом необходимостью помощи сербам. И лишь одно «национально-освободительное движение» – польское – во все времена вызывало у крупнейших русских гениев неприятие. Добровольцы из России отправлялись умирать ради свободы греков в двадцатых годах XIX века, ради спасения болгар в 1887 году, русские юноши даже к бурам в Южную Африку убегали, «держали в зубах» песню «Трансваль, Трансваль, страна моя»… Но чтобы русские добровольцы во время польских восстаний сражались плечом к плечу с шляхтичами, помогая им закрепощать украинцев, белорусов, литовцев? Такого почти не было. Или не было совсем. Начало этой традиции сопротивления полонофильству было, конечно же, заложено Пушкиным в историческом письме Бенкендорфу от 1830 года:
«С радостью взялся бы я – за редакцию политического журнала… Около него соединил бы я писателей с дарованиями… Ныне, когда справедливое негодование и старая народная вражда, долго растравляемая завистью, соединила всех нас (имелись в виду близкие Пушкину писатели. – Ст. К.) против польских мятежников, озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветою… Пускай позволят нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападки иностранных газет».
Бенкендорф не предоставил поэту желанной возможности, и тогда Пушкин нашел блистательный выход из положения и написал свои великие патриотические оды «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», полные презрения к демагогам из западноевропейских парламентов:
Но вы, мутители палат,
Легкоязычные[1] витии,
Вы, черни бедственный набат,
Клеветники, враги России.
Чеслав Милош совершенно не понимает этих стихов, когда пишет, что в них «нет ничего, кроме проклятий народу, который пытается отстоять свою независимость». О польском народе в стихах Пушкина нет ни слова. И даже польский сюжет там не основной. Главный пафос стихотворенья направлен против газетных и парламентских провокаторов, против европейского интернационала, против сатанинской антанты всех антирусских сил Европы. Россия к тому времени лишь пятнадцать лет назад одолела нашествие двунадесяти европейских «языков» (вместе с польским), и вдруг они снова заговорили, заверещали, завизжали с трибун Лондона, Парижа, Вены… «Черни бедственный набат»… Слово «чернь» в польских стихах Пушкина – самое важное. Вспомним: «в угоду черни буйной». Не о Польше писал Пушкин, тем более не о польском народе. Это было бы слишком мелко. Но о Европе, которая «по отношению к России была всегда столь же невежественна., сколь и неблагодарна». Петр Чаадаев, которого и поныне многие невежественные апологеты Запада (да кое-кто из наших неумных патриотов) считают чуть ли не русофобом, 18 сентября 1831 года написал Пушкину в письме из Москвы:
«Я только что увидал два важных стихотворения. Мой друг, никогда еще вы не доставляли мне такого удовольствия. Вот, наконец, вы – национальный поэт… Не могу выразить вам того удовлетворения, которое вы заставили меня испытать… Стихотворение к врагам России в особенности изумительно, это я говорю вам. В нем больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет… Не все держатся здесь моего взгляда, это вы, вероятно, и сами подозреваете: но пусть их говорят, а мы пойдем вперед… Мне хочется сказать: вот, наконец, явился наш Дант… А если еще вспомнить, что Пушкин предпринял немало усилий, чтобы его младший брат Лев был зачислен в полк, сражающийся с польскими мятежниками, и если прочитать слова, написанные им в 1834 году о московских полонофилах:
«Грустно было слышать толки московского общества во время последнего польского возмущения. Гадко было видеть бездушного читателя французских газет».
Пушкин был прав, утверждая, что восставшая в 1830 году шляхта открыто призывала Европу к очередному крестовому походу на Россию, изображая при этом себя защитницей общеевропейских интересов. В манифесте польского сейма от 6.12.1830 г. цели восстания были сформулированы людьми, несомненно страдавшими манией величия: «…не допустить до Европы дикой орды Севера… Защитить права европейских народов…»
Через тридцать с лишним лет во время польского восстания 1863 года немецкий историк Ф. Смит жестоко высмеет маниакальные идеи авторов манифеста: «Не говоря уже о крайней самонадеянности., с которою четыре миллиона людей брали на себя покровительство 160 миллионов, поляки хотели еще уверить, что предприняли свою революцию за Австрию и Пруссию, дабы «служить им оплотом против России».
* * *
Ну, а что же наши полонофилы – Герцен, Вяземский, Печерин, буйный авантюрист Бакунин? Сразу надо сказать, что их обобщенный образ воссоздал тот же Александр Пушкин, видимо, уяснив для себя, что это задача исторической важности. Известный пушкинист С. М. Бонди в свое время по плохо сохранившемуся тексту реставрировал одно из посмертно обретших жизнь стихотворений Пушкина о типе русского интеллигента-полонофила:
Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды чистый лик увидел.
И нежно чуждые народы возлюбил
И мудро свой возненавидел.
Когда безмолвная Варшава поднялась
И ярым бунтом опьянела,
И смертная борьба меж нами началась
При клике «Польска не згинела!»,
Ты руки потирал от наших неудач,
С лукавым смехом слушал вести,
Когда разбитые полки бежали вскачь
И гибло знамя нашей чести.
Когда ж Варшавы бунт раздавленный лежал
Во прахе, пламени и в дыме,
Поникнул ты главой и горько возрыдал,
Как жид о Иерусалиме.
Кто персонаж этого стихотворенья? Конечно же, не только московский либерал-полонофил Г. А. Римский-Корсаков, возможный его прототип. Но и русофоб В. Печерин, и в какой-то степени Герцен, а в наше время он принимает черты то ли Бродского, то ли Бабицкого, то ли какого-нибудь совершенно ничтожного Альфреда Коха… Вот что значит пророческое стихотворенье, написанное на века! Все они до сих пор «руки потирают от наших неудач».
Но забавно то, что в полонофильстве современников Пушкина живет и делает это полонофильство смешным глубокое противоречие: сочувствуя Польше в ее отчаянной борьбе с самодержавием, с наслаждением предавая русские национальные интересы ради интересов прогрессивной Европы и ее шляхетского форпоста, каждый из них тем не менее, когда ближе знакомился с конкретными представителями шляхты, приходил в недоумение, а то и в ужас от крайностей польского национального характера – высокомерного, экзальтированного, истерического. И каждый из них рано или поздно приходил к выводу, что именно в этом характере заключены все прошлые, настоящие и будущие беды Польши.
На что уж Герцен всю свою политическую и литературную репутацию бросил на польскую чашу весов во время восстания 1863 года, призывая русских офицеров в своем «Колоколе» объединиться с поляками против царизма в борьбе «за нашу и вашу свободу», – и то в конце концов не выдержал и написал в «Былом и думах»:
«У поляков католицизм развил ту мистическую экзальтацию, которая постоянно их поддерживает в мире призрачном… Мессианизм вскружил голову сотням поляков и самому Мицкевичу».
А князь Петр Андреевич Вяземский? Он и служебную карьеру начал в Варшаве в 1819–1821 годах, присутствовал при открытии первого сейма, переводил шляхте и магнатам речь Александра Первого, был против введения войск в Польшу во время восстания 1830 года, называл великие стихи Пушкина «Клеветникам России» шинельной одой, но потом с разочарованием признался в дневнике: «Как поляки ни безмозглы, но все же нельзя вообразить, чтобы целый народ шел на вольную смерть, на неминуемую гибель… Наполеон закабалил их двумя, тремя фразами… Что же сделал он для Польши? Обратил к ней несколько военных мадригалов в своих прокламациях, роздал ей несколько крестов Почетного Легиона, купленных ею потоками польской крови. Вот и все. Но Мицкевич, как заметили мы прежде, был уже омрачен, оморочен… Польская эмиграция овладела им, овладел и театральный либерализм, то есть лживый и бесплодный…»
Но наиболее крутая и поучительная эволюция по отношению к Польше и к Западу вообще произошла на протяжении жизни с одним из самых отпетых русофобов в нашей истории – с Владимиром Печериным. Он, конечно же, представлял собой клинический тип русского человека, которому никакие диссиденты нашего времени – ни Андрей Синявский, ни генерал Григоренко, ни даже Солженицын – в подметки не годятся. Вспоминая в своей поздней и единственной книге «Замогильные записки» о юности на юге России, в семье своего отца, поручика Ярославского пехотного полка, участника войны с Наполеоном, Владимир Печерин писал:
«Полковник Пестель был нашим близким соседом. Его просто обожали. Он был идолом 2-й армии. Из нашего и других полков офицеры беспрестанно просили о переводе в полк к Пестелю. «Там свобода! Там благородство! Там честь!» Кессман и Сверчевский имели ко мне неограниченное доверие. Они без малейшей застенчивости обсуждали передо мной планы восстания, и как легко было бы, например, арестовать моего отца и завладеть городом и пр. Я все слушал, все знал; на все был готов: мне кажется, я пошел бы за ними в огонь и воду…»
Кессман был учителем юноши Печерина, учил его европейским языкам. Отставной поручик Сверчевский занимал пост липовецкого городничего в городке, где стоял Ярославский пехотный полк. Оба – из поляков. Кессман покончил жизнь самоубийством еще до декабрьского восстания, Сверчевский, как один из бунтовщиков, был во время польского восстания 1831 года расстрелян отцом автора «Замогильных записок» майором Печериным. Но речь не о них, речь о национально-политической шизофрении, охватившей в начале 20-х годов XIX века часть дворянской интеллигенции. Насколько она, эта шизофрения, была глубока, свидетельствуют некоторые записи Печерина из его мемуаров:
«Я добровольно покинул Россию ради служения революционной идее и, таким образом, явился первым русским политическим эмигрантом XIX века».
«Я никогда не был и не буду верноподданным. Я живо сочувствую геройским подвигам и страданиям католического духовенства в Польше».
«В припадке этого байронизма я написал в Берлине эти безумные строки:
Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирную десницу возрожденья!
Не осуждайте меня, но войдите, вдумайтесь, вчувствуйтесь в мое положение!»
«Таков был дух нашего времени или по крайней мере нашего кружка; совершенное презрение ко всему русскому и рабское поклонение всему французскому, начиная с палаты депутатов и кончая Jar din Mabile-м!» [2]
Национальная шизофрения «первого русского политэмигранта XIX века» принимала поистине комические формы. Скитаясь в нищете по Франции, живя жизнью, если говорить современным языком, бомжа, он обменял свои хорошие штаны у хозяйки дома, где остановился на ночлег, на старые заплатанные штаны ее супруга, чтобы получить в добавку скромный ужин: «Чтобы возбудить ее сожаление, я сказал: – Я бедный польский эмигрант». А тогда ими была наводнена вся Европа. С одним из таких настоящих «бедных польских эмигрантов» Печерин вскоре встретился и вот какое впечатление вынес от этой встречи: «Потоцкий был самый идеал польского шляхтича: долговязый, худощавый, бледный, белобрысый, с длинными повисшими усами, с физиономией Костюшки. Он, как и все поляки, получал от бельгийского правительства один франк в день и этим довольствовался и решительно ничего не делал: или лежал, развалившись на постели, или бродил по городу… У Потоцкого была еще другая черта славянской или, может быть, преимущественно польской натуры: непомерное хвастовство».
Не напоминает ли эта жизнь в чужой стране на «вэлфере» страницы из мемуаров Немоевского о быте польской колонии на берегах Белого озера в XVII веке? Действительно, национальный тип «идеального шляхтича» не то что с годами, а с веками не меняется в польской истории. А вот наш родной русоненавистник Печерин все-таки за несколько десятилетий скитальческой жизни по Европе кое-что понял. Особенно после перехода в католичество.
«Из шпионствующей России попасть в римский монастырь – это просто из огня в полымя. Последние слова генерала (епископа-иезуита. – Ст. К) ко мне были: «Вы откровенный человек». В устах генерала это было самое жестокое порицание: «Вы человек ни к чему не пригодный».
Как в этой сцене кратко и выпукло определена пропасть между западноевропейским типом человека-прагматика, человека-лицемера, иезуита, живущего по правилу «цель оправдывает средства», и русского простодушного диссидента, русофоба по глупости, горестно прозревающего от уроков жизни, которые преподает ему высокомерная и лицемерная Европа!
«Католическая церковь есть отличная школа ненависти!» – восклицает в отчаянье Печерин, бежавший из России от родного, «нецивилизованного», простонародного православия.
А заключительный приговор Европе и католичеству, вырвавшийся из уст несчастного западника и полонофила, поистине трагичен. Сколько он ни боролся в себе с русской сутью – ничего у него не получилось:
«Самый подлейший (обратите внимание на «гоголевский» эпитет! – Cm. К) русский чиновник, сам Чичиков никогда так не льстил, не подличая, как эти монахи перед кардиналами. А в Риме и подавно мне дышать было невозможно: там самое сосредоточие пошлейшего честолюбия. Вместо святой церкви я нашел там придворную жизнь в ее гнуснейшем виде».
И не случайно, что в этом отчаянном покаянии Печерина возникает Гоголь с чиновниками из «Мертвых душ», с Чичиковым, которые после жизни в Европе уже не кажутся ему, как в молодости, рабами и подлецами. Он уже почти любит их, потому что с ним произошло то, что происходит с русскими людьми на закате жизни. И слова Печерина «самый подлейший русский чиновник» – вольно или невольно залетели в его покаянную исповедь тоже из Гоголя, из «Тараса Бульбы»:
«Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело».
Где похоронен наш незадачливый католик, не знает никто, и как тут еще раз не вспомнить рядом с Печериным Андрия Бульбу и вещие слова старого Тараса: «Так продать веру? Продать своих?»
Кстати, в конце жизни Печерин, вынужденный в Ирландском католическом монастыре бороться с протестантизмом, поступил по-русски: публично сжег на городской площади протестантскую библию. Его судили, но, махнув рукой, судьи простили его, как русского человека, не отвечающего за свои поступки.
Интересно то, что полонофильские «Замогильные записки» Печерина вышли с предисловием «пламенного революционера» Л. Б. Каменева (Розенфельда) в 1932 году, когда польская пропаганда эпохи Пилсудского уже вовсю осваивала антирусскую и антисоветскую риторику, а в СССР идея патриотизма (русского и советского) еще не сформировалась.
Любопытные свидетельства о шляхетском национальном характере оставил Фаддей Булгарин. С легкой руки Пушкина, заклеймившего Фаддея беспощадными эпиграммами, исследователи пушкинской эпохи относились к нему несерьезно. А зря. Человек он был незаурядный. Его предки по материнской линии – бояре из Великого княжества Литовского, мать из знатного рода Бучинских. Родился он в Минском воеводстве, его отец, приехавший в Россию с Балкан, был тоже из знати – то ли албанской, то ли болгарской. Отсюда и фамилия Фаддея, которого на самом деле звали Тадеуш. Он был своеобразным кондотьером, наемником, солдатом удачи той эпохи. Вместе с Наполеоном и отрядами польской шляхты ходил на Пиренеи усмирять восставших против Бонапарта испанцев, потом с конницей Понятовского шел в составе наполеоновских войск на Москву, потом продал свою шпагу русскому правительству и занялся литературой и журналистикой. Понятно, почему его не терпел Пушкин. Но ясно и другое: поляков, будучи сам полуполяком и выросшим среди них – был вхож в дома Радзивиллов, Чарторыйских, Потоцких, – Булгарин знал, как никто другой. И вот что он писал о польской жизни:
«В Польше искони веков толковали о вольности и равенстве, которыми на деле не пользовался никто, только богатые паны были совершенно независимы от всех властей, но это была не вольность, а своеволие»… «Мелкая шляхта, буйная и непросвещенная, находилась всегда в полной зависимости у каждого, кто кормил и поил ее, и даже поступала в самые низкие должности у панов и богатой шляхты, и терпеливо переносила побои, – с тем условием, чтобы быть битыми не на голой земле, а на ковре, презирая, однако же, из глупой гордости занятие торговлей и ремеслами, как неприличное шляхетскому званию. Поселяне были вообще угнетены, а в Литве и Белоруссии положение их было гораздо хуже негров…»
«Крестьяне в Литве, в Волынии, в Подолии, если не были принуждены силой к вооружению, оставались равнодушными зрителями происшествий и большей частью даже желали успеха русским, из ненависти к своим панам, чуждым им по языку и по вере».
«Поляки народ пылкий и вообще легковерный, с пламенным воображением. Патриотические мечтания составляли его поэзию – и Франция была в то время Олимпом, а Наполеон божеством этой поэзии. Наполеон хорошо понял свое положение и весьма искусно им воспользовался. Он дал полякам блистательные игрушки: славу и надежду – и они заплатили ему за это своею кровью и имуществом».
Вот такими были наши «разочарованные полонофилы»… Трудно было шляхте найти в них настоящих союзников.
А что касается «мистической экзальтации», «католического мессианизма», «театрального либерализма», о котором вспоминали даже наши полонофилы, то я впервые задумался об этой черте польского характера, когда в 1964 году в одном из краковских костелов увидел молящуюся женщину. Она буквально растворилась в экзальтированной молитве, словно бы желая в непроизвольных движениях слиться с каменными плитами костела, глаза ее были подернуты белесой пленкой, бледные пересохшие уста ее лихорадочно то и дело вдыхали и выдыхали воздух костела, насыщенный сухими запахами известняка и лака, которым были покрыты тускло поблескивавшие ряды деревянных кресел и статуй католических святых.
Может быть, время, а может, война
женщину в темном платке истрепала,
не потому ли так сладко она
к каменным плитам костела припала?
. . . . . . . . . .
Что ж, органист, забывайся, играй,
вечность клубится под сводами храма,
пусть расплеснется она через край
из сладострастной утробы органа.
Это стихи написаны во время моей первой поездки в Польшу. Сейчас я понимаю, что, повторив два раза одно и то же слово «сладко», «сладострастная утроба» – я, глядя на истово молящуюся женщину, может быть, случайно прикоснулся к одной из болезненных тайн католицизма, о которых с поразительной проницательностью писал в «Очерках античного символизма и мифологии» русский философ А. Ф. Лосев. Простите меня за длинную цитату из Лосева, но лучше него об этой тайне не скажешь.
«Но ярче всего и соблазнительнее всего – это молитвенная практика католицизма. Мистик-платоник, как и византийский монах (ведь оба они, по преимуществу, греки) на высоте умной молитвы сидят спокойно, погрузившись в себя, причем плоть как бы перестает действовать в них., и ничто не шелохнется ни в них, ни вокруг них (для их сознания). Подвижник отсутствует сам для себя; он существует только для славы Божией. Но посмотрите., что делается в католичестве. Соблазненность и прельщенность плотью приводит к тому, что Дух Святой является блаженной Анджеле и нашептывает ей такие влюбленные речи: «Дочь Моя сладостная Мне., дочь Моя храм Мой, дочь Моя услаждение Мое, люби Меня, ибо очень люблю Я тебя, много больше, чем ты любишь Меня»[3]. Святая находится в сладкой истоме, не может найти себе места от любовных томлений. А Возлюбленный все является и является и все больше и больше разжигает ее тело, ее сердце, ее кровь. Крест Христов представляется ей брачным ложем. Она сама через это входит в Бога: «И виделось мне, что нахожусь я в середине Троицы…» Она просит Христа показать ей хоть одну часть тела, распятого на кресте; и вот Он показывает ей… шею. «И тогда явил Он мне Свою шею и руки. Тотчас же прежняя печаль моя превратилась в такую радость и столь отличную от других радостей, что ничего и не видела и не чувствовала, кроме этого. Красота же шеи Его была такова, что невыразимо это. И тогда разумела я, что красота эта исходит от Божественности Его. Он же не являл мне ничего, кроме шеи этой, прекраснейшей и сладчайшей. И не умею сравнить этой красоты с чем-нибудь, ни с каким-нибудь существующим в мире цветом, а только со светом тела Христова, которое вижу я иногда, когда возносят его»… Что может быть более противоположно византийско-московскому суровому и целомудренному подвижничеству, как не эти постоянные кощунственные заявления: «Душа моя была прията в несотворенный свет и вознесена»… эти страстные взирания на крест Христов, на раны Христа и на отдельные члены Его тела, это насильственное вызывание кровавых пятен на собственном теле и т. д. и т. д.? В довершение всего Христос обнимает Анджелу рукою, которая пригвождена была ко кресту… а она, вся исходя от томления, муки и счастья, говорит: «Иногда от теснейшего этого объятия кажется душе, что входит она в бок Христов. И ту радость, которую приемлет она там, и озарение рассказать невозможно. Ведь так они велики, что иногда не могла я стоять на ногах, но лежала, и отымался у меня язык… И лежала я, и отнялись у меня язык и члены тела»[4].
Это, конечно, не молитва и не общение с Богом. Это – очень сильные галлюцинации на почве истерии, т. е. прелесть. И всех этих истериков, которым является Богородица и кормит их своими сосцами; всех этих истеричек, у которых при явлении Христа сладостный огонь проходит по всему телу и, между прочим, сокращается маточная мускулатура; весь этот бедлам эротомании, бесовской гордости и сатанизма – можно, конечно, только анафематствовать, вместе с Filioque, лежащим у католиков в основе каждого догмата и в основе их внутреннего устроения и молитвенной практики. В молитве опытно ощущается вся неправда католицизма. По учению православных подвижников, молитва, идущая с языка в сердце, никак не должна спускаться ниже сердца.
Православная молитва пребывает в верхней части сердца, не ниже. Молитвенным и аскетическим опытом дознано на Востоке, что привитие молитвы в каком-нибудь другом месте организма всегда есть результат прелестного состояния. Католическая эротомания связана, по-видимому, с насильственным возбуждением и разгорячением нижней части сердца. «Старающийся привести в движение и разгорячить нижнюю часть сердца приводит в движение силу вожделения, которая, по близости к ней половых органов и по свойству своему, приводит в движение эти части. Невежественному употреблению вещественного пособия последует сильнейшее разжжение плотского вожделения. /<^-кое странное явление! По-видимому, подвижник занимается молитвою, а занятие порождает похотение, которое должно бы умерщвляться занятием» [5] Это кровяное разжжение вообще характерно для всякого мистического сектантства. Бушующая кровь приводит к самым невероятным телодвижениям, которые в католичестве еще кое-как сдерживаются общецерковной дисциплиной, но которые в сектантстве достигают невероятных форм».





