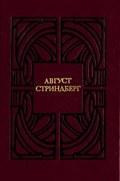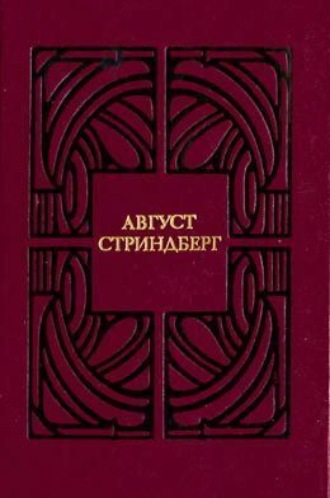
Август Юхан Стриндберг
Последний выстрел
В один из последних дней октября года тысяча шестьсот сорок восьмого на улицах маленького городка Линдау на Боденском озере царило великое оживление. Эта швабская Венеция, плавающая на трех островах у баварских берегов, вот уже долгое время была осаждена шведским фельдмаршалом Врангелем, который в последнее время выступал в союзе с французами, а в данную пору стоял укрепленным лагерем на холме возле селения Эшах. Переговоры о прекращении огня, длившиеся четыре года, не привели, однако, к перемирию, но штурм Праги Кенигсмарком ускорил переговоры в Оснабрюке и Мюнстере, и слухи о скором замирении уже достигли Швабии.
Линдау терпел ужасы осады уже несколько месяцев; и вот на исходе вышеуказанного дня, после того как пушечная пальба из Эшаха прекратилась, бургомистр воротился из своего тайного убежища в Брегенце и, коль скоро ратуша была разрушена, отправился на постоялый двор «Zur Krone» [1] в надежде встретить кого-нибудь из знакомых, кто не был бы в тот момент у крепостных стен. Не найдя на постоялом дворе ни души, он в довольно удрученном расположении духа вышел на террасу поглядеть на город и попытаться разгадать, что замышляет швед в лагере на другом берегу.
Блестящая гладь Боденского озера отражала снежные вершины Хое-Сентиса, высящиеся над Санкт-Галленом, на западе виднелись дымчато-синие, словно вечерние облака, леса Шварцвальда, а на юге меж Форарльбергом и Ретиконом извивался Рейн, покуда его желтые от глины струи не сливались с сине-зелеными волнами озера. Однако бургомистру сейчас было не до этих красот; последние восемь дней он терпел невыносимые муки голода и вот уже более месяца страдал от всяких других бедствий, душевных мук и борьбы с самим собою. Он видел лишь, как внизу, на набережной, добродушный баварец препирался с задирой вюртембергцем и живчиком из Бадена, как народ валом валил во францисканский собор, чтоб получить отпущение грехов. А у самой воды кучка людей не сводила глаз с озера, следя за тем, как слабое течение гонит к берегу несколько бочек. Собравшиеся на берегу пытались вытянуть их на берег баграми и канатами.
– Что вы там делаете, люди добрые? – крикнул им бургомистр с террасы.
– Это дар честных швейцарцев из Санкт-Галлена! – отвечал один из них.
– Бочки ждали западного ветра, чтобы приплыть из Романсхорна, в них, поди, вино или брага, – подхватил другой.
Бургомистр ушел с террасы внутрь постоялого двора и уселся в ожидании исхода этой ловли.
На неподвижном с первого взгляда лице баварца можно было прочесть озабоченность, глубокую печаль и досаду. Его здоровенный кулак, упиравшийся в дубовую столешницу, то сжимался, то разжимался, словно взвешивал – отдавать или удержать; нога, пальцы которой, казалось, стремились разорвать ботфорты оленьей кожи, стучала по неметеному полу, поднимая облако пыли, подымавшейся к потолку, словно табачный дым из трубки. Душевное смятение мешало ему сидеть спокойно. Стукнув шпагой по полу, он вынул из сумки кардуановой кожи с серебряным гербом города огромные ключи и принялся поворачивать их в воображаемой замочной скважине, словно пытался запереть дверь так, чтобы ее никогда более не смогли открыть. Потом он поднес ключи ко рту и просвистел сигнал сбора – научиться этому у него было довольно времени, покуда длилась осада с отбитыми атаками и неудавшимися вылазками.