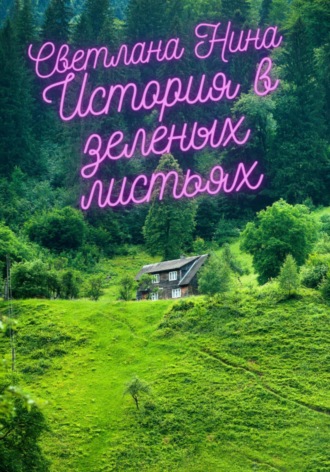
Светлана Нина
История в зеленых листьях
1
Она остановила велосипед. Кажется, здесь… за беспардонно разросшимися кронами. В краю затянувшейся неги и замершей тревоги.
Покалывала внутри совсем прежняя тронутая холодком кристальность неба. И повисшая в воздухе угроза умирания, следующая за этими пленительными вечерами с гусиной кожей по ногам. А дальше, за северными просторами, не разбирая времени года, в черную бездну уплывала Нева в мороке дождя.
Мира уселась на землю и принялась ждать. Ветер вяло колыхал необъятные деревья. Слишком хорошо после месяцев заточения в Петербурге, после осязаемого тумана, растворяющего даже гранит. После движущейся чешуи рвано замерзающей Невы и раскатов новостроек вдали. После дымки, обхватывающей берега, уносящей в небытие. Так бы и просидела здесь весь день под отдаленный шепот Тургенева…
– Приехала? – послышался звучный голос.
Мира нехотя подняла глаза. Ожидая увидеть сломленного неврастеника, она с удивлением обнаружила на нем румянец загара.
– Как видишь.
Он тяжело вздохнул.
– Зачем?
Мира молчала. Она не знала ответ.
– Ты поранилась.
Он опустился и воззрился на царапину, разрывающую ее ногу на две неравнозначные части. Мирослава апатично наблюдала за ним. Однородный массив торса и крепких ладоней навел ее на толчок воспоминания, но видение быстро рассеялось. Когда-то этот человек, как и прочие, значил очень много и служил предметом для подпитывающих умозаключений, не обязательных к воплощению. А теперь удостаивался воспоминаний с непременным покалыванием, как от чего-то неприятного, досадного, что хотелось похоронить в памяти. Каждый ушедший человек был оторванной частью чего-то, без которой она беднела и вынуждена была брести дальше, на новые земли, в новые кабинеты.
– Поговорим? – с сомнением спросила Мира.
– Что же ты это не спросила по телефону?
– А ты бы ответил?
– Сомневаюсь.
Арсений молча продолжал сидеть на карачках. Как всегда, колкий даже без произнесенного. Не знала бы она его подноготной, вполне бы продолжала верить в изначальный его шлейф умиротворенного дядюшки, с которым, может, и желанно пересечение грани, но оно никогда не состоится. А ведь при знакомстве с ним ее взбудоражила приобщенность к истинно мужскому закрытому прежде миру. В юности Мира и представить не могла, что так непринужденно будет обращаться с квинтэссенцией собственных подростковых романтических устремлений. Но теперь мужские разговоры мерещились предельно скучными и хвастались лишь дешевой злободневностью.
– Ты слишком распоясалась.
– Не тебе меня сдерживать.
– А что, если мне?
На Миру пахнуло чужой жаждой регламентировать. Кривой и шершавой, как выступающие здесь повсеместно корни деревьев. С этой жаждой отлично гармонировало ощущение смутной тревоги, исходящей от его процветающего тела.
– Знаешь, я в какой-то момент начал жалеть, что вытащил тебя из той реки.
Лицо Миры сокрушенно вытянулось. Но закостенелая привычка сворачиваться в скорлупу при обнаружении чьего-то безразличия в свою сторону возобладала и сейчас. Быть может, эта самая привычка и служила причиной охлаждения ее отношений с теми, кто, казалось, сросся с ней. Сросся – и исчез. Она научилась принимать это как необратимый закон.
2
Они добрались до вершины холма и уставились на стыки домиков внизу. Часть домиков была полузаброшена, часть даже не достроена. Но некоторые так и пухли от благоденствия Собакевича.
– Ты за конкуренцией с ней сюда пришла, – заключил Арсений с потенциально неопровергаемым видом Дамблдора.
Мира нахмурилась. Она уже так давно не утруждала себя быть милой, что даже допустила сожаление по девочке, которая когда-то красила глаза.
– Какого же ты мнения о себе… А хочешь правду? Да от жалости к тебе. Как бы ты не сбрендил тут без нее.
– Это придает тебе силы. Твое упрямство. Из-за этого ты и карьеру делаешь – доказать бабушке, что ты не хуже двоюродной сестры. И чтобы сестре в нос закричать, какая ты преуспевающая, что покупаешь дорогие кроссовки.
Мира спросила себя, почему порой уже бродящие в боли головы фразы до цели могут дойти только через строптивость видения другого.
– Знаешь, гораздо хуже, если тебя вообще ничего не волнует, никому не хочется утереть нос.
– Для выскочки это ожидаемый ответ.
Реальность без приятной припорошенности иллюзий вновь восстала перед Мирой.
– За твоей напыщенностью – обыкновенная слабость и страх, – отозвалась Мира сниженной громкостью. – Но заложенность образа не дает тебе хотя бы ослабить актерскую игру.
Не влюбленный и друг, а жадный свидетель личности Арсений, чье одобрение Мира алкала еще недавно, недобро перевел на нее за минуту до этого такой величавый взгляд.
– Дружба двух гордых женщин едва ли может длиться долго. Потому что одна обязательно ущемит вторую, а та этого не забудет. Что и произошло с вами. Так я и думал. Это только сперва накрапывались ваши нежности.
– У нас все великолепно. Это ты жалкий и никому не нужный.
– Не преувеличивай. Мне от вас обеих только одно было и нужно.
– Ты лжешь. Альфачи теряют все с мужской привлекательностью. А ты и не альфач вовсе, просто прикидываешься.
Арсений захохотал. Но Мира хотела верить, что он тревожно закусил травинку, жестоко оторванную у земли.
Мира смотрела вниз со своим извечным отрешенным выражением. Его прерывало только неудобство озвучивать собственные мысли, которые казались косноязычными, едва вылетев изо рта.
Арсений был уверен, что развивает ее. Но в ней же разлился неподвластный и непонятный ему, да и е й самой океан. Преуспев в учености, он потерпел крах в иллюзиях чужой души.
– Ты ненавидишь меня теперь? – спросила Мира.
А он невозмутимо отозвался, будто ожидая подобного.
– Нет. Я не ты.
Мира потерянно улыбнулась. Ее охватило двойственное чувство, что причиняющие ей боль люди активно пытаются выставить ее виноватой.
3
Она одна шла по этому чертовому мосту над прозрачным лезвием воды, по касательной от затемненных дымкой пролесков рассеянной зелени. Затерянные в глуши крон трамвайные остановки в спину постукивали колесами.
Едва не завывая от обиды, что он сейчас сидит в уюте родительского дома – вот как она на самом деле дорога ему. Вместе с тем ночь была предательски хороша. Пряный и влажный воздух растворял в себе, как чай. Разительный контраст с упущенной красотой Петербурга и урывками поездок за город, не способных рассеять общего каменного колпака.
Брела сквозь тернь заглушенного запаха упадка лета, помутневшей темноты водоемов. Было ли ей хорошо без него? Было. Но, как только рассеялась беззаботная эйфория девичьего щебета, сгрудились над ней древние обиды. Обиды на то, чего в принципе не существовало. И Мира ненавидела Тимофея, ненавидела себя за то, что вообще думает обо всем этом в таком шальном ключе. И тут же бешено, безрассудно цвела надежда, что он выскочит из ближайшего поворота, обнимет ее и окутает безумной магией своей лупоглазости. В нем столько энергии – прикоснешься, и словно перенимаешь ее, греешься об этот не иссякающий реактор. Именно то, чего так недоставало Мире, ведь последние годы она тщательно ограждала от рассеивания о жадных других свою и без того не впечатляющую энергию. Все больше она сама пиявкой присасывалась к тем, кто чем-то пленял, и наматывала вспышки их сознания на собственное веретено.
Но он не выскакивал. Наверняка спал своим проклятым бесчувственным сном, не различая шуршаний вокруг. Мирослава в бешенстве захлопнула входную дверь.
– А, ты уже пришла, – раздался из жерла дома искомый голос.
– Как видишь, – сквозь зубы процедила Мира, сверкая мерзлым взглядом, который направлялся куда угодно, но не появившегося в дверном проеме Тима.
– Что такое? – настороженно спросил он.
– Что такое? – издевательски переспросила Мира.
Повисла тишина. Невинный вид Тимофея окончательно доконал ее.
– Что такое?! Я перлась сюда по темным улицам! А ты восседал тут и даже не подумал меня встретить!
– Ты не просила…
– Это просто какой-то кошмар! – закричала Мирослава на весь мир, создавший какие-то правила, на Тимофея, который не желал их нарушать, на собственное тотальное бессилие получить желаемое.
Она бросилась на лестницу. Тимофей побежал за ней.
– Да что с тобой такое? – в свою очередь заорал он.
– Не твое дело! Оставь меня в покое! – Мира закашлялась задушенной речью.
– Что – то случилось с девочками?
Он держал ее за плечи, а она невидящим взором смотрела в половицы.
– Нет.
Тимофей обнял ее. Мира зло вырвалась.
– Поздно! Раньше надо было думать!
– О чем?!
Мира вырвалась и со всей силы влепила ему пощечину. Он скрутил ей руки.
– Ненормальная! Успокойся!
Как Мира ни пыталась, унижение и боль проступили наружу через глаза. Она начала рыдать. Сначала бесшумно, затем с уморительными всхлипываниями.
Тимофей выпустил ее запястья и беспомощно начал причитать:
– Ну же, перестань. Пожалуйста, не надо. Милая.
Эти слова только спровоцировали новый поток запертой любви.
Серебром обдающий лунный свет, мысом продолжающийся в никуда, отблескивал в кухонное окно. Вверху от него жалобно таял подсвеченный самолет.
Тимофей начал гладить ее по голове, по щекам, прижимать к себе. Через тонкую ткань ее лилового платья проступало тепло живого. Живого, которое он не должен был делать частью своего, хотя Мира удивительно совпала с его стремлениями и чудаковатым юмором, обидным для неуверенных людей, готовых оскорбляться на весь мир за собственную несостоятельность.
Как несправедлива жизнь, что они встретились только сейчас, будучи связаны узами крепче обещания кому-то еще! Лучше бы не встречались вовсе. Сколько было шансов, что они просто до конца жизни будут созваниваться по праздникам…
Он начал целовать ее щеки. Мира в ответ вцепилась в его плечи своими коротко стриженными ногтями. Не отдавая себе отчет в том, что делает, Тимофей перешел на непознанный водоворот ее губ, пахнущий теплом и апельсинами. Наверное, в кафе она ела какой-нибудь разрекламированный пирог, на заказ которого ее подначила заводила их компании… Странно, но он больше не чувствовал стыда и страха.
Над ними распласталась магическая ночь. Близняшка тех, в которые совершались тайные ритуалы и создавались легенды. Безумства предков, воспринимающихся безгрешными истуканами, проступили через шлифовку социумом. В конце концов, кому и что они должны? Разве он в ответе за свою безудержную энергию, заражающую других? Главной фобией Миры стало то, что Тим исчезнет, оставив после себя все как прежде. Никому не нужное пустое прежде взамен цветочных разводов своего существа. Их похожесть придавала совершаемому что-то сакральное, запретное, только их собственное и ничье больше. Такая юная, такая его родная. Лучший друг, соратница, сестра…
Мира предпочла просто отключить разум, оставив себе лишь пожирающий мир чувств и прикосновений. Пусть Тимофей сделает с ней все, что хочет, лишь бы хотел. Его упругое тело плясало с ней в каком-то пугающе гармоничном танце. Это было вовсе не то, что с другими. Не ободранное утоление инстинктов и злорадство в мегаполисе. А растворение в терпком вкусе приоритетного существа. Впервые Мира чувствовала такое тотальное единение с чужой душой. Не было больше ни ее, ни его, лишь они – исконный феномен редкостного совпадения духовной и физической близости.
4
– Меня всегда парализовало, что у людей были отношения до меня. Не могу принять факта, что другие обладают сознанием и волей. Это эгоизм. И это страшно.
– Паталогическое одиночество существования – вот что страшно на самом деле, – без опасения прозвучать фальшиво ответила Варя. – Все мы обманываем себя, что кому-то нужны – семье, любимым, друзьям… Но заточены каждый в своем личном аду, из которого никто вытащить не способен.
Они замолчали с уже знакомым унынием, накатывающим на обеих при подобных выводах.
– Знаешь, раньше я мало что понимала. А теперь научилась смотреть на вещи более трансцендентно. Все в человеческом социуме более-менее легко объясняется – предпосылки каких-то действий и особенно воззрений. Многое так или иначе уже было. Корни нашего поведения очень часто даже не в семье и детстве, а в тысячелетиях человеческой истории.
– Та еще жуть.
– Почему?
– Потому что история эта не блещет человеколюбием.
– Но времена меняются. Посмотри на Скандинавию, – Мира приподняла брови в несогласном удивлении.
– Времена меняются медленнее, чем нам бы хотелось. Прогресс почему-то не останавливает грязи. Все мы милы, пока относительно сыты. По европейцам это прослеживается особенно доходчиво.
– А миллионы людей сделают все, лишь бы оставить сложившийся порядок вещей, потому что остальное предполагает какое-то напряжение, пересмотр взглядов. Это выбрасывает их из зоны комфорта. Им лень. И они агрессивны в сторону тех, кто что-то делает. Почитай комменты о любом преуспевшем человеке, сколько там яда.
Варя слушала эти полудетские изобличения не без удовольствия, думая, что даже искренние мысли типичны на выходе.
– Другие люди и не обязаны подчиняться нашей логике. Да и своей тоже.
Мира улыбнулась, опасаясь рассыпать это волшебство. Но все же добавила:
– Природа и социум – две составляющие личности.
– Это только так кажется. В личности должны быть вселенные, океаны. Мало быть хорошим специалистом или хорошим человеком. Мы же все равно руководствуемся в итоге чем-то интуитивным. Возможно… Возможно, мы вообще переоцениваем свой вклад в собственную душу. Быть может, она и правда – нечто вечное.
Думая о Тиме, Мира перескочила начавшую быть какой-то неприятной тему.
– Мы как-то подсознательно понимаем это… И ищем себе родственную душу. Это мечта со времен основания мира. Это древний миф о раздвоенности человеческой души.
– Ты наивна. Между людьми пропасти.
– А ты пессимистична.
Варя как-то странно посмотрела на Миру.
– Может, просто хочу такой казаться перед самой собой.
– Пессимисты не работают над собой. Они просто прикрываются тем, что все ужасно, значит, и работать нет надобности.
– Быть может.
Мира почувствовала раздражение. Столько изгаляться и получить безразличный ответ!
5
– Может, мы себя по-новому строим сейчас. Говорим – и лепим себя по подобию произнесенного. Облекаем энергию в обертку понятных слов.
Варя зажмурилась, с удовольствием обдумывая эту мысль. А Мира, охваченная упоением ее присутствия, когда так ясно соображала голова, продолжала:
– Мне сносит крышу от того, что каждая жизнь, комбинация людей, книг и событий в ней неповторимы. К черту теорию мультивселенной. То, что видела и думала ты, никогда не повторится в тех же сочетаниях и той же окрашенности. Ровно как и не повторится ничего из жизни того, кого ты знаешь и не знаешь. Только вот ему в голову залезть можно только через слова, да и то только если пустят. Лично я безумно завидую тому, что видят другие. Хочется чужим опытом заполнить пробел узости своего.
– Только некоторые и не замолкают. Тут можно и не гадать, что у них в голове – все преподнесут на блюде. Только слушать особо не хочется.
Мира хохотнула.
– Как-то меня назвали слишком рациональной, – продолжила Варя живо.
– Могли бы похлеще назвать, – прыснула Мира.
– Не понравилось, что я подобное озвучиваю. Я, видите ли, должна быть стереотипно сподручной.
– В наше время ты либо рациональная, либо дура, – убежденно сказала Мира. – А я идеалист, но лишь в сфере чувств. Во вселенной ничего идеалистического быть не может, она расшифровывается математикой. Даже то, что мы называем чудесами или интуицией, рано или поздно возведется в четкий описанный алгоритм. Переломит и снобизм ученых голов, и невежество примет.
– Сомнительно, что когда-то это расшифруют.
Мира рассмеялась.
– Все же твой пессимизм невыносим.
– Я к тому же меланхолик.
– А я оголтело пытаюсь перебороть меланхолию, особенно зимнюю сонливую. Слишком легко погрязнуть в темноте, если только позволить себе слабину и хандру.
– Может, ты просто сильнее.
– Ты такая… тонко настроенная, все ты понимаешь… Ты не можешь быть слабее.
Обе с пониманием улыбнулись.
– А ты – как Солнце, – с истонченной улыбкой добавила Варвара.
Мира зарделась путанным восторгом от похвалы. Вот оно – наконец-то ее теплое отношение к кому-то отразилось на нее саму, а не кануло в небытие.
6
– Я никогда не могла поверить, что другие счастливы тому, что у меня вызывает приступы паники и омерзения. Будто я усиливала чувства, которые, по моему мнению, должны испытывать другие. Будто я счастье допускала у себя, но не у них.
– А я, напротив, тушу свои, – отозвалась Варя.
Мира тревожно посмотрела на собеседницу.
– В природе все выстроено потрясающим законом круговорота. Тут говори – не говори, запрещай – не запрещай, а твоя отправленная энергия нигде не рассеется. И от этого порой реально страшно, как будто тебя неотвратимо преследует расплата за то, в чем ты не уверена. А никто не дал тебе реального талмуда, как жить. Пытались, конечно, прихлопнуть книгами, которые некоторые зовут святыми… И думаешь – к чему все эти усилия? Уехала бы сейчас в Индию просветляться. Может, счастливее бы была.
– Мы живем, чтобы восхищаться жизнью, быть за нее благодарными… Только это имеет смысл, только это оправдывает рождение детей. Если не понимать, зачем они рождаются, выталкивать их на свет – преступление.
– Никто не понимает.
– А любовь? – с сомнением спросила Мира. – Это ли не смысл сам по себе? Как и наполненность каждого мига красками, запахами, звуками, лицами. Смысл, который мы и передаем своим детям без пафосных речей и оправданий. Смысл не может быть в чем-то одном, как не может быть односторонним ни одно чувство.
– Может, любовь – только побочный эффект познания.
Мира погрустнела, как бывало часто, если не удавалось найти в собеседнике желанный ответ.
– Как ты можешь говорить такое? Любовь – основа всего.
Варя обнажила зубы. Мира против воли испытала раздражение.
– Всякое можно говорить, устав. Все, что мы разводим, в любом случае – лишь треп.
– Но из таких разведений и складывается жизнь.
– Если ты так воспринимаешь любовь, тогда любить надо всех. А я не могу.
Мира изумленно взирала на Варю. Совершенство… обнажившее человеческую черствость в недозрелости суждений.
– Если умеешь ненавидеть одного, любовь к другим-притворство, преломление собственной личности через уродливое стекло Снежной Королевы, – продолжала Варя. – Или вывернутый инстинкт собственничества. Как к мухе относишься, так и к человеку будешь. Это кажется сумасшествием, но это одна из основных задач нашего пребывания здесь. Потому что нет ничего легче, чем любовь к родственнику или подходящей для размножения особи.
Варвара замедленно провела ладонью по щеке и остановила пальцы на подбородке.
– А я все чаще думаю, что не хочу, чтобы кто-то мучился по моей милости. Я просто не потяну детей эмоционально. Они не заслуживают расти в таком мире. Нет такого запаса нежности во мне, чтобы все стерпеть.
– Но жизнь сочится… Даже в искусстве – столько выплеснутых душ, которые остальным помогают обрести смысл. Да, материально нам всем тяжело. Хотелось бы просто не думать об этом, наконец. А мы тратим на заработок столько своего времени…
– Но мы же и учимся при этом.
– Хотя да, ты сама говорила, что не работать тебе скучно.
– А, может, я поменяла мнение и теперь хочу на пенсию. Невозможно заскучать наедине с собой. Столько еще можно узнать, исследовать, открыть.
– Люди, которые убежденно говорят, почти всегда неправы, – осторожно заметила Варя.
– Люди вообще никогда не правы, как и мы с тобой. Понять это – значит понять человечество. И будущие ошибки. Не особенно – то мы на старых учимся.
– Иногда кажется, что это чуть ли не от скуки. Знаем, к чему идем, но остановиться не желаем.







