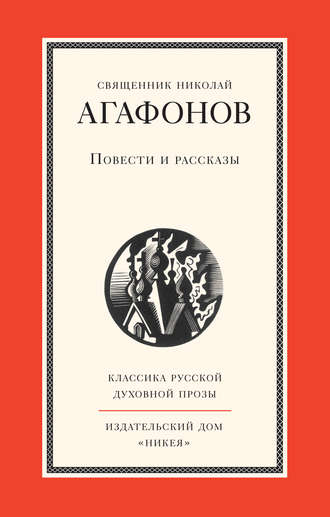
священник Николай Агафонов
Повести и рассказы
Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви ИС12-218-1567, ИС10-11-0939
Предисловие
Священники, занимающиеся литературным творчеством, были всегда. Наше время – не исключение. К таким «авторам в сане» относится и отец Николай Агафонов. В своих произведениях он с любовью вглядывается в жизнь Церкви, но и приходскую повседневность рисует как наполненную мистической красотой.
Родился Николай Агафонов в уральском селе Усьва в 1955 году. Школа, армия – и вот он студент Московской духовной семинарии, куда поступил в 1976 году. В 1977 году стал диаконом, в 1979 – священником. 1992 год – окончание Ленинградской духовной академии и должность ректора Саратовской духовной семинарии, которую начинает с нуля под руководством архиепископа Пимена (Хмелевского). В 1995–1996 священник Николай Агафонов служил в храме Казанской иконы Божией Матери в с. Вязовка Татищевского района Саратовской области. Затем – в Пензенской области, в Волгограде и Кузнецке.
В настоящее время отец Николай служит в Самарской епархии (настоятель храма во имя Св. Жен Мироносиц г. Самары) и является преподавателем основного богословия Самарской Духовной семинарии.
Вероятно, напрямую из такой «простой» биографии происходит и простой, прозрачный (кому-то даже может показаться наивным) язык о. Николая Агафонова (кстати, члена Союза писателей России). Его повествования лишены «мучительных» поисков философской истины, пути героев ясны. Исповедники и мученики за веру, просто люди, связавшие свою жизнь с Церковью, не пытаются обосновать свой выбор.
Вероятно, это и подсказывает автору книги выбор сюжетов. Герой повести «Красное крещение» Степан, погруженный в патриархальный, православный уклад дореволюционной России, не может принять отречения от Христа, которого требует от него революционное время. Его судьба сливается с судьбами тех, кто остался верен истине, вере, Богу, так же как сливается воедино кровь убитых красноармейцами монахов: «Вскоре звон прекратился так же внезапно, как и начался. Послышался удар упавшего тела. Монахи обернулись и увидели сброшенного с колокольни звонаря Иеронима. Кровь, вытекающая из его разбитой головы, струйкой потекла по ложбинкам каменных плит и, встретившись с ручейком крови, текущей от убитого настоятеля, соединилась, и образовалась лужица, которая на глазах Степана ширилась и росла».
Простота исповедания веры предполагает, что о Боге может свидетельствовать не только православный и даже не только христианин. В повести «Свет золотой луны» о Боге свидетельствует мусульманин, чеченец, воюющий против федеральных войск. Впрочем, воюет потому, что после гибели жены у него не осталось интереса к этой жизни. О войне же рассуждает: «Порой мне кажется, что люди воюют потому, что не могут по-настоящему любить. Тот, кто любит по-настоящему, уже не может ненавидеть других людей. Ты думаешь, я пошел воевать, чтобы за жену и детей мстить? Кому мстить? Всему русскому народу мстить? Но ведь моя жена тоже русская. Значит, ей мстить, той, которую любишь больше жизни». Именно любовь и вера, как ее источник заставляют чеченского боевика помогать бежать из плена русским. В своей вере иноверец поступает согласно евангельскому принципу «вера без дел мертва».
Впрочем, для православных спутников мусульманина в повести отведено также значительное место. Солдат Сергей отказывается принять ислам и отречься от Христа ради спасения жизни, Патриев, бывший детдомовец, жертвует собой, а Гаврилов открывает для себя молитву.
Есть в этой книге и рассказы-зарисовки церковноприходской жизни. Вот два архиерея, однокашники и друзья, исповедуются друг другу в малодушии по отношению к третьему другу, священнику, судьбу которого могли облегчить, но не сделали этого. Тут и специфичный архиерейский юмор. Один из владык, работающий в ОВЦС, прощаясь, говорит: «… Ты ни разу не видел танец эфиопских епископов под барабан? – Нет, – ответил озадаченный отец Николай. – Счастливый ты человек, хотя, впрочем, зрелище это прелюбопытное».
Мистический опыт приходской жизни зафиксирован в рассказе «Юродивый».
Что пользы человеку от веры? Зачем церковная жизнь? Ответ дается в рассказе. Герой рассказа «Чаю воскресения мертвых», печник Николай Иванович, так отвечает на эти вопросы: «Где только я не был.
Везде, кажись, был и все испытал. А понял одно: с Богом человеку завсегда хорошо жить. Любые беды с Ним не страшны…»
Главное, чем пленяют рассказы о. Николая, – своей искренностью и живым, непосредственным восприятием окружающего мира. Только человек, любящий и ценящий жизнь, способен увидеть ее краски и запечатлеть их в слове.
Дмитрий Дайбов
Повести
Красное крещение
Киноповесть
1
С высоты птичьего полета открываются живописные окрестности небольшого мужского монастыря. Беленые стены монастырской ограды среди зелени полей и перелесков не портят картины природы, а лишь подчеркивают, как гармонично вписано создание рук человеческих в мироздание Божие. Лучи раннего утреннего солнца уже поблескивают на золоченых куполах величественного собора. Небольшой, чистый, вымощенный камнем дворик между собором и братским корпусом пуст. Лишь возле монастырской калитки, на лавочке, сидит привратник – монах Тихон. Кажется, дремлет, но это обманчивое впечатление. Если присмотреться внимательно, можно заметить, как его старческая костлявая рука медленно перебирает четки, а губы под пышными седыми усами едва шевелятся, беззвучно произнося слова молитвы.
Неожиданно тишину утра нарушает грохот артиллерийского орудия. Старец вздрагивает и, открыв глаза, с недоумением смотрит в небо. По бескрайней лазури безмятежно плывут редкие пушистые облака. Все спокойно, и Тихон вновь прикрывает глаза, и рука, было застывшая, вновь привычным движением пальцев начинает неспешно перебирать четки.
2
В березовом перелеске на краю поля красные кавалеристы держат под уздцы запряженных лошадей. Лица их встревожены. Они напряженно всматриваются сквозь редкие стволы деревьев, потом поглядывают на своего командира, Артема Крутова, который спокойно покуривает, беспечно поглядывая на птаху, примостившуюся на ветке березы.
Раздается громкое «ура». Птица вспорхнула с ветки и улетела. Крутов проводил ее взглядом и чему-то улыбнулся. Справа от перелеска поднимаются цепи красноармейцев и устремляются вперед с винтовками наперевес.
Кавалеристы нервно переминаются с ноги на ногу и кидают вопросительные взгляды на Крутова: мол, не пора ли нам? Но тот продолжает спокойно покуривать папиросу.
На другом конце поля перед орудийным расчетом полевой пушки стоит прапорщик и кричит:
– Осколочным заряжай!
Выстрел из пушки изрядно проредил ряды красных, но не остановил. Застрочил пулемет. Красные залегли. Тут в атаку поднялись белые.
Крутов, отбросив папиросу, поднес к глазам бинокль и усмехнулся. Отложив бинокль, он повернулся к своим красноармейцам и весело подмигнул. Лицо его словно преобразилось, в нем уже нет былой безмятежности, а в глазах заискрился бесенок азарта.
– Ну что, хлопцы, застоялись? По коням! Зададим перцу белой сволочи!
Ловко вставив ногу в стремя, он легко вскакивает в седло. Красноармейцы проделывают то же самое почти одновременно с командиром. Рука Крутова ложится на эфес сабли, и в тишине леса раздается зловещий звук вытягиваемого из ножен клинка.
«Ввжжик», – пропела сабля Крутова, и эту песню металла подхватывает более сотни сабель.
– За мной! – дико орет Крутов и, вонзив шпоры в коня, выскакивает из леса, увлекая за собой бойцов.
Красная кавалерия, аллюром рассыпаясь по полю, устремилась на белую пехоту. Но тут Крутов краем глаза заметил выскочившую из-за оврага кавалерию белых. Не сбавляя бег коня, он повел поводья влево, и красноармейцы устремились за ним. Конница красных, выгибаясь в громадную дугу, проводит сложный маневр и на полном скаку врезается в кавалерийский эскадрон белых. Началась кровавая сеча.
Взрывы, выстрелы, ругань и стоны раненых уносятся в бездонное, казалось, невозмутимо-равнодушное небо…
3
Негромкое, но торжественное пение мужского монашеского хора наполняло душу спокойствием и умиротворением. Степан, семнадцатилетний юноша в подряснике послушника, стоял на клиросе среди монахов, поглядывая то в ноты, то на регента, и старательно тянул свою теноровую партию.
На амвон вышел настоятель монастыря архимандрит Таврион. Опираясь на посох, он внимательным глубоким взглядом с грустью обвел притихшую братию. Теперь, при полной тишине, в храм глухо, но все же доносятся раскаты выстрелов. Выдержав паузу, он начал свою проповедь:
– Братья мои, здесь, в храме, приносится мирная, бескровная жертва Христова, а за стенами обители льется кровь человеческая в братоубийственной войне.
Глаза настоятеля, посуровев, сверкнули гневом, и он продолжил:
– Ныне сбываются пророческие слова Писания: «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их»[1].
Степан с умилением смотрел на отца Тавриона и вспоминал тот день, когда он впервые прибыл в монастырь с родителями.
4
Вот они все сидят за полукруглым столом в покоях настоятеля. Отец Таврион в простом подряснике и черной скуфейке[2]. Он сам почти ничего не ест, а старается потчевать гостей, мягко подтрунивая над ними. По правую руку от него сидит отец Степана – поручик Николай Трофимович Корнеев. Он в полевой офицерской форме и тоже старается шутить, поддерживая отца Тавриона. Мама Степана —
Анна Семеновна – вынужденно улыбается шуткам отца Тавриона какой-то вымученной улыбкой. Иногда ее большие карие глаза, полные любви и нежности, останавливаются на сыне, и тогда их заполняет печаль. Степан в гимназическом кителе сидит напротив отца Тавриона и беспечно кушает жареного судака, прислушиваясь к разговору старших.
– Так что же это получается, Николай Трофимович, с одной войны пришли и на другую идете? Не устали воевать-то? – с ноткой иронии спрашивает Корнеева отец Таврион.
– Устал, отец Таврион, конечно, устал, – тяжело вздохнув, отвечает Корнеев. – Да и в стороне оставаться, когда отечество супостатами терзается, не могу.
– Правильно изволили выразиться, Николай Трофимович. Супостаты они, коли руку на святое подняли, – одобрительно кивает головой отец Таврион, а затем поворачивается к Анне Семеновне:
– Ну а ты, сестренка, почему на войну собралась? Женское ли это дело? На кого же Степку оставишь? Ему родительский присмотр нужен.
Анна Семеновна ласково треплет сына по голове:
– Он у нас уже самостоятельный, – и переводит взгляд на отца Тавриона. – Не обессудь, отче, хотим тебя просить приютить племянника. Нам с Николаем будет спокойно, да и он о монастыре всегда мечтал. А что до меня, так я прошла курсы сестер милосердия…
Таврион внимательно посмотрел на Степана. Тот, засмущавшись, опустил взор.
– Вижу, что отрок сей нашего рода, иноческого, – сказал задумчиво отец Таврион и тут же добавил, обращаясь к Анне Семеновне: – Ты, сестра, за сына не беспокойся, при деле будет и под моим личным присмотром.
5
Очнувшись от воспоминаний, Степан прошептал: – Господи, спаси моих родителей, воина Николая и Анну.
Отец Таврион меж тем продолжал:
– За грехи и отступления от веры Господь попустил диаволу увлечь народ ложными обещаниями райской жизни на земле. Но там, где царствует грех, не может быть райского блаженства. Человек, отказавшийся от Бога, лишь умножит свои скорби. Молитесь, братия, ибо близок час испытания нашего. И помните, что только претерпевший до конца будет спасен[3]. Аминь.
6
Раздался стук в монастырские ворота, и привратник Тихон не торопясь заковылял к калитке. Приоткрыв небольшое окошечко, он выглянул, чтобы посмотреть, кто стучится. Но тут же, охнув, с поспешностью стал открывать калитку. В монастырь буквально ввалились два раненых офицера. Совсем юный корнет был ранен в руку, но другой, здоровой, рукой поддерживал поручика с перевязанной головой, который еле держался на ногах.
– Помогите ради Христа, нас преследуют красные, – умоляющим голосом обратился к привратнику корнет.
В это время из храма вышел отец Таврион с братией монастыря. Тихон торопливо заковылял к настоятелю и, подойдя, зашептал ему что-то на ухо. Голова раненого поручика безвольно свисала вниз, так что лица его не было видно. Степан присматривался к офицеру, и волнение его возрастало. В какой-то момент ему показалось, что это его отец. Не выдержав, он с криком побежал навстречу раненому поручику:
– Отец!
Поручик с усилием поднял голову и с недоумением посмотрел на подбегающего к нему Степана. Увидев лицо офицера, юноша в растерянности остановился. Поручик, поняв, что мальчик просто обознался, ободряюще улыбнулся Степану.
Слушая привратника, отец Таврион с тревогой и состраданием глядел на офицеров. В это время в ворота монастыря громко забарабанили.
– Отворяй ворота, живо! А не то разнесем все к чертовой матери.
– Отец келарь, – обратился настоятель к одному из монахов, – быстро уведите и спрячьте раненых. – Затем, повернувшись к привратнику, распорядился: – Иди, Тихон, отворяй, да не спеши.
7
В распахнутых воротах обители показались красные кавалеристы во главе с Крутовым. За ними строем шагал отряд латышских стрелков. Отец Таврион молча взирал на них. Крутов направил коня прямо на настоятеля, видимо, решив устрашить монаха. Но тот даже не шелохнулся. Крутов осадил коня прямо перед отцом Таврионом и с интересом разглядывал монаха. Потом молча объехал его кругом и весело прокричал, не обращаясь ни к кому конкретно:
– Ну, святые угоднички Божьи, признавайтесь, куда золотопогонников подевали? А? Что молчите?
В это время в монастырь вкатилась бричка, запряженная парой лошадок. На бричке в небрежной позе развалился комиссар полка Коган Илья Соломонович. Бричка остановилась, комиссар не торопясь вынул носовой платок и так же не торопясь протер пенсне, а затем уж сошел с брички и направился в сторону Крутова и монахов.
– Ну ты, с палкой, – обратился Крутов уже конкретно к отцу Тавриону, опирающемуся на свой посох и в упор смотрящему на него. – Чего насупился, как мышь на крупу? Прошло ваше время народ пугать карой небесной. Теперь мы вас пугать станем карой земной, а это куда уж поконкретнее будет. – И рассмеялся, довольный собой, поглядел на Когана: мол, вот я какой, полюбуйся, товарищ комиссар.
Глаза отца Тавриона засверкали гневом, но он, опустив взгляд, едва сдерживая себя, с достоинством, четко разделяя слова, произнес:
– Что вам от нас угодно? Потрудитесь объяснить, по какому праву вы врываетесь в обитель Божью?
Крутов в деланом изумлении поднял брови, повернулся к своим бойцам и подмигнул. Те засмеялись, один лишь Коган сохранял молчаливую брезгливость:
– Запомни, монах, – смеясь, сказал Крутов, – права мы ни у кого не спрашивали и не будем спрашивать: ни у Бога, ни у черта. – Потом, сразу посерьезнев, добавил: – А вот с тебя, черноризец, я спрошу: где ты офицериков укрыл? Да не вздумай отпираться, я сам видел, как они в сторону вашего монастыря шли.
Отец Таврион поднял строгий взгляд на Крутова и спокойно ответил:
– А я никого не видел. Извольте сейчас же покинуть нашу обитель.
Крутов уже собирался ответить на эти дерзновенные слова настоятеля, но тут неожиданно вмешался комиссар:
– Мне кажется, товарищ Крутов, у его высокопреподобия что-то со зрением случилось. Но мы это зрение ему поправим.
– А ведь ты прав, товарищ Коган, если человек не видит врагов революции, то он либо слеп, либо сам такой же враг. Я, вашу мать ети, – вдруг заорал Крутов, – весь монастырь наизнанку выверну, а золотопогонников найду.
При этих словах он соскочил с лошади и выхватил из кобуры маузер.
– Петров, Афанасьев, Собакин, обыщите храм. А вы трое со мной. Монахов охранять, чтоб ни один с места не тронулся. Если найдем офицеров, всю монашескую контру к стенке поставим.
И Крутов быстрым шагом направился к братскому корпусу. Комиссар продолжал брезгливо разглядывать настоятеля.
– Значит, не видели? Зубов! – позвал он своего возницу, вихлястого, развязного парня, явно уголовной наружности.
Когда Зубов приблизился, Коган склонился к его уху и что-то шепнул. Тот, глумливо ухмыльнувшись, кивнул Когану:
– Сейчас, товарищ комиссар, я ему мигом зенки вправлю.
Он вытащил из кармана складной нож и, поигрывая им, подошел к отцу Тавриону. Настоятель, не дрогнув, смотрел прямо в лицо Зубову. Того несколько смутил прямолинейный взгляд монаха.
– Чего, контра, зенки вылупил, – прошипел он и, обойдя архимандрита, стал позади него.
Зубов моргнул двум латышам, и те подошли к нему.
– Держите этого гада за руки, да покрепче.
Настоятель пытался отдернуть руки, но стрелки, вырвав у него посох и отбросив его в сторону, крепко взяли отца Тавриона с двух сторон за руки выше локтей. Зубов подсечкой уронил настоятеля на колени и схватился одной рукой за подбородок. При этом клобук архимандрита съехал набок, а затем и совсем упал на землю. Зубов, запрокинув голову монаха лицом кверху, быстрым движением проткнул ему один глаз ножом. Отец Таврион, дико вскрикнув, вырвал руку у латыша, схватившись за глаз.
– А-а-а… – застонал отец Таврион, мотая головой из стороны в сторону, – что же вы творите, ироды окаянные?
Монахи охнули при виде такой жестокости и подались вперед. Но латышские стрелки с винтовками наперевес оттеснили их к стене корпуса и взяли в плотное оцепление. Степан закричал, но стоящий с ним рядом монах Гавриил обхватил его рот рукой и прижал к себе. Из широко открытых глаз Степана полились слезы на руку Гавриила.
– Тише, Степка, тише, – зашептал монах. – Сейчас и до нас, парень, очередь дойдет. Молись.
Но молиться Степан не мог, в глазах его застыл безмолвный ужас.
– Ну, вот теперь, монах, отвечай: видел офицеров? – задал свой вопрос Коган.
– Нет, изверги, нет, я никого не видел. Не видел, супостаты.
– А ты, Зубов, недолечил человека, – ухмыльнулся Коган, – видишь, он говорит, что не видел.
– Да как же так, не видел? Ведь врет сволочь и не краснеет, – ухмыльнулся Зубов и снова достал нож. – Сейчас, товарищ Коган, мы это подправим.
При этих словах красноармейцы снова крепко схватили настоятеля за руки.
Келарь монастыря отец Пахомий закричал:
– Что же вы творите, проклятые! Креста на вас нет!
Он попытался прорвать оцепление солдат, но его тут же сбили с ног прикладом винтовки и, несколько раз ударив, снова водворили в толпу монахов. Зубов между тем подошел к отцу Тавриону и проколол ему второй глаз. Красноармейцы отпустили руки ослепленного отца Тавриона. Из пустых глазниц настоятеля текли кровавые слезы. Он воздел руки к небу и возопил:
– Вижу, теперь вижу, – кричит он.
Все, в том числе и монахи, в ужасе и удивлении переглянулись между собой.
– Наконец-то прозрел, – довольно ухмыляется Коган, – я же говорил, что зрение можно подправить.
Так что вы там видите? Поделитесь с нами, святой отец.
– О! Чудо! – не обращая внимания на сарказм комиссара, воскликнул отец Таврион. – Вижу небо отверстое и Господа со Ангелы и всеми святыми! Благодарю Тебя, Господи, за то, что, лишив земного зрения, открыл духовные очи видеть славу…
Договорить отец Таврион не успел. Лицо комиссара перекосилось, и он, выхватив из кобуры револьвер, выстрелил в настоятеля. Архимандрит, вздрогнув всем телом, упал лицом на мощенную камнем монастырскую площадь. В это время вернулся Крутов. Взглянув на убитого архимандрита, покачал головой. Неожиданно раздался звон колокола. Монахи истово закрестились. Степан видел, как возле убитого отца Тавриона по белым камням растекается алая кровь. Его начал бить озноб.
– Прекратить звон сейчас же, – буквально завопил Коган.
Двое бойцов метнулись в сторону раскрытых церковных дверей. Вскоре звон прекратился так же внезапно, как и начался. Послышался удар упавшего тела. Монахи обернулись и увидели сброшенного с колокольни звонаря Иеронима. Кровь, вытекающая из его разбитой головы, струйкой потекла по ложбинкам каменных плит и, встретившись с ручейком крови, текущей от убитого настоятеля, соединилась, и образовалась лужица, которая на глазах Степана ширилась и росла. Все перед его глазами стало красным. Степан стал заваливаться на бок. Монах Гавриил бил его слегка по щекам и шептал:
– Степка, очнись. Очнись, ради Христа.
Степан открыл глаза и бессмысленно посмотрел на Гавриила.
В это время из-за угла собора вышли, прихрамывая и поддерживая друг друга, раненые офицеры. Они остановились и обессиленно прислонились к стене собора. Поручик, с усилием подняв голову, тяжелым взглядом обвел красноармейцев и, остановившись на Крутове, хриплым голосом проговорил:
– Хватит издеваться над безоружными монахами, мы вам нужны, вот нас и берите.
8
Пока все смотрели на выходивших офицеров, монах Гавриил быстро нагнулся к Степану и прошептал:
– Вот тебе ключ от подвала, беги из монастыря, спасайся.
Он указал ему на маленькое окошко – отдушину, ведущую в полуподвал братского корпуса, возле которого они стояли. Степан в нерешительности тряс отрицательно головой.
– Да лезь ты, кому говорят, пока не поздно, – с раздражением шептал монах.
Степан испуганно глянул на окошко, затем на отца Гавриила.
– Беги, Степка, – умоляюще зашептал Гавриил, подталкивая Степана к окошку.
Нагнувшись, Степан просунул голову в окно и полез. Монахи столпились поплотней у окошка, чтобы прикрыть бегство Степана от красноармейцев. Едва Степан успел протиснуться в окошко и свалиться на пол подвала, как красноармейцы повели монахов в глубь монастырского двора.
Степан некоторое время лежал на полу, прислушиваясь. Из монастырского двора прозвучал одиночный выстрел, и Степан подскочил с пола и стал быстро пробираться между бочками и ящиками к двери. Трясущимися руками он долго не мог попасть ключом в скважину замка. Наконец дверь удалось открыть. Но едва он выбрался по лестнице из подвала в коридор, как услышал голоса красноармейцев, входящих в братский корпус. Степан скинул ботинки и, взяв их в руки, на цыпочках быстро побежал по коридору к своей келье. Его продолжало трясти, словно в лихорадке. В келье он снял подрясник и переоделся в гимназический китель. Затем стал складывать вещи в мешок и тут услышал громкий смех и звук шагов в коридоре. Он быстро снял висящий на гвозде у кровати бинокль, сунул его в мешок и, нырнув под свою кровать, притаился. От удара ногой дверь в его келью распахнулась, и вошли двое красноармейцев. Прямо перед собой Степан увидел ноги в армейских обмотках, и на его лице выступил пот. В его голове звучала только одна фраза: «Господи, помоги!»
– Тут нечем поживиться, – сказал один красноармеец, и ноги в обмотках направились к выходу.
Степан вылез из-под кровати. Перекрестившись на иконы, подошел к двери, прислушался, а затем, приоткрыв ее, выглянул в коридор. Убедившись, что поблизости никого нет, он вышел.
Из монастыря Степан вышел через небольшую потайную калитку в стене. Здесь начинался монастырский огород, а за ним лес. Пригнувшись, Степан побежал между огородных грядок к лесу. На краю леса он с размаху упал на траву и дал волю слезам. Некоторое время его плечи содрогались в беззвучном плаче, затем он встал, вытер тыльной стороной ладони слезы, в последний раз оглянулся на монастырь и побежал в глубь леса.
Степан бежал по лесу, а в его сознании звучало печальное монашеское песнопение. Оно становилось все торжественнее и торжественнее. Степан шел по лесной дороге, лес закончился, и перед ним был крутой пригорок, он вскарабкался по нему и увидел перед собой поле, а вдали реку. Он перешел поле и долго сидел на берегу реки, а песнопение монастырского хора все продолжало звучать в его душе.
Он не видел, как расстреливали офицеров прямо у стены собора. Не видел, как гнали монахов в поле и заставляли копать для себя братскую могилу.
Степан ничего этого не видел, но догадывался об ужасах, творимых в монастыре, и ему казалось, что над полем и лесом звучат торжественные погребальные стихиры:
Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть,
И вижу во гробех лежащую,
По образу Божию созданную нашу красоту.
Безобразну и безславну, не имущую вида.
О, чудесе! Что сие еже о нас бысть таинство?
Како предахомся тлению?
Како сопрягохомся смерти?..
9
Степан пробирается вдоль рядов шумной и людной городской рыночной площади. Вид его довольно жалок. Ноги босы. Гимназический китель, на котором остались всего две медные пуговицы, надет прямо на голое тело. Одна брючина порвана внизу почти до колена. Взгляд его голодных глаз невольно останавливается на продуктах, разложенных на прилавках. Степан сглатывает слюну и, прижимая к груди вещевой мешок, продолжает пробираться среди людской толчеи.
Один из торговцев, остановив Степана и ощупав его вещмешок, спросил:
– Что там у тебя, вроде бинокль? Давай менять на картошку.
Степан резко дернулся, отстраняясь от навязчивого торговца:
– Это я не могу менять, об отце память.
– Да ведь вижу, что жрать хочешь, – ухмыльнулся торгаш, – какая тут память, голод не тетка.
Степан, покачав отрицательно головой, прошел быстро вдоль рядов к деревянному забору и устало присел возле него, облокотившись спиною о штакетник. Он раскрыл свой вещевой мешок, достал бинокль, посмотрел на него. Затем прикрыл глаза, вспоминая отца с матерью.
10
В гостиной накрыт праздничный стол с именинным пирогом. Вся семья Корнеевых в сборе. Папа с мамой радостно улыбаются, глядя на сына, и поднимают бокалы с шампанским. Какие они красивые, его родители! Мама в светло-розовом платье, а папа в офицерском мундире с погонами поручика.
– Поздравляем тебя, сынок, с днем твоего Ангела. Вот тебе мой подарок, – при этих словах отец достает бинокль и подает его Степану, – я его с фронта привез, трофейный немецкий, четырнадцатикратного приближения. Будет тебе памятью об отце.
Степан с восхищением глядит на бинокль, а родители поют ему «Многая лета…..».
11
– Это чего у тебя? – услышал вдруг Степан вопрос над самым ухом.
Он быстро открыл глаза и с тревогой оглянулся.
Рядом с ним у забора сидел белобрысый парень в рваной тельняшке, в белых, замызганных грязью брюках, так что их белый цвет лишь угадывался. На Степана смотрели с наглой усмешкой светлые, почти белесые глаза. Парень был примерно одного возраста со Степаном, только чуть ниже ростом и коренастей.
– Чего это у тебя? – повторил он свой вопрос и, вынув из кармана штанин краюху хлеба, стал есть.
Степан сглотнул слюну и, отвернувшись, ответил:
– Это бинокль, от отца.
– Понятно, – равнодушно произнес парень, отламывая от своей краюхи кусок и толкая в плечо Степана. – На, ешь.
– Спасибо, я не голоден, – ответил Степан, не поворачиваясь к парню и снова сглатывая слюну.
– Да ты че, – удивился тот, – из интеллигентных, что ли? Ешь, пока дают.
Степан как бы нехотя взял хлеб и тут же, откусив большой кусок, стал быстро жевать. Поперхнувшись, он закашлялся.
– Ешь, не бойся, не отниму.
– Я и не боюсь, – обиженно и с вызовом сказал Степан, проглотив почти не жуя последний кусок.
Парень уже тоже доел свой кусок и протянул руку к биноклю:
– Дай посмотреть, да ты не бойся, не возьму.
– А я и не боюсь, – опять с вызовом ответил Степан и подал бинокль.
Парень взял бинокль, повертел его в руках. Потом посмотрел в него на базарные прилавки и засмеялся, пытаясь рукой дотянуться до продуктов, которые теперь, ему казалось, лежат прямо перед ним.
– Полезная штука, – сказал он, а потом вдруг неожиданно вскочил на ноги и припустился бежать что есть мочи от Степана с его биноклем.
Степан тут же подскочил, как ужаленный, и, даже позабыв свой вещмешок, бросился вдогонку.
12
Парень ловко перескочил через забор и, добежав до переулка, свернул в него. Степан не отставал. Наконец он сообразил, что парень бежит прямо к складам на пристани, и побежал за ним по параллельному переулку, стараясь сократить дорогу. К складам они подбежали почти одновременно. Но тут парень кинулся к высокой деревянной ограде и, отодвинув доску, юркнул в щель. Степан нырнул за ним следом и очутился в замкнутом дворе между сараями. Он оторопел от увиденного. Воришка уже никуда не бежал, а стоял с наглой ухмылкой посреди такой же шпаны, как и он сам. Ребят было человек десять. Всем лет по восемь – двенадцать. Парень, укравший бинокль, был старше их всех, если не считать еще одного здорового парня лет восемнадцати. Он сидел на большой бочке, как на троне, и тоже с интересом рассматривал Степана. В отличие от других беспризорников, одетых в рваные лохмотья, этот парень одет получше и почище. Беспризорники тут же обступили Степана кольцом. Он от растерянности остановился и молчал. Все тоже стояли молча и смотрели на него. Степан понял, что он попался и так просто ему отсюда не уйти. Но все же, глянув исподлобья на парня, укравшего у него бинокль, твердо сказал:
– Отдай, это не твой.
– Что с воза упало, то пропало, – смеясь в лицо Степану, ответил тот.
И все беспризорники захохотали.
Не смеялся только парень, восседавший на бочке. Он продолжал с интересом разглядывать Степана.
– Сивый, – обратился он к белобрысому парню, – чего этот чужак от тебя хочет?
Сивый еще по дороге успел куда-то сунуть бинокль и теперь, невинно расставив руки, с той же наглостью, как и прежде, сказал:
– Не знаю, Брынза, чего он пристал к честному человеку.
– Не к честному, а к вору, – в запальчивости выкрикнул Степан.
Его слова снова вызвали у беспризорной братии гомерический хохот.
– Ты кто? – обратился Брынза к Степану.
– Он у меня бинокль украл, – не отвечая на вопрос главаря, упрямо мотнув головой, сказал Степан.
– Да мы тут все крадем, – ухмыльнувшись, развел руками Брынза, и беспризорники опять загоготали.
– Это бинокль, память об отце. Он на войне, – потупив голову, но твердым голосом произнес Степан.
– Ах, гнида, – закричал белобрысый, – я тебя сразу раскусил. С красными твой отец воюет. Офицер небось. У тебя же это на лбу написано, ты же контра.
– Ша, Сивый, – властно выставил вперед руку Брынза, – у нас здесь нет ни белых, ни красных, иди, тащи бинокль. Решать будем.
Степан облегченно вздохнул, считая, что дело его уже решено. Но он ошибся. Когда Сивый, быстро сбегав, принес бинокль и передал Брынзе, тот, повертев его в руках, спросил Степана:
– Об отце, говоришь, память? Хочешь вернуть свою вещичку?
– Да, – с готовностью ответил тот.
– Тогда дай Сивому за нее выкуп и забирай.
– Какой выкуп? – растерялся Степан. – Это и так моя вещь.
– Была ваша, стала наша, – ехидно сказал Сивый и, подразнивая Степана, стал ходить вокруг него, кривляясь и напевая:
Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный
Пошел на речку погулять.
Его поймали, арестовали,
Велели паспорт показать.
Паспорта нету,
Гони монету,
Монеты нет,
Садись в тюрьму.
Тюрьма закрыта
Доской забита…
– У меня нет выкупа, – сказал, нахмурившись, Степан.




