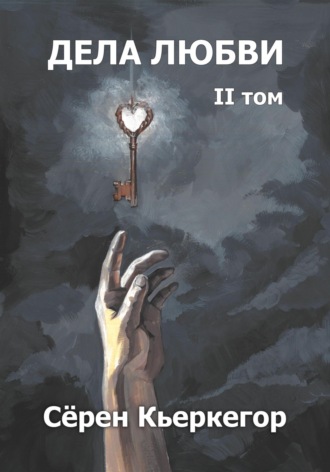
Сёрен Кьеркегор
Дела любви. Том II
Когда мы видим истинного любящего, обманутого хитрым, коварным и лицемерным человеком, мы возмущаемся, но почему? Иногда потому, что во внешнем не видим наказания и возмездия; то есть потому, что требуем удовлетворения в несовершенном и внешнем, где есть внешнее возмездие; опять же потому, что мы погружаемся на низший уровень представлений, и потому, что мы лениво и бездумно забываем, что истинно любящий не может быть обманут. Мы правы, когда взываем к тому, кто сбивает с пути слепого; здесь вполне уместно требовать наказания во внешнем; ибо слепого можно обмануть; слепой не защищён от всякого обмана; но истинно любящий, который верит всему, не может быть обманут. В определённом смысле любящий человек прекрасно знает, что его обманывают, но, не желая верить этому, или веря всему, он сохраняет себя в любви и таким образом не обманывается – следовательно, здесь можно увидеть пример того, насколько глупо, насколько неразумно думать, что знание выше веры; ибо главное, что защищает любящего, который в определённом смысле знает, что его обманывают, от обмана – это верить всему.
Истинно верующего, который верит всему, нельзя обмануть, ибо обмануть его – значит обмануть самого себя. Ибо что есть высшее благо и величайшее блаженство? Воистину, это, безусловно, любить; и ещё – быть поистине любимым. Но тогда невозможно обмануть любящего, который просто веря всему, пребывает в любви. Если бы можно было обмануть кого-либо с деньгами так, чтобы так называемый обманутый остался при своих деньгах, то был ли он обманут? Но в данном случае это именно так. Обманщик своими стараниями становится презренным человеком, а любящий сохраняет себя в любви, и в любви становится обладателем высшего блага и величайшего блаженства; и при этом не обманывается! Обманщик же, напротив, обманывает самого себя. Он не любит и тем самым уже обманул себя в отношении высшего блага и величайшего блаженства.
Следом за этим идёт: быть любимым тем, кто любит поистине – в противном случае быть любимым может стать для человека источником большого несчастья. И снова обманщик обманывает самого себя, поскольку он мешает себе получить истинное преимущество от этой любви, и поскольку, когда его обман обнаружится, он увидит, что растратил любовь другого человека, сделал любящего несчастным, перестав поистине любить – вместо того, чтобы, веря всему, пребывать в любви и быть защищённым от всякого обмана.
Пусть это когда-нибудь случится на наших глазах, чтобы стало действительно ясно, насколько жалким выглядит обманщик по сравнению с истинно любящим – ибо так много говорят об обольщении и обольстителях, об обмане и обманщиках, но так редко говорят или представляют истинно любящего. Итак, я представляю себе человека хитрого, коварного, лицемерного; мне доставляет удовольствие наделять его, посвящённого во все тайны обмана, всеми дарами обольщения. Что же он сделает теперь? Он желает обмануть любящего; он желает (ибо, несмотря на свою испорченность, у него достаточно здравого смысла, чтобы понять, какое великое благо быть любимым) с помощью своей хитрости добиться того, что его полюбят. Но к чему вся эта суета, эта совершенно излишняя трата хитрости и коварства? Он хочет обмануть истинно любящего, но истинно любящий любит всех, поэтому обманщику гораздо легче добиться того, чтобы его любили. Да, если бы мы говорили о земной любви (любви к себе), то в обмане был бы хоть какой-то смысл; ибо если возлюбленный может любить только одного-единственного человека, то можно с помощью обманного искусства хитрости и коварства стать этим единственным человеком. Но по отношению к истинно любящему обман с самого начала совершенно бессмыслен, обманщик с самого начала предстаёт в самом жалком свете. И ещё. Обманщику, естественно, удается быть любимым, естественно – да, обманщик думает и должен, естественно, думать, что это благодаря его хитрости, искусству и ловкости; бедный, обманутый обманщик! Он и не замечает, что имеет дело с истинно любящим, который любит его, потому что истинно любящий любит всех. В какую же бессмысленность попал теперь несчастный обманщик! Не так, если бы обман не удался; нет, это наказание было бы слишком лёгким; нет, обман удался, и обманщик гордится своим обманом! Но в чём же обман, о каком обмане он говорит? Конечно, обман в том, что, пока любящий любит его, он не только наслаждается тем, что его любят, но и холодно, гордо и насмешливо наслаждается самодовольством от того, что не любит в ответ. От него вполне естественно ускользает (ибо как обманщик может понять, что истинная любовь существует!), что он имеет дело с истинно любящим, который любит, не претендуя на взаимность, и справедливо оценивает любовь и её вечное блаженство, не требуя взаимности. Итак, обманщик хитростью заставил любящего полюбить его – но именно этого он так бесконечно желает. Обманщик, вероятно, обманул его, не отвечая взаимностью – но истинно любящий считает требование взаимности осквернением, унижением, и полагает, что любить без ответной награды – высшее блаженство.
Кто же становится жертвой обмана? О каком обмане идёт речь? Ибо обманщик говорит наобум и даже не понимает, что говорит, как тот человек, над которым мы все смеёмся, что он лежал в канаве и думал, что едет. Обманывать таким образом – разве это не то же, что называть воровством – класть деньги в карман человека? Истинно любящий становится богаче; ибо чем больше он любит и чем больше раз он отдаёт любовь, отказываясь от всякой мысли о взаимности, тем богаче он становится. Или же истинно любящий обманут, если не откроется, каким недостойным объектом любви является обманщик? Любить – высшее благо, но только тогда требующая воздаяния любовь, то есть любовь ложная, может быть обманута, когда она остаётся в неведении о недостойности объекта.
Разве истинный любящий обманут, если выяснится, каким недостойным объектом любви был и есть обманщик? Любить – это высшее благо и величайшее блаженство. Вы знаете, что нуждающийся в деньгах, желая получить их, обращается к человеку, которому он доверял и у которого думал, что есть деньги: он обманывается, если этот человек неплатежеспособен и у него нет денег. Но тот, кто желает отдать свои деньги и никоим образом не желает или не требует возврата, не обманывается – потому что у получателя нет денег. Но хитрый обманщик, движимый самыми мягкими и вкрадчивыми мотивами хитрости, не замечает, как неуклюже он себя ведёт. Он считает себя выше, он самодовольно улыбается про себя (увы, как если бы вы видели самодовольную улыбку безумца, над которой можно и смеяться, и плакать!); он и не подозревает, что любящий бесконечно выше. Обманщик ослеплён, он даже не замечает своего страшного бессилия: его обман удался – и он делает доброе дело; его обман удался – и он делает истинно любящего еще богаче; его обман удался, он преуспевает – и всё же обманут только он сам. Бедный обманутый! Даже этот путь ко спасению отрезан от него – чтобы его обман не удался! Если бы сумасшедший захотел убедить здравомыслящего человека в правильности своих безумных мыслей и в какой-то степени добился успеха, разве это не было бы самым ужасным из всего, разве это не было бы почти жестокостью существования, ибо если бы его обман не удался, тогда безумный мог бы осознать, что он безумен; но теперь это скрыто от него, и его безумие действительно неизлечимо. Так и с обманщиком; но это не жестокое, но справедливое наказание для него за то, что его обман удался – и в этом его погибель.
В чем же тогда истинный спор между обманщиком и любящим? Обманщик желает обманом выманить любовь у любящего. Это невозможно; истинно любящий, не требуя ни малейшей взаимности, занял неприступную позицию. Обмануть его в любви возможно не более, чем обхитрить человека в деньгах, когда он готов отдать и отдаёт их в дар. Поэтому на самом деле спор идёт о другом: возможно ли, чтобы обманщик (чего он ни в коем случае не собирается и о чём не догадывается), стал причиной падения любящего, так что тот отпал от любви и погрузился в мир иллюзий, в детский спор с обманщиком, из-за того, что любящий отказался от любви, которая любит, не требуя взаимности. Однако истинно любящий оберегает себя от этого тем, что верит всему, а значит, любит обманщика. Если бы обманщик мог понять это, он потерял бы рассудок. Земной любящий (любящий себя) считает себя обманутым, когда обманщик заставил его полюбить себя, а сам больше не любит, но истинно любящий считает себя спасённым, когда, веря всему, ему удаётся полюбить обманщика; земной любящий считает несчастьем продолжать любить обманщика, истинный любящий считает победой, если ему удаётся продолжать любить обманщика. Замечательно! Обманщик должен всё более и более тщеславиться тем, что его обман столь необычайно успешен; в конце концов это, вероятно, закончится тем, что он будет считать любящего бедным, недалёким, глупым негодяем. И всё же именно благодаря этому истинно любящий вечно и бесконечно защищен от обмана! Знаете ли вы, мой слушатель, более сильное выражение превосходства, чем то, когда превосходящий выглядит как более слабый? Ибо более сильный, который выглядит более сильным, устанавливает стандарт превосходства; но тот, кто, будучи более сильным, выглядит более слабым, отрицает стандарт и сравнение, то есть он бесконечно выше. Разве вы никогда в жизни не видели этого отношения бесконечного превосходства, которое, безусловно, явно нельзя увидеть, ибо бесконечное никогда нельзя увидеть непосредственно? Возьмите человека, который бесконечно превосходит других в интеллекте, и вы увидите, что он выглядит как простой, обычный человек; только тот, кто думает, что у него больше интеллекта, чем у других, но не вполне уверен в этом, или настолько ограничен и глуп, чтобы хвастаться сравнительными отношениями превосходства, старается создать видимость превосходства интеллекта.
Так и с любящим, который верит всему. Его так легко можно принять за ограниченного, но в этой простоте – глубина мудрости; его так легко можно принять за слабого, но в этом бессилии – сила вечности; он так легко может казаться бедным, одиноким человеком, которого любой может обмануть; и всё же он единственный, кто вечно и бесконечно защищён от обмана. Но мы не видим этого; говоря по-человечески, заблуждение довольно близко, особенно в наше мудрое время, которое стало слишком мудрым, чтобы верить в мудрость. Заблуждение близко, потому что любящий, который верит всему, не проявляется сразу, он подобен тем растениям, чей рост происходит втайне: он дышит Богом, он черпает питание для своей любви от Бога, он укрепляется Богом. То, что в человеческом понимании он обманут, он в определённом смысле видит и сам; но он знает, что обман и истина простираются одинаково далеко, и что всё же возможно, что обманщик не был обманщиком, и поэтому он всему верит. Для этого любящий обладает мужеством, мужеством верить всему (поистине высочайшее мужество!), мужеством переносить презрение и пренебрежение мира (поистине величайшая победа, больше, чем любая победа, одержанная в мире, ибо она побеждает мир!), мужество переносить, что мир находит его столь неописуемо глупым, тогда как он всё же прекрасно понимает то, из чего он делает своё заключение, но не своё заключение; он понимает даже больше, чем недоверчивый мир может понять вечное блаженство, которое имеет в себе истинно любящий.
Предположим, однако, что однажды в вечности окажется, что любящий действительно был обманут! Как – неужели это нужно повторять ещё раз? Когда любовь – наивысшее благо и величайшее блаженство, когда любящий, просто веря всему, пребывает в блаженстве любви, как же тогда, во времени или в вечности, он может быть обманут? Нет, нет, во времени и в вечности в отношении истинной любви возможен только один обман – самообман, или отказ от любви. Поэтому истинный любящий даже не поймет возражения. Увы, но остальным, напротив, сделать это слишком легко; ибо так трудно вырваться из низшего круга идей и завета мирских страстей с иллюзиями. Именно тогда, когда человек лучше всего понял истинное, старое вдруг вновь настигает его. Бесконечное, вечное, то есть истинное, настолько чуждо естественному человеку, что он подобен собаке, которая на мгновение может научиться ходить на двух лапах, но постоянно, однако, стремится идти на всех четырёх. Можно почти заставить разум человека признать, что, поскольку обман распространяется безоговорочно так же далеко, как и истина, один человек не может судить другого, но судящий только проявляет себя – подобно тому, как человек со всей силы ударяет по динамометру и, не зная, что это динамометр, думает, что наносит удар, а на самом деле только измеряется его сила. И когда человек это понимает, он может найти ещё одну отговорку; может странным образом держаться вечности, рассчитывая на то, что в вечности проявится, действительно ли он был обманщиком. Но что это доказывает? Это доказывает, что не является истинно любящим ни тот, кто не имеет в себе вечное блаженство любви, ни тот, кто не имеет истинное представление о серьёзности вечности. Если человек поддаётся этому порыву, то он немедленно увлекает его на низший уровень ограниченности, где последняя и высшая цель – не блаженство самой любви, но споры софистики. Но истинно любящий всему верит – и всё же никогда не обманывается.
III
ЛЮБОВЬ ВСЕГО НАДЕЕТСЯ – И ВСЁ ЖЕ НИКОГДА НЕ ПОСТЫДИТСЯ
«Любовь всего надеется». 1 Кор. 8:7
Множеством притч и символов речи Священное Писание пытается различными способами придать нашему земному существованию достоинство и торжественность; дать ему обрести воздух и перспективу через приобщение к вечному. И это действительно необходимо. Ибо когда оставленная Богом суета земной жизни замуровывается в гордом самодовольстве, этот спёртый воздух сам по себе вырабатывает яд. И когда в нашем временном существовании время в определённом смысле течёт так медленно, и в то же время так неуловимо быстро, что мы никогда не замечаем его течения; или когда мгновение замирает и останавливается; когда всё, абсолютно всё сговаривается обратить наши мысли и нашу энергию в служение мгновению – тогда перспектива теряется, и это отрешённое, забытое Богом мгновение временного существования, будь оно длиннее или короче, означает отпадение от вечного. Вот почему в разные времена так часто ощущалась потребность в освежающем, вдохновляющем, бодрящем дуновении, мощном порыве ветра, способном очистить воздух и рассеять ядовитые испарения; потребность в спасительном импульсе великих событий, которые спасают, взбудораживая застой; потребность в оживляющей перспективе великого ожидания – чтобы не задохнуться в мирском и не погибнуть в этом удушающем мгновении!
Но христианство знает только один путь и один выход, причём оно всегда знает один путь и один выход; именно с помощью вечности христианство в любой момент может обрести воздух и видение. Когда давление суеты усиливается именно потому, что мгновение растягивается, когда она стремительно мечется в мгновении, которое в понимании вечности стоит на месте, когда труженики сеют, и жнут, и снова сеют, и снова жнут (ибо суета пожинает многократно), когда труженики наполняют свои житницы собранным урожаем и заслуженно почивают – тогда как увы! человек, поистине желающий добра в это же время не видит ни малейшей награды за свой труд и становится посмешищем, как тот, кто не умеет сеять, как тот, чей труд напрасен и кто только сотрясает воздух – тогда христианство своей притчей дает видение, что земная жизнь – время сеяния, а вечность – время жатвы. Когда мгновение, именно потому, что оно стоит на месте, становится похоже на водоворот (ибо водоворот не движется вперёд), когда в нём происходят борьба, победа, поражение, и снова победа, то в одной, то в другой точке – но тот, кто воистину желает добра, он единственный теряет, и теряет, как кажется, всё: тогда христианство притчей даёт видение, что эта земная жизнь – время скорби, борьбы, а вечность – время победы. Когда мгновение замирает в жалком сплетении ограниченности, которое насмешливо подражает самому святому, доброму, истинному в жалком принижении, насмешливо играет в раздачу чести и позора; когда всё становится тщеславным, будучи втянутым в эту жалкую запутанную суматоху – тогда христианство даёт воздух и видение, придаёт жизни достоинство и торжественность, с помощью притчи указывая ту сцену в вечности, где будет навечно решаться, кто получит венец славы, а кто будет предан позору.
Какой торжественно-серьёзный праздник! Воистину, что такое честь и позор, если бы окружение не придавало чести и позору бесконечный смысл? Даже если бы человек заслуженно удостоился чести здесь, в мире, какую серьёзность должен иметь мир, чтобы придавать этому значение! Предположим, что ученик заслуженно опозорен или заслуженно удостоен почестей; если бы торжественная церемония проходила на лестнице; если бы учитель, раздающий честь и позор, был жалким человеком; если бы никто или почти никто не был приглашён из тех высокопоставленных лиц, которые почтили бы праздник своим присутствием, но только ещё большее число простых людей, чья репутация была, мягко говоря, неоднозначна: что же тогда честь и позор? Но вечность! Знаете ли вы хоть один зал торжеств, чьи своды столь же величественны, как своды вечности? Знаете ли вы хоть один, хоть один храм, где царит такая священная тишина, как тишина вечности? Знаете ли вы хоть один, хоть один самый избранный круг почтенных людей, которые были бы настолько уверены, что здесь нет никого, против кого честь могла бы иметь хоть малейшее, самое малое возражение, настолько уверены, что здесь нет никого, кроме тех, кого честь почитает, как вечность? Знаете ли вы хоть один зал торжеств, хотя бы он был и с зеркальными стенами21, который бы так бесконечно и исключительно соответствовал требованиям чести, который бы так бесконечно не допускал бы даже самой маленькой, самой незаметный щёлки, в котором может спрятаться бесчестье, как вечность? – и если там вас выставят на позор!
Таким образом, в отношении чести и бесчестия христианство каждому мгновению даёт перспективу с помощью вечности, если вы сами будете надеяться. Христианство не возносит вас на высоту, с которой у вас откроется более широкий обзор: это лишь земная надежда и земная перспектива. Нет, надежда христианства – это вечность, и поэтому в его картине бытия есть свет и тень, красота и истина и, прежде всего, открытость перспективы. Надежда христианства – это вечность, и Христос – это Путь; Его унижение— это Путь, но и когда Он вознёсся на небеса, он также остаётся Путём. Но любовь, которая выше веры и надежды, берёт на себя дело надежды, или берёт на себя дело надеяться для других, как задачу. Она сама назидается и питается этой надеждой на вечность, а затем с любовью действует и по отношению к другим в этой надежде, которую мы сейчас и рассмотрим:
ЛЮБОВЬ ВСЕГО НАДЕЕТСЯ – И ВСЁ ЖЕ НИКОГДА НЕ ПОСТЫДИТСЯ.
Ибо воистину не всякий, кто всего надеется, тем самым является любящим; и не всякий, кто всего надеется, тем самым защищён от того, что он никогда не постыдится; но с любовью всего надеяться – противоположно тому, чтобы в отчаянии вообще ни на что не надеяться, ни для себя, ни для других.
Надеяться всего, или, что то же самое, надеяться всегда. Конечно, на первый взгляд кажется, что всего надеяться можно раз и навсегда, поскольку «всё» объединяет многообразие в одно, притом в то, что можно было бы назвать вечным моментом, как будто надежда покоится в безмятежности. Однако это не так. Ибо надежда – это синтез вечного и временного; отсюда следует, что задача надежды в форме вечности выражается в том, чтобы надеяться всего, в форме временного – надеяться всегда. Одно выражение не истиннее другого; напротив, каждое выражение становится ложным, если оно противопоставляется другому, вместо того чтобы объединиться в одно: в каждое мгновение всегда надеяться всего.
Надежда относится к будущему, к возможности, которая, опять же в отличие от действительности, всегда двойственна – возможность развития или упадка, созидания или разрушения, добра или зла. Вечность «существует»; но когда вечность соприкасается с временным или находится во временном, они не встречаются друг с другом в «настоящем», ибо тогда само настоящее было бы вечным. Настоящее, мгновение, так быстро проходит, что на самом деле оно не существует, оно существует только как разделительная линия, и, потому это прошедшее, в то время как прошедшее – то, что было настоящим. Поэтому, когда вечное пребывает во временном, то оно пребывает в будущем (ибо настоящее не может удержать его, а прошедшее миновало), или в возможности. Прошедшее – это действительное, будущее – возможное; вечное – это бесконечно вечное; во времени вечное – это возможное, будущее. Поэтому мы называем будущим завтрашний день, но мы также называем будущим и вечную жизнь. Возможное как таковое всегда двойственно, и вечное в возможности соотносится с его двойственностью. С другой стороны, когда человек в отношении возможного относится к двойственности возможного, то мы говорим: он ожидает. Ожидание содержит в себе ту же двойственность, что и возможное, а ожидать – значит относиться к возможному чисто и только как к таковому. На этом отношения расходятся, поскольку ожидающий человек делает выбор. Ожидание возможности добра – это надежда, и именно поэтому надежда не может быть временным ожиданием, но является вечной надеждой. Ожидание возможности зла – это страх. Но и надежда, и страх – это ожидание. Но как только выбор сделан, возможность изменяется, ибо возможность добра есть вечное. Только в момент прикосновения двойственность возможного становится равной. Поэтому принимая решение выбрать надежду, человек решает бесконечно больше, чем кажется, ибо это решение вечное. Только в простой возможности, то есть, для просто или безразлично ожидающего, возможности добра и зла равны; в проведении различия (а выбор – это проведение различия) возможность добра больше, чем возможность, ибо это вечное. Отсюда следует, что тот, кто надеется, никогда не постыдится; ибо надеяться – значит ожидать возможности добра, но возможность добра – это вечное.
Таким образом, нужно более точно определить, что такое надежда, ибо в обыденной речи мы часто называем надеждой то, что отнюдь не является надеждой, но желанием, страстным стремлением, томительным ожиданием то одного, то другого, короче говоря, ожиданием многообразия возможностей. При таком понимании (когда надежда на самом деле означает лишь ожидание) юноше и ребёнку очень легко надеяться, потому что юноша и ребёнок сами ещё являются возможностью. И, с другой стороны, это опять-таки в порядке вещей, когда видишь, как с годами в людях обычно уменьшается возможность, иди ожидание возможности, и надежда. Этим можно объяснить, почему опытные люди так пренебрежительно отзываются о надежде, как будто она принадлежит только юности (как, конечно, надежда юноши и ребёнка), как будто надежда, как и танец —это что-то юношеское, чего пожилые люди и не любят и не умеют делать. О да, легко надеяться, как и делать с помощью вечного, то есть с помощью возможности добра. И даже если вечность – далеко не юность, она всё же имеет гораздо больше общего с юностью, чем с угрюмостью, которую часто почитают за серьёзность, чем с замедлением лет, которое при довольно благоприятных условиях само по себе вполне довольно и спокойно, но при всём при этом ему не на что надеяться; а в неблагоприятных условиях скорее склонно раздражённо брюзжать, чем надеяться. В юности у человека достаточно ожиданий и возможностей, в юности они развиваются сами собой, как драгоценная мирра, стекающая с деревьев Аравии. Но когда человек становится старше, его жизнь, как правило, превращается в скучное повторение и пересказ одного и того же; никакая возможность не пугает его пробуждение, никакая возможность не оживляет, не омолаживает; надежда становится чем-то ненужным, и возможность – чем-то столь же редким, как зелень зимой.
Человек живёт без вечного с помощью привычки, мудрости, подражания, опыта, обычая и использования. И воистину, возьмите всё это, смешайте вместе, поставьте на тлеющий или просто по-земному пылающий огонь страсти, и вы увидите, что из этого можно получить всё, что угодно, разнообразно приготовленную вязкую слизь, называемую разумной жизнью. Но никто никогда не получит из этого никакой возможности, возможности, той замечательной возможности, которая так бесконечно нежна (даже нежнейший весенний побег не так нежен!), так бесконечно тонка (даже тончайшее тканое полотно не так тонко!), и всё же вызвана вечностью, создана вечностью и поэтому сильнее всего, если это возможность добра.
Можно рассуждать на основе опыта, разделяя жизнь человека на определённые периоды и годы и затем называя первый период временем надежды или возможности. Что за глупость! Таким образом, говоря о надежде, человек совершенно упускает из виду вечное, и всё же при этом говорит о надежде. Но как это возможно, если надежда опирается на возможность добра, а значит, и на вечное? А с другой стороны, как можно говорить о надежде так, будто она принадлежит исключительно определённому возрасту? Ибо вечность простирается, безусловно, на всю жизнь, так что надежда есть и всегда должна быть до последнего, поэтому нет возраста, который был бы возрастом надежды, но вся жизнь человека должна быть временем надежды! Также на основе опыта можно рассуждать о надежде – отбрасывая вечное. Как в театре, сокращая время и сгущая события, можно за несколько часов увидеть события многих лет, так же театрально человек желает устроить всё во временном существовании. Отвергается Божий план существования: временное существование – это безопасное и здоровое развитие, усложнение – растворение в вечности. Всё это устраивается в пределах временного существования, тратится несколько лет на развитие, затем десять лет на усложнение существования; затем в какой-то год слишком туго затягивают узел, а затем наступает растворение. Бесспорно, смерть – это тоже распад, и затем она проходит, человека хоронят – но не раньше, чем произойдет распад тления. Но поистине тот, кто не хочет понимать, что вся его жизнь должна быть временем надежды, находится в отчаянии, независимо от того, совершенно независимо от того, знает он об этом или нет, счастлив ли он в своем мнимом благополучии или томится в скуке и тяжком труде. Тот, кто отвергает возможность того, что его существование в следующее мгновение будет растрачено – если он не отвергает эту возможность потому, что надеется на возможность добра; то есть каждый, кто живет без возможности, находится в отчаянии, он порывает с вечным, он самовольно закрывает возможность, он без согласия с вечностью полагает конец там, где нет конца; вместо того чтобы уподобиться человеку, пишущему под чужую диктовку, который постоянно держит перо наготове для следующего слова, чтобы не вздумать бессмысленно поставить точку, не дождавшись завершения мысли, или по-бунтарски отбросить перо.
Когда кто-то хочет помочь ребёнку справиться с очень трудной задачей, что он делает? Конечно, он не ставит перед ребёнком всю задачу сразу, чтобы ребёнок не отчаялся и не потерял надежду её выполнить. Он поручает понемногу, но всегда достаточно, чтобы ребёнок не останавливался, как будто он закончил, и в то же время не так много, чтобы он не смог с ней справиться. Это и есть деликатный обман образования; он действительно что-то сдерживает. Если ребёнка обманывают, разве потому, что учитель – это человек, который не может ответить за следующий шаг? Но вечность! Это, конечно, величайшая задача, поставленная перед человеком, и, с другой стороны, она может поручиться за то, что будет в следующий момент; а дитя временного существования (человек) ведёт себя как малое дитя по отношению к бесконечной задаче! Если бы вечность сразу, на своём языке поставила перед человеком задачу, не считаясь с его опасениями и ограниченными возможностями, то человек пришёл бы в отчаяние. Но тогда поистине удивительно, что эта величайшая сила, вечность, может настолько умалиться, настолько разделиться, так что то, что вечно едино, облекаясь в форму будущего, возможного, и с помощью надежды воспитывает дитя временного существования (человека), учит его надеяться (ибо надежда сама по себе есть воспитание, есть приобщение к вечному), если потом он не решит совершенно добровольно унывать из-за страха, или дерзко не выбрать отчаяние, то есть уклониться от воспитания возможности. В правильном понимании, в возможности вечность даёт лишь небольшую часть за один раз. Вечность в возможном всегда достаточно близка, чтобы быть под рукой, и в то же время достаточно далека, чтобы человек мог двигаться вперёд, продвигаться к вечному. Так вечность влечет и манит человека возможностью от колыбели до могилы, если он только выбирает надежду. Ибо возможность, как было сказано, двойственна, и именно поэтому она является истинным воспитанием; возможность столь же строга или может быть столь же строгой, сколь и мягкой. Надежда не обязательно заключается в возможности, ибо в ней может заключаться и страх. Но тот, кто выбирает надежду, того возможность, с помощью надежды, учит надеяться. Тем не менее возможность страха, строгость остаётся, скрыто присутствуя как возможность, если она необходима для воспитания, для пробуждения; но она остаётся сокрытой, в то время как вечное привлекает с помощью надежды. Ибо привлекать – это быть столь близким, сколь и далёким, благодаря чему надеющийся всегда продолжает надеяться, надеясь всего, сохраняясь в надежде на вечное, которое во временном существовании есть возможное.
Так же и надеяться всего. Но с любовью надеяться всего означает отношение любящего к другим людям, что по отношению к ним, надеясь для них, он всегда держит возможность открытой, бесконечно предпочитая возможность добра. Значит, он с любовью надеется, что в любой момент существует возможность, возможность добра для другого человека; и что эта возможность добра теперь означает все более и более славное возрастание в добре от совершенства к совершенству, или восстановление после падения, или спасение от погибели и так далее.
То, что любящий прав, говоря, что в каждый момент существует возможность, осознать легко. Увы, но многим, возможно, было бы намного легче понять это, если бы мы позволили отчаянию сказать то же самое – ибо отчаяние в некотором смысле говорит то же самое. Отчаявшийся человек также знает, что заключается в возможности, и всё же отказывается от неё (ибо отказ от возможности как раз и означает отчаяние), или, вернее, дерзко смеет предполагать невозможность добра. Здесь снова оказывается, что возможность добра – это больше, чем возможность; ибо если человек осмеливается предполагать невозможность добра, то для него исчезает всякая возможность. Боязливый не предполагает невозможности добра; он боится возможности зла, но не делает из этого выводов, не осмеливается допустить невозможность добра.


