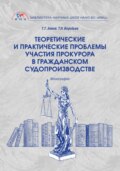Тигран Тигранович Алиев
Концентрация доказательств в гражданском судопроизводстве
При этом в литературе не оспаривается, что концентрация доказательств наиболее явно должна проявлять себя на такой стадии как судебное разбирательство. Именно здесь суд имеет возможность обозреть предварительно представленный материал, изучить его, оценить с тем, чтобы в дальнейшем не происходило затягивание судебного разбирательства при рассмотрении и разрешении гражданского дела по существу[41].
Кроме того, необходимо сказать о о позиции Комитета министров Совета Европы, которая нашла собственную фиксацию в одном из принципов гражданского судопроизводства, направленных на совершенствование судебной системы. В соответствии с данным принципом «суд должен, по крайней мере, в ходе предварительного заседания, а если возможно и в течение всего разбирательства, играть активную роль в обеспечении быстрого судебного разбирательства, уважая при этом права сторон, в том числе и их право на беспристрастность. В частности, он должен обладать правом, чтобы требовать от сторон предъявления таких разъяснений, которые могут быть необходимыми; требовать от сторон личной явки; требовать свидетельские показания, по крайней мере, в тех случаях, когда речь идет не только об интересах сторон»[42] и т. д.
Сказанное частично корреспондирует предварительному судебному заседанию, которое не всегда проводится в рамках подготовки дела к судебному разбирательству. Те случаи, которые сегодня приведены в законе как основания проведения предварительного судебного заседания дают возможность сконцентрировать доказательственный материал касательно реализации принципа диспозитивности, прекращения производства по делу или оставления заявления без рассмотрения. Иными словами, концентрация доказательств может иногда свидетельствовать и о том, что нет особой надобности переходить в стадию судебного разбирательства и продолжать процессуальное функционирование. Именно поэтому законодатель позволяет в предварительном судебном заседании принимать решение по делу, например при установлении того, что лицо без уважительных причин пропустило срок исковой давности или не просит его восстановить[43].
Так, Е.А. Борисова приводит следующее замечание Ф. Кляйна, «подготовительное заседание в значительной степени разгружает процесс и одновременно уменьшает опасность того, что разбирательство остановится на полпути или должно будет прерваться. Подготовительное заседание служит концентрации действий не только благодаря немедленному разрешению и исключению чисто процессуальных спорных вопросов, но и является прототипом концентрации содержания процесса, так как выявляет все существенное и несущественное для разбирательства спора или препятствующее его проведению»[44].
Таким образом, в литературе правильно указывается на то, что цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству должны быть максимально верно определены законодателем[45], ничто не должно мешать судье их надлежащим образом достигать и осуществлять[46]. Справедливо писал А.А. Мельников и другие авторитетные ученые «идеальная цель хорошей подготовки дела к судебному разбирательству – это возможность рассмотрения дела в одном судебном заседании с вынесением судебного решения»[47].
Кроме того, О.В. Иванов указывал на то, что если недостаток доказательств будет обнаружен при разбирательстве дела, даже при вынесении решения, он может быть восполнен собиранием новых доказательств[48]. Однако такой вариант нежелателен, так как он приведет к отложению разбирательства дела, к задержке его разрешения и не будет соответствовать требованиям принципа процессуальной экономии. Поэтому суд должен стремиться к тому, чтобы до начала судебного разбирательства собрать доказательства, достаточные для установления истины в ходе его[49]. А определить предварительно достаточность доказательств – это отнюдь не легкая задача, которая решается чисто логическими способами. Следовательно, в ходе подготовки дела к разбирательству судья должен совершить определенные действия, направленные на отыскание необходимых доказательств и обеспечение возможности исследования их в рамках судебного разбирательства.
Если развивать вышеуказанное положение, то следует уточнить что деятельность по сбору – представлению новых доказательств сама по себе должна занимать одно и тоже количество времени и требовать одного и того же количества ресурсов на какой бы стадии оно не происходила[50]. Однако, если после отложения дела и получения новых доказательств разбирательство дела начинается сначала (как того требует ч. 3 ст. 169 ГПК РФ); проведенные до этого судебные заседания в рамках судебного разбирательства теряют свою значимость, в сущности своей, становясь подготовкой дела к судебному разбирательству[51].
«В силу того, что правила проведения подготовки дела к судебному разбирательству, значительно мягче правил проведения судебного разбирательства, особенно в части явки обеих сторон, свидетелей, экспертов, а также извещений, с учетом того, что принцип непрерывности на стадии подготовки дела к судебному разбирательству не предусмотрен, налицо нерациональность использования процедур судебного разбирательства фактически в целях подготовки к разбирательству»[52]. В данном случае, по нашему мнению, можно говорить как о нарушении требований принципа процессуальной экономии, так и об отрицании начала концентрации доказательств. Впрочем, некоторые авторы придерживаются несколько иной точки зрения, к примеру, А.Ф. Воронов пишет, что «по своей сути принцип концентрации … сильно напоминает принцип непрерывности судебного заседания в его сегодняшнем понимании»[53].
В том же случае, когда согласно ч. 4 ст. 169 ГПК РФ разбирательство дела не начинается сначала, а по сути, просто продолжается; или разбирательство дела начинается сначала лишь формально путем упоминаний, а не воспроизведения, то вполне логично выглядит ситуация, при которой судья выносит решение, основываясь на ранее подробно изученных, предварительно им оцененных (а если отложение произошло непосредственно перед вынесением решения – то, скорее, окончательно оцененных) доказательствах, фактически не учитывая новые доказательства (изученные, быть может, в спешке или из-за нежелания нарушать установленные законодательством сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел). Или же судья выносит решение, основываясь исключительно на новых доказательствах, попросту забыв сведения, полученные заблаговременно или / и не прослеживая взаимосвязи доказательств новых и ранее изученных. При таком варианте развития событий, говорить о нарушении требовании экономии процессуальных средств, думается не совсем уместно. Ведь происходит нарушение нормы права, обязывающей выносить обоснованные судебные решения. В данном контексте не так важно было ли нарушение совершенно по халатности или вследствие объективных причин. Но важен факт нарушения правила, установленного в интересах всего общества, и как следствие важно выявление возможности нарушения этих публичных интересов в дальнейшем, ибо под угрозу ставится правило законности[54]. В связи с этим проблему судебных ошибок в принципе невозможно свести к затратам ресурсов (материальных, трудовых, временных), необходимых на устранение негативных последствий судебных ошибок[55], а следовательно, и к какой-либо экономии. Исправить ситуацию должно проведение идеи концентрации доказательств, которая помимо прочих целей, направлена на установление истины по делу.
Приведем пример, иллюстрирующий допущение подобных ошибок. Для нас в настоящей работе будет весьма актуален и интересен следующий практический случай, описанный А.Т. Боннером. Суд второй инстанции не принял доводы кассационной жалобы, которая была подана высшим учебным заведением по иску о защите чести и достоинства к одному из средств массовой информации и и автору публикации. Жалоба была подана в связи с отсутствием надлежащей концентрации доказательств и наличием логически оторванных друг от друга оценочных выводов. Поскольку решение суда было вынесено без материалов дела и протокола судебного заседания. Тем не менее «отказывая в иске, судья сослался на объяснения Р. и представителя газеты, которые они на самом деле не давали и которые, естественно, не были зафиксированы в протоколе судебного заседания»[56].
Приведенный пример рельефно отражает ситуацию абсолютного отклонения или несоблюдения судом (хотя неумышленного и неосознанного) принципа концентрации доказательств: между этапом исследования и свободной оценки всей совокупности доказательств и юридически значимых фактов, а также этапом подготовки и вынесения решения произошел существенный временной разрыв[57]. Если говорить об этом с точки зрения психологии, информация, запечатленная в кратковременной памяти, была бесследно утеряна, что не имело бы место при следовании судьей началу концентрации доказательств. Совершенно справедливо в свое время писал Е.В. Васьковский, что «… суд может составить себе гораздо более ясное и правильное представление о деле в том случае, когда в одном и том же заседании, непосредственно перед принятием решения, допросит всех свидетелей, рассмотрит все документы, сопоставит их между собой»[58].
Е.С. Шумейко утверждает, что «наиболее серьезной причиной, влекущей впоследствии отмену судебного акта в апелляционном, кассационном надзорном порядке является несоблюдение на стадии подготовки гражданских дел к судебному разбирательству принципа законности. Разновидностью нарушения принципа законности на стадии подготовки дела является невыполнение задач, установленных ч. 2 ст. 141 ГПК, например, это ошибки в определении доказательств, которые каждая сторона должна предоставить в обоснование своих требований или возражений»[59].
Однако, на наш взгляд, рассмотрение нарушений правил подготовки дела к судебному разбирательству в качестве нарушения принципа законности представляется излишне широким, т. к. любое нарушение нормативно установленных правил, являющихся при этом выражением других принципов, является нарушением законности. Поэтому, думается, что в случае, на который указывает Е.С. Шумейко, нарушен принцип состязательности, а равно требования способствующие концентрации доказательств, поскольку ошибка в определении доказательств, которые сторона должна предоставить при подготовке дела к судебному разбирательству, приводит к недостаточности доказательств на момент начала судебного разбирательства[60].
Как верно отмечал К.С. Юдельсон, во-первых, судья обязан обеспечить ко дню слушания дела все необходимые доказательства для установления обстоятельств и отношений, действительно имевших место в прошлом, и, во-вторых, обеспечить возможность исчерпывающего рассмотрения дела в одном судебном заседании, с вынесением законного и обоснованного судебного решения. «Отложение дел в результате их неподготовленности является большим злом в работе судебных органов. Непроизводительно тратится время участниками процесса, которые должны снова и снова являться в суд; бесполезно расходуется время самого суда, а производство по делу перерастает в недопустимую волокиту, вследствие которой законные права и интересы не получают надлежащей защиты»[61].
Интересно, что в итоге первых лет применения первого ГПК РСФСР Пленум Верховного суда РСФСР в своем разъяснении от 1 апреля 1929 г. «О необходимых для разбора дела доказательствах, подлежащих истребованию в порядке предварительной подготовки дела к слушанию»[62], на которое обращал внимание К.С. Юдельсон, констатировал: «Практика судов показывает, что многократное откладывание дела слушанием и вследствие этого затяжка дела в суде очень часто происходит вследствие того, что сторонами не представляются в первое же заседание суда необходимые доказательства». Как следствие «судья (или член суда), принимая исковое заявление, обязан, смотря по характеру спора, предложить истцу представить не позднее слушания дела необходимые для разрешения спора доказательства». Верховный Суд РСФСР в своем постановлении в тот период видел причину многократного отложения гражданских дел еще и в другом, считая, что «происходит это (отложение) вследствие того, что стороны очень часто являются в судебные заседания, не зная заранее, какие понадобятся доказательства». Безусловно, сказанное актуально и для современного гражданского судопроизводства.
Кроме всего прочего отметим, что отдельный параграф в указанной нами выше работе К.С. Юдельсона называется «Обеспечение возможности исследования всех доказательств в одном судебном заседании». Это идентично ранее упоминавшимся формулировкам концентрации доказательств. Сюда ученый относил не только действия судьи по вызову сторон, свидетелей, экспертов и других лиц; по затребованию письменных доказательств; но назначение и производство экспертизы, местного осмотра. При этом подчеркивалось, что от выполнения судьей всех этих обязанностей в области доказывания зависит не только возможность рассмотрения дела в одном заседании, но и полнота его рассмотрения[63]. Любопытно, что этап исследования (проверки) доказательств К.С. Юдельсон связывал с тремя способами исследования доказательств:
1) разысканием новых, подкрепляющих или ослабляющих доказательств;
2) сопоставлением с другими материалами (обнаружение совпадений или противоречий);
3) анализом доказательств по существу в целях установления их достоверности и определения связи с предметом доказывания (относимости)[64].
Если согласиться с подобным делением, то концентрация доказательств предполагает использование первого способа в основном на стадии подготовки дела, второго – в основном на стадии судебного разбирательства, а третьего на обеих стадиях в равной мере. Подобное распределение обуславливает прохождение этапа, следующего за исследованием, – оценки доказательств как на стадии подготовки, так и на стадии судебного разбирательства, отсюда вытекают понятия «предварительная оценка доказательств» и «окончательная оценка доказательств».
В.К. Пучинский полагал, что «образцово провести подготовку, – значит совершить все, что требуется для установления истины по делу, вынесения законного и обоснованного решения в первом же судебном заседании»[65]. В этом просматривается отношение данного ученого к установлению истины по делу (в первом судебном заседании с вынесением решения) как к некоему труднодостижимому идеалу. Это подтверждается дальнейшими утверждениями по поводу того, что не всякое изменение предмета доказывания во время рассмотрения дела по существу можно считать результатом неудовлетворительно проведенной подготовки дела: изменение иска, предъявление встречного иска, вступление в процесс третьих лиц с самостоятельными требованиями и некоторые другие действия сторон зачастую до судебного заседания нельзя предвидеть и надлежащим образом к ним подготовиться[66]. Конечно, следует согласиться, что предусмотреть подобные события даже для опытного судьи зачастую весьма непросто, но утверждение, что на стадии подготовки этого предусмотреть нельзя, вряд ли можно разделить.
Л.А. Ванеева, рассматривая стадию подготовки дела к судебному разбирательству, выделяет следующие действия суда, необходимые для обеспечения судебного разбирательства всем необходимым доказательственным материалом. В частности, судья в стадии подготовки дела к судебному разбирательству обязан:
1) определить предмет доказывания по делу;
2) решить вопрос о том, какие доказательства должны быть исследованы при рассмотрении дела по существу;
3) обеспечить возможность исследования этих доказательств в одном судебном заседании.
Но в основном, в качестве средства по обеспечению возможности исследования доказательств в одном судебном заседании, Л.А. Ванеева рассматривает извещение сторон, лиц, участвующих в деле, свидетелей и других участников процесса о времени и месте рассмотрения дела; истребование или выдачу запросов на получение доказательств для представления в суд; обеспечение доказательств, направление другим судам судебных поручений. Кроме того, она указывает на важность своевременного решения вопроса о проведении экспертизы, когда требуются специальные знания для выяснения отдельных вопросов, и необходимость выяснить отношение лиц, участвующих в деле, как к назначению экспертизы, так и к эксперту, что исключит возможность отвода эксперта в судебном заседании[67].
«Судья, устанавливая время судебного заседания, подтверждает, что он сделал все необходимое для подготовки дела к разбирательству, и у суда окажется достаточно материалов для постановления решения»[68]. Но каждое конкретное дело, рассматриваемое судом, имеет свои особенности, поэтому и для подготовки дела к судебному разбирательству не может быть установлено обязательных приемов, конкретных правил, с помощью которых судья в каждом конкретном случае мог бы безошибочно подготовить необходимый доказательственный материал. Общая же методика либо находит закрепление в законе, либо вырабатывается практикой и находит освещение в юридической литературе, как, например, методика определения предмета доказывания[69].
С вопросами концентрации доказательств тесно связан вопрос о предварительной оценке доказательств, которая осуществляется на стадии подготовки дела к судебному разбирательству[70]. Во-первых, такая оценка становится возможной именно в силу концентрации доказательств: последняя обеспечивает тот материал, который уже можно оценивать. Во-вторых, на уровне внутреннего убеждения судьи очень важным является разграничение (хотя бы приблизительное) предварительной и окончательной оценки доказательств[71], т. к. в противном случае концентрация доказательств видится менее значимой (но даже в этом случае такое впечатление вполне обманчиво): зачем нужна предварительная подготовка и предварительная оценка, если оценить совокупный материал можно позже? Но предварительная оценка вполне естественное следствие надлежаще проведенной подготовки дела к судебному разбирательству, в противном случае, цель подготовки не достигнута. Так же хотелось бы обратить внимание на работу Т.Т. Алиева[72]. Окончательная оценка доказательств, конечно, должна осуществляться не ранее завершения судебного разбирательства.
Критерии разграничения предварительной и окончательной оценки доказательств достаточно подробно рассмотрены и раскрыты в специализированной юридической литературе[73]. О связи концентрации доказательств с достаточностью доказательств уже упоминалось. Практически единственный, кто в своих исследованиях уделил внимание категории недостаточных доказательств в свете их концентрации был С.В. Курылёв.
В частности он указал, что суду при принятии доказательств нелегко установить действительное наличие связи доказательственных материалов с искомыми фактами. Чаще на практике ограничиваются предположением о связи, однако подобное предположение должно иметь под собой веские основания. Продолжая мысль, С.В. Курылев высказывает мнение, о существовании недостаточных доказательств, которые следует отличать от сведений, которые вообще не могут служить доказательствами, даже если последние по ошибке или по необходимости и попали в материалы дела, подвергались исследованию и оценке. Когда постановление суда отменяется и дело рассматривается вторично, суду, вновь рассматривающему дело, не следует устранять из доказательственного материала факты, признанные ранее недостаточными доказательствами. Эти факты вновь подлежат исследованию и оценке, в связи с таким исследованием и привлечением нового доказательственного материала они могут превратиться в достаточные доказательства[74].
В данном случае речь идет именно о нехватке информации по количеству, притом, что качество её является удовлетворительным; или же о сомнении в качественности доказательств при возможности устранения некачественности за счет концентрации или привлечения дополнительного доказательственного информативного материала[75] (в последнем случае наблюдается частичный диалектический переход: недостаточные доказательства можно считать недостоверными или недостаточно достоверными, но по признаку – отнюдь некачественными).
Знание, при каких условиях доказательства являются недостаточными, будет указанием тех путей, по которым должно идти исследование доказательств для превращения их в достаточные[76]. Например, одно из абстрактных правил оценки доказательств: доказательство не может быть признано достаточным, если оно находится в неустраненных противоречиях с другими доказательствами (опять же идет пересечение, но не отождествление достаточности с достоверностью). Наиболее часто встречающимися в судебной практике такого рода недостаточными доказательствами являются объяснения или показания заинтересованных лиц. В этой связи согласимся с В.В. Молчановым, который отмечает, что «нормативным образом невозможно полностью нейтрализовать вероятное негативное влияние субъективной психологии на достоверность свидетельских показаний… Поэтому, если свидетелем искажается истина по причине его добросовестного заблуждения, неправильного восприятия им фактов вследствие невнимательности, забывчивости и т. д., то такие показания не являются заведомо ложным, а следовательно, исключается уголовная ответственность»[77].
Однако вернемся к основному вопросу исследования. Достаточным доказательством (доказательствами), по мнению С.В. Курылева, является такой известный суду факт, в отношении которого исключена возможность наличия у него связи с другими фактами вместо искомого. Пользуясь принятым в уголовно-процессуальной теории термином, здесь уместно говорить о «версии», т. е. достаточное доказательство имеется в том случае, если исключена иная версия, кроме установленной при помощи данного доказательства. В этом случае вывод суда о наличии (отсутствии) искомого факта является достоверным, в противном случае – лишь вероятным[78], что неизбежно влечет за собой потребность обсуждения проблемы стандарта доказывания.
Известно, что в странах англо-саксонской правовой семьи в отношении концентрации доказательств существует так называемый стандарт доказывания в гражданском судопроизводстве определяется как баланс (или перевес) вероятности. Бремя доказывания считается выполненным, если суд может сказать, что утверждаемое или указываемое обстоятельство по делу скорее существует, чем наоборот[79]. И.В. Решетникова пишет, что «по некоторым категориям дел (в частности, о расторжении брака, защите права собственности, возмещении вреда, причиненного преступлением) требуется более высокая степень вероятности, близкая к стандарту доказывания в уголовном процессе, где наличие события необходимо показать вне разумных сомнений. Для определения степени вероятности используются математические методы (разрабатываются в рамках так называемой теории вероятности доказательств). Например, баланс вероятности в математическом выражении является преимуществом, по крайней мере, 0,51 к 0,49, что событие имело место».
Однако подобные положения совершенно справедливо не были восприняты ни российским законодателем, ни в целом современной российской процессуальной наукой, в связи с их нецелесообразностью в российских исторических, культурных, ментальных и социально-экономических условиях. И.В. Решетникова указывает лишь на возможные отдельные случаи применения такого стандарта. В частности, баланс вероятности гипотетически может использоваться при простой недостаточности доказательств, но даже в этом случае, как подчеркивает И.В. Решетникова, на практике подобный подход апробировать достаточно проблематично[80], с чем нельзя не согласиться. В противном случае было бы узаконено принятие фактически необоснованных решений, или решений, обоснованность которых вызывает сомнения, что (не говоря уже о прямом нарушении современных положений ГПК РФ об обязательности обоснованности судебного решения) привело бы к девальвации судебной власти в России. В суд обращались бы с исковыми требованиями, которые имеют хотя бы малейшие, призрачные шансы на удовлетворение. По сути, поощрялось бы юридическое сутяжничество, которое, как известно, в странах англосаксонской правовой семьи процветает, став злободневной проблемой систем правосудия этих стран[81]. Также это, скорее всего, повлекло бы снижению активности сторон в гражданском судопроизводстве в России (именно в России, т. к., например, в Англии это не имеет место в силу правовой грамотности и культуры): зачем нужно усиленно готовится к судебному разбирательству и активно в нем участвовать, если достаточно, представить, несколько доказательств, указывая, что они подтверждают обстоятельства, имеющие значение для дела на 51 %? В России попросту отсутствуют общедоступные методики, позволяющие измерять убежденность суда в процентах, да, это и не нужно.
Кроме того, такой стандарт доказывания, применяется в тех случаях, когда в качестве доказательства выступают статистические данные и корреляционные коэффициенты (коэффициенты взаимосвязанности событий)[82]. Подобные наработки, безусловно, полезны в некоторых случаях, например И.В. Решетникова указывает на определение размера морального вреда, или на доказывание причинно-следственной связи причиненного вреда с действиями лица, причинившего вред. Но здесь для России возникают чисто технические проблемы – кто будет проводить подобные исследования, какова будет их стоимость, и кто таковые будет оплачивать, если они приобретут массовый характер. В России статистика, тем более правовая, несколько слабее развита, если сравнивать с западноевропейскими странами. Поэтому И.В. Решетникова справедливо полагает, что пока нет никаких препятствий в использовании статистических данных в рамках заключения эксперта и не более[83]. От себя добавим, что и специалист, не проводя отдельных исследований конкретного дела, может проинформировать суд о результатах уже проведенных ранее исследований по вопросам, аналогичным тем, которые имеют значение для рассматриваемого дела. Но во всех этих случаях говорить о применении подобного стандарта доказывания в плоскости концентрации доказательств не представляется возможным, т. к. ни одно из доказательств, согласно ч. 2 ст. 67 ГПК РФ, для суда не имеет заранее установленной силы, все доказательства должны оцениваться в совокупности, в ином же случае опять происходит возврат к проблеме достаточности доказательств.