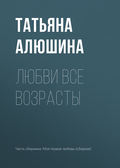Татьяна Алюшина
Актриса на главную роль
– Эля, что с тобой?
Бросив на пол свой режиссерский «талмуд», Глафира ухватила его и второй рукой за рукав пиджака и произнесла, четко выговаривая каждое слово:
– Она не может ответить, Тихон Анатольевич.
– Отпусти меня! – Тот раздраженно попытался скинуть руки Глафиры, но она не отпустила и смогла удержать их каким-то немыслимым усилием, когда Грановский дернулся было всем своим мощным телом вперед, снова окликая жену: – Эля? Элеонора!
– Тихон Анатольевич, ее нельзя трогать! – пыталась достучаться до его сознания Глафира.
– Да оставь ты меня! – Перехватив ее руки, худрук сильным рывком отодвинул девушку от себя. – Ты что, не видишь? Эле плохо! Ей нужна помощь!
– Тихон Анатольевич! – особенным, глубоким, властным тоном, именно тем, которым умела захватывать внимание людей, произнесла с нажимом Глафира, снова ухватив его на этот раз за лацканы пиджака, и, придвинувшись ближе, заглянула прямо в глаза. – Ее. Нельзя. Трогать, – выделяя нажимом каждое слово, медленно, тяжеловесно произнесла она и добавила чуть тише, ужасно сочувствуя этому большому, сильному мужику: – И помочь ей уже нельзя.
– Почему? – неожиданно севшим голосом спросил он, как-то вдруг растерявшись, потускнев, словно сдулся и постарел в один момент.
– Она умерла, – продолжая удерживать его взгляд, объяснила Глафира.
– Откуда ты знаешь? – не принял ее объяснений Грановский. – Надо немедленно проверить пульс, дыхание! Ей просто плохо! Может, что-то с сердцем! Ты что, не видишь, что ей плохо? Надо вызвать «Скорую»!
– Давайте я проверю, – предложила Глафира и, торопясь успокоить, заверила: – Я умею, я специальные курсы закончила по оказанию первой помощи. – И повторила, уговаривая, как ребенка: – Вы постойте здесь, а я проверю. Ладно?
– Проверь, – кивнул, соглашаясь, Тихон Анатольевич.
– Постойте тут, – повторила Глаша.
Он кивнул.
Внимательно посмотрев в его лицо и уловив перемену в нем, Глаша отпустила лацканы пиджака, разгладила их ладошками, повернулась, быстро прошла к дивану и наклонилась над распростертой женщиной. Пульс она, конечно, попыталась нащупать и на руке, и на сонной артерии, и дыхание проверила, подержав ладонь возле носа, отчетливо понимая всю безнадежность этих действий, но ради Грановского это надо было сделать и именно так.
Без всяких сомнений, со всей определенной очевидностью Элеонора Аркадьевна Туркаева была мертва, и ее красивое, холеное, вылепленное бесконечными тренировками и косметологическими процедурами спортивное тело остывало.
Глубоко вздохнув, Глафира выпрямилась.
– Что с ней? – все еще с последней, мизерной надеждой, но все же уже начиная осознавать реальность, спросил Грановский.
– Она умерла, Тихон Анатольевич, – повернулась к нему Глафира.
Он смотрел на девушку и каменел лицом, на котором, казалось, остались живыми лишь глаза. Так и стояли несколько мгновений, молча глядя друг на друга.
– Поправь ей подол, – громко приказал он резким тоном.
– Нельзя, – медленно покрутила головой Глаша.
– Что значит нельзя?! – взорвался он негодованием. – Это некрасиво, неприлично, она не должна такая лежать! – объяснял он очевидные ему вещи. – Она красавица, актриса, нельзя лишать ее достоинства!
– Она его и не потеряет. Никто и никогда не сможет лишить ее достоинства, – произнесла Глафира другим, своим особым тембром, каким говорила только с близкими людьми, когда разъясняла свою точку зрения: четко, ровно, но при этом очень сердечно. – Но сейчас ничего нельзя трогать до приезда полиции, Тихон Анатольевич.
– Да почему?! – рассердился он и, выйдя из ступора, ринулся к жене, пытаясь отодвинуть с дороги Глашу.
– Потому что ее убили! – упершись руками ему в грудь, напрягаясь всем телом, прокричала Глафира, останавливая мужчину.
– Что ты такое говоришь? – обескураженный, шокированный ее заявлением, возмутился Грановский. – Что значит – убили? – и повысил голос, отчитывая: – Что ты несешь, Глафира? Ты в своем уме?!
– Смотрите, – принялась объяснять Глаша, повернувшись к дивану и указывая пальцем на тело, но продолжая упираться плечом. – Она сопротивлялась, боролась с кем-то, сильно боролась, до последнего, поэтому так и выглядит, и вон подушка на полу. Это же ее подушка, на которой она обычно лежала, когда отдыхала. Ковер сдвинут – это убийца упирался ногами, ваза со столика упала, разбилась, потому что, видимо, в борьбе его задели, цветы, вода на полу. – И снова повернулась к нему, положив руки на помятые пиджачные лацканы и заглянув прямо в глаза. – Ее кто-то убил, Тихон Анатольевич. – И уже не повышая голоса, скорее уговаривая, добавила: – Надо вызывать полицию.
– Это ерунда какая-то, Глафира, – покачал он головой, отказываясь принимать ее объяснения, ее спокойный уговаривающий тон. – Кто мог ее убить? Зачем? Кому это понадобилось? Это глупость какая-то несусветная. Что ты придумала?
– Кто угодно, – твердо произнесла Глаша самое страшное и повторила с нажимом: – Ее мог убить кто угодно, Тихон Анатольевич. В том-то и дело. – И вздохнула тягостно: – Надо вызывать полицию. И трогать здесь ничего нельзя до их приезда.
– Да – Грановский вдруг в один момент перестал возражать, спорить, сопротивляться очевидности, которую не хотел, не мог принять до этого.
Прикрыл глаза ладонью, провел рукой по лицу, задержал дыхание, резко выдохнул и, посмотрев на Глафиру больным, мучительным и растерянным взглядом, произнес, словно уговаривал скорее себя, чем ее:
– Я должен к ней подойти.
– Да, – кивнула Глаша, почувствовав, что теперь можно, и отступила в сторону.
Он подошел к дивану, большой, грузный, а не величественно-мощный, придавленный обрушившейся бедой, и выглядел в тот момент на все свои прожитые годы. Постоял несколько секунд, рассматривая лицо жены, словно не решался дотронуться, а потом наклонился, осторожно положил свою большую, тяжелую ладонь на ее щеку, замер на несколько мгновений и резко выпрямился.
Закрыл глаза, придавил веки двумя пальцами, пытаясь остановить слезы, и произнес глухо:
– Эля… Элечка, ну как же так? – И повторил почти со стоном: – Ну как же ты так, Элечка?
Глафира шагнула к нему, коснулась рукой его руки, чувствуя, что сейчас это самое правильное, что она может сделать для этого человека, и тихо произнесла:
– Она не виновата, Тихон Анатольевич.
– Да, – кивнул он, соглашаясь.
– Надо звонить в полицию, – в который раз повторила Глафира, стараясь как-то переключить его внимание на дело, и даже достала смартфон из кармана брюк. – И надо людям сообщить.
– Да, – снова повторил Грановский. И, посмотрев на жену, громко выдохнул, резким движением стер с щеки все же вырвавшуюся слезинку тыльной стороной ладони и распорядился: – Давай, Глаша, позвони в полицию, объясни все. А я поговорю с людьми.
Втянул глубоко воздух, задержал дыхание, резко выдохнул и в пару секунд стал тем, кем и был – руководителем театра, значимой, известной всей стране личностью, величественным, уверенным в себе человеком, немного барином, грамотным финансистом, «отцом родным» и прочая, прочая, включая многочисленные регалии, достижения и награды.
И Глафира, наблюдая эту перемену, происходившую у нее на глазах, со всей ясной отчетливостью поняла, что в свою привычную ипостась этот неординарный человек вернулся потому, что сейчас он откроет дверь и выйдет, как на сцену, к растревоженным, растерянным актерам и будет играть свою роль.
– Вечернюю репетицию придется отменять, – внезапно вспомнил Грановский.
Точно! Еще и эта напасть!
Понятное дело, что театр начинает свою работу, стараясь войти в обычный режим, и актеры после длительного простоя заново репетируют любимые публикой спектакли. Тихон Анатольевич лично проводил вечерние репетиции, так что работала практически вся труппа, готовясь к открытию. Но «Саломея» была поставлена конкретно для Туркаевой, под нее и для нее, практически бенефисный спектакль, и, разумеется, никакой замены и второго состава не предусматривалось.
Тихон Анатольевич даже глаза прикрыл, видимо, только в этот момент до конца осознав весь масштаб случившейся беды. Резко выдохнул, огласив решение:
– Сам сообщу труппе трагическую новость.
Глафира кивнула для проформы и набрала номер экстренного вызова. Представилась, когда ответил оператор, объяснила ситуацию, выслушала ответ и нажала отбой.
– Сказали никого не пускать к месту происшествия. Наверное, мне придется постоять у дверей.
– Зачем? – не понял Грановский. – Кто-нибудь из артистов постоит.
– Любой из них, – со всей осторожной мягкостью напомнила Глаша, – может быть тем, кто ее убил.
Грановский посмотрел на нее долгим, почти неприязненным взглядом, напряженно о чем-то размышляя, и возразил с нажимом:
– Это мог быть совершенно посторонний человек.
– Да, – не стала спорить Глаша. – Зайти могли с улицы, хотя входы и охраняются, но не самым тщательным образом. Мы же не режимный объект. – И повторила для его успокоения: – Да, в театр могли попасть посторонние люди. А если кто замыслил убийство, то и проникнуть сюда ему труда не составило.
– Не будем гадать, – отрезал Грановский и попросил: – Действительно, Глаша, постой у дверей, а то артисты, Зина права, как дети малые, не переборют любопытства, заглянут, что-нибудь потрогают. Еще, не дай бог, снимут на телефон да в Сеть выложат. – И, успокоив такими размышлениями самого себя, повторил: – Да, постой, дождись полицию. – И кинув последний взгляд на тело жены, выдохнул скорбно, расправил плечи и скорее не спросил, а распорядился: – Ну что, пойдем?
Глафира кивнула, но торопиться не стала: подняла с пола свою тетрадь, пристроила сверху нее смартфон и привычно прижала все к боку, обвела взглядом всю комнату, заинтересовалась чем-то на гримерном столике, подошла, рассмотрела внимательно.
– Что ты там нашла? – напряженно спросил Грановский.
– Да так, кое-что интересное, – и решительно выдохнула: – Идемте, Тихон Анатольевич.
И, посмотрев друг на друга в знак поддержки перед решительным шагом, вышли из гримуборной к ожидавшим их перед дверью артистам. Даже травмированный Полонский пришел, хоть и стоял на здоровой ноге, оберегая поврежденную с замотанной лодыжкой.
Полиция приехала очень быстро, буквально через десять минут, что немудрено – здание театра располагалось в самом центре города, а центральное управление полиции, под юрисдикцию которого территориально попадал театр, в двух кварталах от него.
Понаехавших представителей власти, с точки зрения Глафиры, было как-то слишком много. Хотя оно и понятно – происшествие не рядовое, можно сказать краевого масштаба. Начальство небось уже всех успело построить и пожелать чего недоброго, если затянут с раскрытием преступления. Но то, что они сделают это по горячим следам, Глафира как-то сильно сомневалась. Но посмотрим.
Первым делом представители закона закрыли все выходы театра и приступили к следственным действиям.
Грановский руководил встревоженным коллективом, общался со старшими чинами, помогал в организации следственных мероприятий. Скорбел, был бледен, не гремел привычно своим шикарным голосом, но оставался предельно собран и спокоен.
Глафира, ответив на несколько предварительных вопросов, ушла к себе в кабинет ожидать более подробного допроса под протокол.
Она успела несколько минут посидеть в тишине, закрыв глаза и откинувшись на спинку небольшого, но очень уютного диванчика, позвонила домой, выслушав рассказ, как там у них дела, предупредила, что может задержаться, и уговорила себя подняться с дивана.
Надо взбодриться, этот бесконечный, затянувшийся событиями день еще не закончился, и непонятно, какие неприятности можно ожидать.
Так, взбодриться – значит, кофе! Навороченную дорогущую кофе-машину, мощную кофемолку и приличный запас настоящего «Спешиалити» приобрел и распорядился установить в ее кабинете Андрей, как только она приняла предложение Грановского и подписала контракт.
Зная пристрастие Глафиры к кофе, позаботился, чтобы она не пила всякую непонятную субстанцию из буфета или того хлеще – из какого-нибудь ближайшего кафе в бумажном стаканчике. Полагалась еще и еженедельная доставка бутилированной воды определенной марки, чтобы, не приведи господь, Глафира не начала заваривать кофе водой из-под крана, с нее станется. Да и привыкла Глаша пить много воды, вот и носила ее с собой постоянно.
Был еще у нее красный мини-холодильник. Идея состояла в том, чтобы Глаша привозила из дома еду и питалась домашним. Ага. Тот случай.
И диванчик удобный тоже Андрюха «подогнал», чтобы в перерывах отдыхала нормально. А вот с этим он точно прогадал. Стоило Глафире удалиться в свой кабинет, объявив перерыв, как тут же начинали подтягиваться «ходоки». Понятное дело, про то, что Пересветова варит совершенно охренительный кофе, запах которого расползается по коридорам, знали все с первой же приготовленной ею чашки.
И началось… То кто-то из актеров непременно заявится, под предлогом возникших по роли вопросов, то главный художник, то декоратор, или Верочка и второй помощник режиссера, да и Грановский заглядывал, и даже Зина Осиповна прибегала на несколько минуток отключиться от дел и выпить кофейку.
Не говоря уж про те часы, которые Глафира с коллективом проводили за мозговым штурмом над постановкой, когда в кабинет набивалось, бывало, человек по пятнадцать.
Машина гудела, не переставая, и никакого покоя Глафире не было и в помине, кроме тех моментов, когда она пребывала в сильном раздражении и прямым текстом посылала всех подальше. Правда, редко, но бывало.
Машина мелодично-приятно блимкнула, оповещая, что программа закончена – получите ваш напиток, и одновременно с этим раздался стук в дверь.
– Входи, Юр! – отозвалась Глаша.
– Откуда знаешь, что это я? – спросил вошедший молодой человек.
– Ну а кто еще? – Поставив чашку на блюдце, Глафира повернулась к нему и улыбнулась. – Все театральные по норкам сидят, ждут допроса…
– Снятие показаний, – поправил он.
– Одна хрень, – отмахнулась Глаша.
– Ну что, Пересветова, – радостно заулыбался мужчина, – обниматься-целоваться будем?
– Воздержимся, пожалуй, – легко рассмеялась в ответ Глафира. – Коронавирус все еще бродит по стране, а у меня дети.
– Какие дети, Глашуня? – искренне удивился Юра.
– Ну какие? Обыкновенные. – И спросила, переводя тему: – Кофе будешь?
– Задавать такие вопросы замученному работой оперу негуманно, Пересветова.
– Располагайся, – пригласила Глаша, кивком указав на диванчик.
Он с тем особым, отпускающим внутреннее напряжение удовольствием набегавшегося за день уставшего человека расслабленно плюхнулся на диван, кинул рядом с собой кожаную папку для бумаг, и Глаша поставила перед ним на журнальный столик чашку с кофе.
– Ты спрашиваешь, как я угадала, что это ты? – спросила Глаша. – Прийти ко мне мог только полицейский, для того чтобы провести допрос.
– Снять показания, – снова поправил он ее.
– Пусть будет так, – кивнула Глаша. – А поскольку ты оказался среди понаехавших полицейских чинов, то логично было предположить, что снимать эти самые показания пришлют именно тебя. Для налаживания, так сказать, дружеского контакта с целью добычи ценной информации, которую я тебе могу выложить по дружбе.
– Вот всегда ты, Глафира, такая была умная. Прямо провидица! – не то похвалил, не то поставил в укор Юрий и сделал большой глоток кофе. – Ум-м-м… – протянул он с блаженством, – …какой кайф. Хорошо живут представители богемы. – И жалобно спросил сиротливым тоном: – Слушай, Пересветова, а пожрать у тебя ничего нет? А то я с утра не евши, только наладился было перекусить, а тут вызов на ваш труп.
– Сейчас что-нибудь придумаем, – пообещала Глафира и, взяв смартфон, набрала номер. – Верочка, вы не могли бы мне помочь? Спасибо. Могли бы вы принести в мой кабинет из буфета, что у них там есть съедобное? Да? Как удачно, – порадовалась она, услышав в ответ, что помощница в данный момент находится именно в буфете, и обратилась к Юрию: – Тебе что? Бутерброды, пирожки или яичницу с колбасой?
– Бутерброды, пирожки, яичницу с колбасой, – перечислил с самым серьезным видом Юрий.
– Верочка, берем все из расчета на одного сильно голодного мужчину. Заранее благодарю.
И, убрав смартфон в карман, вернулась к кофе-машине, заново налаживая процесс.
Юра Лепин, капитан полиции, оперативник уголовного розыска центрального краевого управления, был одноклассником Глафиры, не сказать, чтобы другом закадычным, но и не просто приятелем, отношения они всегда поддерживали теплые, дружественные.
Глафира сделала себе маленькую чашечку эспрессо, поставила на блюдечко, прошла к столику и села на мягкий пуфик напротив Лепина.
– Кофе – зашибись! – еще раз похвалил Юрий, допив последний глоток из чашки.
– Я тебе еще сделаю, когда Верочка принесет перекус. – Глафира глотнула, поставила чашечку назад на блюдце и предложила: – Ну, начинай, задавай свои вопросы.
– Тогда с самого главного, – посмотрел на нее Лепин. – Все свидетели рассказывают о существовавшем конфликте между убитой и тобой и утверждают, что ваше противостояние началось, как только ты появилась в театре, но до поры до времени сильно не обострялось. Она в сетях повыступала в твой адрес, но быстро оставила это дело и даже извинилась, правда, не лично, а в тех же сетях. Однако именно сегодня между вами произошел какой-то грандиозный, оглушительный скандал, закончившийся тем, что ты сняла Туркаеву с роли и та открыто, при всех угрожала тебе расправой.
– Да какой расправой, – чуть скривившись, пренебрежительно отмахнулась Глаша. – Игра на публику в чистом виде, ну и душу отводила, накипело у нее. А что касается конфликта… – Она задумалась, сделала пару глотков кофе. – Как бы поточней объяснить…
– Объясни как есть, а я, если мне будет что-то непонятно, по ходу уточню, – предложил Юра.
– Как есть, – повторила Глаша задумчиво. – Как такового конфликта между нами не было, я требовала от нее только одного: работать с полной отдачей, а уж как она ко мне относится, это ее личные проблемы, главное, чтобы чувства и непродуктивные эмоции не мешали делу. Она поначалу придерживала всю свою нелюбовь и все претензии в мой адрес, но когда я стала параллельно работать с Натальей Гордеевой, Элеонору просто понесло. Понимаешь…
– Глафира Артемовна! – донесся из-за двери достаточно громкий оклик. – У меня руки заняты, не могу постучать.
Глаша легко поднялась, поспешив открыть дверь, за которой стояла Верочка с подносом в руках, заставленным тарелками с едой.
– О-о-о! – обрадовался Юрий. – Какая красота!
Дружелюбно улыбнувшись и стрельнув любопытным взглядом на симпатичного капитана, Верочка шустренько выставила перед ним на стол тарелочки с пирожками и бутербродами, с яичницей и овощным салатиком.
– Поднос я оставлю, – еще разок кинув короткий заинтересованный взгляд на Лепина, предложила помощница, – чтобы удобней было. Я потом сама все отнесу.
– Спасибо, Верочка, – поблагодарила Глафира с легким начальственным нажимом, подразумевавшим, что девушке пора.
Для Глафиры был специально открыт отдельный счет в буфете, который она гасила раз в неделю, очень удобно, особенно вот в такие моменты, когда приходилось просить кого-нибудь, чаще всех Верочку, принести перекусить – не нужно доставать кошелек, отсчитывать купюры с мелочью, что определенно сокращало дистанцию с подчиненными подсознательным «ты – мне, я – тебе», что Глаше было совершенно ни к чему.
Верочка ушла, а Глафира в третий раз отправилась варить кофе, усмехнувшись, заметив, как Юра просительно покосился на кофе-машину.
Кофе она сделала и ему, и себе.
– Ты давай, рассказывай, Глаш, – сказал Лепин, что-то старательно пережевывая. – Мне еда слушать и думать не мешает. Иногда даже наоборот. И лучше рассказывай с самого начала.
– С начала чего? – усмехнулась Глафира.
– С начала всего. – Лепин вдруг перестал улыбаться и посмотрел на нее неожиданно острым, внимательным взглядом.
– Тогда, наверное, лучше начать с предыстории, – задумалась Глаша.
– Во-во, с нее и начинай, – посоветовал Юра, возвращаясь к легкому дружескому тону, словно и не было того мимолетно-сосредоточенного особого взгляда – простой дружеский разговор. И, достав из папочки блокнот с ручкой, он положил их на столик.
«Как-то это у него легко и стремительно получилось поменять тон, взгляд, наверное, он хороший полицейский, даже талантливый», – мимолетно подумалось Глаше.
– Ну что ж, – легонько вздохнула она, смиряясь с необходимостью подробного экскурса в прошлое. – Ты в курсе, что мы с Катюхой дружим с детского сада.
– Да уж, две подружки-веселушки не разлей вода. Десять лет за одной партой, – хмыкнул Юрий.
– Это точно: не разлей, – усмехнулась Глаша. – И то, что Катерина – единственная дочь Грановского, ты, разумеется, тоже знаешь. А Полина Олеговна, мама Кати, была второй женой Тихона Анатольевича, которая оставила Москву, родителей, друзей и с маленькой дочкой уехала вместе с ним сюда, в Сибирь, когда его назначили художественным руководителем этого театра. Лет через пять Тихон Анатольевич ушел из семьи к артистке Федотовой, она тогда была ведущей актрисой театра. Но что-то у них не заладилось, и через год Федотова уехала в Питер, в БДТ, потом она перешла в какой-то другой театр, но не суть. После нее он жил гражданским браком с телеведущей местного канала, у которой какой-то там крутой папа имелся, – Благонцевой Оксаной, и длилось это целых семь лет. Доподлинно не известно, какие именно шаги предприняла Элеонора Аркадьевна для завоевания худрука, но то, что она старалась изо всех возможных сил, не гнушаясь никакими методами, и отбила-таки Грановского у Благонцевой, известно всему городу.
– Где теперь эта Федотова? – Юра что-то быстро и коротко записал в блокнот.
– Не знаю. Спроси у Зинаиды Осиповны, она может знать.
– Угу-м, – кивнул Юра, с поразительной быстротой справляясь с яичницей.
– Катюшку Тихон Анатольевич очень любит, всегда был и остается для нее прекрасным отцом, никогда не бросал, не забывал, принимал активное участие в их с мамой жизни, щедро помогал и даже баловал. И это обстоятельство просто до невозможности нервировало Элеонору, но ей приходилось мириться с присутствием в его жизни бывшей жены и дочери.
– Как и с его любовницами, – продолжил Лепин ее мысль.
– Извини, Юр, но по этим вопросам не ко мне, – строго сказала Глаша. – Уверена: добровольцев донести до органов все театральные сплетни и мезальянсы у вас будет в избытке. Я личную жизнь других людей не обсуждаю.
– Да, помню эту твою особенность, – хмыкнул Юрий, – такая странная на всю голову девочка-подросток, которая не принимала участие ни в каких сплетнях-пересудах и не примыкала ни к каким группировкам. – И сам себя одернул: – Ладно, не о былом сейчас. Давай дальше.
– Дальше, – повторила Глафира. – Единственное, что примиряло хоть немного Элеонору с существованием Кати и ее мамы в жизни мужа, это то, что Полина Олеговна не стала ее конкуренткой на сцене. И хоть и была очень неплохой актрисой и здорово играла, но после развода оставила актерскую профессию, и Тихон Анатольевич через свои связи устроил ее в отдел культуры в администрации губернатора. Сейчас она занимает один из руководящих постов в краевом министерстве культуры. И второе, что более чем устраивало Туркаеву, это то, что Катерина не имела никакого таланта, расположенности и тяги к актерству, а с самого детства интересовалась только точными науками.
– Слушай, – вспомнил Лепин, – ты ведь играла здесь на сцене, еще учась в школе.
– Во-о-от, – протянула Глаша, подняв указательный палец. – Мы же с Катькой торчали в театре часами. Когда тетя Поля была занята и некуда было деть Катю, то мы шли сюда. Это ж почти второй дом для нас. Здесь мы и уроки делали, и зависали, облазив весь театр от подвала до потолка, а Зина Осиповна за нами строго следила, проверяла домашку и постоянно подкармливала. Однажды Тихон Анатольевич ставил спектакль, в котором имелась роль девочки лет восьми-девяти. Вместо того чтобы проводить бесконечные кастинги, он пошел простым человеческим путем: Катьку даже пробовать не стал, трезво оценивая способности дочери к актерству, к тому же Катюха тогда уже была статной, крупной. И он решил посмотреть меня. Больше никого искать не пришлось. И хоть мне было десять, но я же мелкая всегда была, вполне подошла на роль и целый год отыграла в спектакле дочь главной героини, которую, между прочим, играла Туркаева.
– Я помню. Ты нам отрывки из спектакля показывала по просьбе завуча, – заулыбался Юра, признаваясь. – Я не все понял, но мне понравилось. И играла ты классно.
– То есть представляешь степень нашего с Элеонорой знакомства? Во-о-от. Я стала ходить в студию актерского мастерства при театре, иногда меня задействовали в небольших совсем ролях, в основном без слов, в статистических проходах. А потом мы с Катюхой уехали учиться в Москву: я в ГИТИС, она – в свою обожаемую Бауманку. На третьем курсе меня совершенно неожиданным, каким-то чудесным образом взял в свой фильм, в полный метр, Илья Карагозов.
– «Зыбь»? – уточнил Юрий.
– «Зыбь», – подтвердила Глаша.
– Я смотрел, – признался Лепин, неожиданно подался вперед и, наклонившись через стол, поделился: – Это же смотреть было невозможно, Глашка, как ты играла. Я вспомнил всю свою подростковую херню, через которую проходил, ведь чего только не бывало… А тут ты, вернее, Инна эта твоя. Я, наверное, сутки как не свой ходил, после того как посмотрел, все вспоминал. Честно. Охренительно ты ее сыграла. – И повторил прочувствованно: – Охренительно. Наверно, так даже нельзя играть, Глаш, слишком это… сильно, что ли, натурально.
– Спасибо, Юр, – поблагодарила Глафира. – Спасибо. Так вот… – выдохнула она, – на предпремьерном показе «Зыби» присутствовал Тихон Анатольевич с Элеонорой. Катюшка рассказывала, что после показа Туркаева устроила мужу полный разнос, начав отчитывать прямо в зрительном зале. Дело в том, что в девяностых Карагозов работал под управлением Грановского в его театре-студии и именно оттуда и благодаря Тихону Анатольевичу начал свою карьеру, став сейчас культовым, известным режиссером. Элеонора неоднократно просила мужа протежировать ее на работу к Карагозову, и не только к нему. Грановский же маститый, заслуженный во всех отношениях деятель, у него друзья и связи на самом верху.
– А он что – не помогал? Не проталкивал? – удивился Лепин.
Он покончил с последним пирожком и, сложив стопочкой тарелки, отодвинул их на край стола, по-простецки ладонью смахнул несуществующие крошки и положил перед собой блокнот с ручкой. Глафира посмотрела на него, чуть прищурившись и сосредоточенно прокручивая в голове мысли-воспоминания, и спросила:
– Кофе еще будешь?
– Обязательно, – уверил ее Юра.
Она поднялась, прошла к столику у окна, заправила кофе-машину сразу на две порции, включила и посмотрела задумчивым, невидящим взглядом за окно. Аппарат приятно блимкнул, оповещая о завершении процесса, Глаша переставила чашечки на блюдца, вернулась к столу.
– Понимаешь, – продолжила она, тут же позабыв про свой кофе, – как любая эгоцентричная личность, сосредоточенная только на себе, Элеонора не понимала до конца уровень дарования этих мужчин, не позволявший им в своем творчестве, в своей работе допускать халтуры. Они не признавали чего-то навязанного извне, того, что не совпадало бы с их видением картины, с их настройками, какие бы невероятные дивиденды этот компромисс им ни сулил. И если актриса, будь она там… хоть голливудская звезда первой величины, не подходила его восприятию и видению, он ни за что не брал ее в свой проект. Нет, безусловно, эти господа могут и коммерческий проект снять за хорошую прибыль и очень даже умеют зарабатывать и считать деньги. Но их уровень дает им большую степень свободы даже в коммерческом проекте. В частности, в выборе актеров. Я сильно сомневаюсь, что Грановский вообще просил кого-нибудь снять жену в картинах. Ну а когда «Зыбь» получила несколько наград на «Золотом орле», и я в том числе за роль второго плана, у нее истерика случилась, Зина Осиповна рассказывала. А потом я снялась в сериале у Павлова.
– «Скорость потока», – кивнул Лепин. – Смотрел. Мне понравилось. Я давно хотел тебе сказать, Глаш, ты очень крутая актриса. Я тебя даже не сразу узнал, ты там совсем другая. Ни на себя, ни на эту Инну из «Зыби» ни разу не похожа. Но очень круто. Даже с нашей, ментовской точки зрения: без лабуды всякой, без фальши, все четко.
– И снова спасибо, – рассмеялась Глаша, признаваясь: – Мне приятно. – Сделала глоток кофе, непроизвольно поморщившись – остыл. – Ну а, – продолжила она, поставив чашку на блюдце и отодвинув от себя, – Элеоноре, понятное дело, не понравилось. Учась на режиссерском факультете, я снялась в небольшой роли в одном авторском кино, такой легкий андеграунд, который в стране и не шел толком, зато поучаствовал в фестивале авторского кино в Европе. Без наград, но был отмечен. А потом я поставила спектакль в одном из ведущих театров страны. И непонятным мне образом его почему-то объявили резонансным, а мою режиссуру открытием года. А потом и того пуще: мы получили «Золотую маску» за постановку, а я еще и «Золотую маску» за дебют. Мы с Катей приехали на юбилей Полины Олеговны и, разумеется, пришли в театр посмотреть новый спектакль, после которого зашли в кабинет к Тихону Анатольевичу – поздороваться и поделиться впечатлением от пьесы. В кабинете была Элеонора, еще в гриме и сценическом костюме. И когда я, наивная чукотская девочка, понятия не имевшая в тот момент о ее «особом» негативном отношении ко мне, искренне восхитилась ее работой, Туркаеву буквально прорвало. Она наговорила мне кучу гадостей и вылетела из кабинета, хлопнув дверью.
– То есть ты была в курсе ее неприязненного отношения к тебе? – уточнил для протокола Лепин.
– Как сказала Зина Осиповна: «Сравнительный анализ своих и твоих, Глаша, достижений нашей приме определенно уже не по нервам». Меня как-то не трогает, что чьи-то неудовлетворенные амбиции вызывают у человека столь негативные чувства в мой адрес. Ну раздражаю я тебя, да и на здоровье. Это личное дело человека, чем он там грузится, я о нем вообще не думаю. В общем, подивилась столь бурной реакции и забыла. А через три месяца приехала провести с семьей Новый год. Катюшка в разговоре с отцом мимолетно упомянула о моем приезде, и Тихон Анатольевич вдруг загорелся идеей нового спектакля по пьесе молодого, классного автора, который всенепременно должна была поставить я.
– И теперь тебе пришлось напрямую столкнуться с ее ненавистью, – понимающе кивнул Юра.
– Я бы не стала называть это ненавистью, – поправила его Глаша. – Неприязнь – да, зависть, ну, может, скорее сожаление о своих упущенных возможностях. Да, я была для нее раздражителем, но честно надеялась, что талант и амбиции Элеоноры возобладают над неприязнью ко мне. Я не раз предлагала Туркаевой временное перемирие ради работы, но мое дружелюбие было явно невзаимно. И все же мы как-то умудрялись работать, и она старалась, увлеклась интересной ролью, погрузилась в процесс.