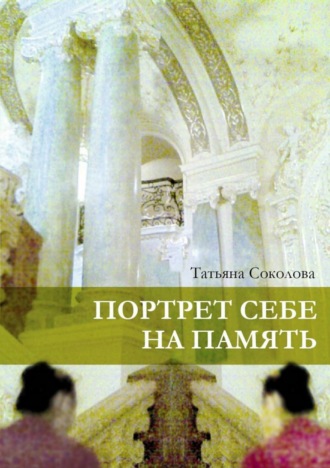
Татьяна Николаевна Соколова
Портрет себе на память
А потом, когда я работала в Ленинграде и когда ты уже окончила школу, случилось так, что моя мама серьезно заболела и я, бросив всё, уехала домой».
– Давайте сделаем перерыв и попьём чая, я вам налью, – осмеливаюсь перебить её, так как меня уже давно клонит ко сну. Но Тамара непреклонна.
– Не надо мне никакого чая, – декламирует она таким тоном, что я внутренне сжимаюсь, – чай – это тот продукт, который я наливаю себе сама. И продолжает:
«Мама очень серьёзно заболела ангиной, а сестре было некогда ухаживать, она сдавала сессию. Ляля была просто гениальной в математике, но тоже не сразу поступила в институт. Она была признанным талантом в школе. В десятом классе она уже прошла весь институтский курс высшей математики. Поэтому после окончания школы её взяли работать преподавателем. Об институте тогда и речи не было. И вот в этот самый момент, когда заболела мама, у неё случились какие-то очень важные экзамены. И эта эгоистка даже не дала мне телеграмму. Но я всё равно почувствовала. Я почему-то пошла на главпочтамт, пыталась дозвониться домой, у меня не получилось, и я дала телеграмму с текстом: «Как дела?». Но моё беспокойство не проходило, тогда я отправилась прямиком на вокзал. Но пока ехала на вокзал на трамвае, передумала, резко поменяла маршрут. И сама не поняла, как я оказалась в аэропорту, а уже через несколько часов – уже дома.
Мама лежала почти без движений. У неё была страшная ангина. Дома был только папа, он был совсем растерян и только что и мог, как подносить ей питьё, а она и пить уже не могла. Я немедленно профильтровала керосин и стала смазывать миндалины керосином, потом сбегала в аптеку, всю ночь сидела около матери, следила, чтобы она не задохнулась. Через день она уже пошла на поправку, но я ухаживала за ней ещё неделю.
И, несмотря на то, что я несколько раз спасала её от смерти, почувствовав её болезнь на расстоянии, она часто издевалась надо мной. Конечно, на людях она показывала, что любит меня. С материальной стороны – она кормила меня, не скупилась, и одевала, а с моральной – учила и постоянно третировала. Ляле никогда ничего плохого не скажет, Ляле всё под носик. Приезжаю как-то: мама стирает Ляле на старой машине, которая не сливает, приходилось вычерпывать воду. В следующий раз привожу ей новую, рижскую машину. Опять: «Тамара такая-сякая». Только приехала – нужны бутыля для консервации, я по всему городу – привожу на дачу тридцать бутылей.
Ты знаешь, как она могла сказать?! Я ведь дружила только с мальчишками, поэтому общение с мужчинами для меня не было кокетством или любовью. Мужчины просто были моими надёжными друзьями, хотя, конечно, не все.
Однажды на выходные меня привез домой военный на мотоцикле. Его младший брат учился в нашей музыкальной школе. Так получилось, что этому человеку нужно было в Одессу, а города он не знал, потому что их семья была не из этих мест. Он меня высадил у дома, поехал дальше по своим делам, но назначил свидание на следующий день. Я знала, что из этого ничего путного не выйдет, но всё-таки согласилась. Мы договорились, что в определенное время он будет ждать меня за углом, который был виден из моего окна. И вот я сижу в этот день дома и поглядываю в окно. А мама возьми да скажи: «Ты что свидание назначила? Да кто на тебя плюнет!» Я, конечно, не пошла на свидание».
Мне неудобно спрашивать про любовь, но я все-таки наглею и говорю:
– Но надо было бороться за свое счастье, взяли бы да и вышли замуж назло всем. Тамара смотрит на меня с доброй улыбкой.
– Когда мне было пятнадцать лет я, также как и все, мечтала иметь семью и детей, но когда мне исполнилось семнадцать и я закончила свое обучение и поехала на Донбасс преподавать, я поняла, что не позволю себе иметь детей, чтобы не любить их больше, чем своих учеников, – отвечает она мне.
Вчера она достала альбом со старыми фотографиями, перелистала слишком быстро, показала сестру и любимого племянника. А потом убрала в комод. Я не успела ничего толком разглядеть, стащила альбом и положила его на стул, задвинутый под стол, листаю втихаря, особенно когда она читает мне очередную лекцию. Нахожу её красивое лицо, нежное девичье лицо, развернутое в полуанфас. Она в чёрной фетровой шляпе с широкими полями. На ней блузка из шелковой ткани, модный фасон, много мелких пуговичек, над которыми её мама трудилась, наверное, не одну ночь. А Тамара тем временем продолжает.
– Когда мама поправилась, то мне опять пришлось искать пятый угол в родительском доме. Я уехала в Ленинград и много лет работала в музыкальном училище в Гатчине. Да, о чем это я хотела тебе рассказать?
– Про Олю, – говорю я специально, чтобы улизнуть, пока она будет злиться.
Но она не обращает на меня внимания.
– Вспомнила, про животных. Слушай.
«Однажды поздней осенью в ненастную погоду, я ждала электричку в здании Варшавского вокзала в Гатчине. Это было такое небольшое здание со старой деревянной дверью, а недалеко от вокзала находился павильон, где продавали спиртные напитки на розлив. В здании вокзала было человек десять. Вдруг слышим, кто-то стучит в дверь, сильно стучит. Решили, что, наверное, это мужичок пьяненький не может открыть дверь. Но, оказалось всё наоборот. Это коза стучала в дверь. Козу отогнали, а она снова стучит. Опять прогнали козу, но она возвращается каждый раз и стучит ещё сильней. Наконец козу пустили, может, замерзла, подумали. Она входит и направляется к одному пьяненькому мужичку, сидящему на скамейке, и ну его бодать. Оказалось, что они знакомы, это был хозяин козы. Представляешь, какая умная! Она вышла вместе с пьяницей и повела его домой. Вот так бывает – коза ведет своего хозяина домой, может, хозяйка её послала. Я знаю множество удивительных историй про животных. Например, там, где я жила на Донбассе, женщина с собакой приходит в сельский магазин, а там уборщица моет пол шваброй, моет и ругается себе под нос, мол «ходят тут всякие», а увидела женщину с собакой и совсем разошлась. Эта женщина наклонилась к своей собаке и говорит: «Скажи ей, что она дура». Собака подняла голову и громко произнесла: «Дур-ра, дур-ра». Уборщица остолбенела и чуть швабру не выронила.
Животные – это удивительные создания. Эти существа живут без всяких фантазий, они не мечтают о деньгах или о власти. Они просто живут, но такие чувства, как любовь и преданность, им ведомы больше, чем людям».
Про козу я ещё могла поверить, а на счет говорящей собаки я позволила себе усомниться. Тамару это затронуло, как говорится, «за живое». Она страшно обиделась на меня, и чуть не со слезами выпалила:
– Ты много понимаешь! Это всё жизнь, я тебе рассказываю истории из жизни. Жизнь многообразна. Эх ты, не понимаешь…
Очередной день канул в лету. Всего с моего приезда прошло три или четыре дня, я уже не помнила. За это время я успела пару раз сходить на море и все-таки нашла интернет-кафе, где можно было посидеть и поработать. В мои планы ещё входило посетить рынок, знаменитый одесский Привоз, тем более что и еды пора было прикупить. Тамара, кроме бубликов и хлеба, ничего не покупала в магазинах. Она тоже согласилась, что пора идти на рынок. И мы решили, что завтра с самого утра туда и двинемся.
Рынок
Сборы на рынок проходили в напряженной обстановке. Тамара даже отказалась от обычной чашки чая. Проверка овощей и фруктов в наставленных один на другой ящиках на лестничной площадке выявила, что я развела дрозофил на своих персиках. Тамара персики не любила, а ела вишню, которая повышает иммунитет. Ещё с детства, будучи слабым ребёнком, она привыкла потреблять вишню кульками или ведерками, благо что в украинских селениях вишня растет в любом дворе. То, что все дрозофилы мои – это понятно, ведь вишня была съедена еще пару дней назад, а персики остались.
Немного побушевав, она успокоилась, взяла свою сумку на колесах, и, закрыв дверь, мы все вместе: Тамара со своей поклажей, кот и я выползли в полутемь лестничной площадки. Тамара, спустившись на одну ступеньку, сразу запнулась о привязанный к перилам велосипед, наехала сумкой на кота, который по плану эвакуации должен был махнуть на чердак к своей рыжей пушистой подруге, а вовсе не рваться на улицу, где его никто не ждет. Но, преодолев три ступеньки и сделав осанку, она быстро справилась со своим гневом, списав все неприятности на электрика Яшу – хорошего человека, но разгильдяя. Матрося шмыгнул в сторону, а я вдоль стеночки пробралась к двери и стала орудовать в замочной скважине огромным ключом, который на ходу перехватила у нее, размышляя про себя, что если уж так необходимо запирать эту дверь, хотя бы вырезали дыру в двери для света.
Во двор она вышла уже на взводе, оттуда через подворотню рванула прямо на проезжую часть, рассыпая на ходу семечки для птиц. Она лихо обошла машины, припаркованные в первом ряду, тяня за собой дребезжащую тележку, и как гужевое транспортное средство разместилась во втором ряду. Машины натыкались на нее, гудели и пытались, не сбрасывая сильно скорость, встроится в третий ряд. Одностороннее движение было достаточно интенсивным, сердце у меня замерло, вдруг кто-то не успеет перестроиться или тормознуть. Я бросилась к ней, но спохватилась после первого же сигнала разгневанного водителя, который упорно пронзал мое тело своей сиреной, и стала, где это было возможно, прижиматься к тротуару. Тамара была тверда как скала, не шелохнулась. И это с её чувствительным музыкальным слухом, который даже не выносил звуковых оповещений на моем компьютере. Когда мы дошли до угла, она сказала мне, указывая на правый ряд:
– Перестань дергаться, здесь специально выделено место для пешеходов, правда, некоторые эгоисты ставят тут свои машины, но их можно обойти.
– Это для машин, – отвечала я, – машины при такой организации движения должны поворачивать направо только с правого ряда.
– Много ты понимаешь в организации движения! – послышалось мне в ответ. – Это, может, у вас организовывают движение там, где ходят люди, а это Одесса, поняла! Не устанавливай своих законов в чужом городе! Одесса – это мой город, и я буду тут ходить, как хочу!
– Ходите, как хотите, но я не могу идти посередине дороги, когда мне в спину все время бибикают.
– Так не иди! Иди там, – Тамара кивнула в сторону тротуара, – по вздыбленной плитке. Видишь, в центре города они плитку отремонтировали, а ближе к морю, где идет оползание грунта, никому никакого дела нет. Жульё, – заключила Тамара, отвернув от меня свой гордый орлиный профиль.
Я колебалась: оставить её одну на дороге с несущимися машинами – опасно, но еще опасней, когда я, семеня за ней, буду дергаться под носом у нервных водителей. А чтобы не дергаться, нужна длительная тренировка.
Так мы добрались до остановки трамвая: она по проезжей части, а я по тротуару. Стоим на остановке.
– Что с тобой? – вдруг восклицает Тамара, сделав свои нарисованные брови домиком.
Я машинально провожу рукой по волосам, осматриваю себя как могу. Гусеница, что ли, по лбу ползет?
– Почему ты не накрасила губы, выходя на улицу? – продолжает она, – ведь ты же женщина. Как можно выходить непричесанной, не накрасив ресницы или губы?!
Я ищу свое отражение в витрине киоска, стоящего на трамвайной остановке. Отражение действительно так себе: губы блеклые, на голове творческий беспорядок, который мне в тайне души нравится (я так кажусь себе моложе).
Тамара при полном параде: на ногах её любимые босоножки на толстом каблуке, черные редеющие волосы уложены на затылке в кичку, напоминающую веер, как на японских миниатюрах, а её роскошные губы аккуратно подведены красной помадой, как она говорит: «создающей впечатление свежего цвета».
– Слушай, – продолжает она, сменив гнев на милость, – я расскажу тебе историю.
«Несмотря на то, что моя мать относилась ко мне очень сурово, когда я ушла из дома и стала приезжать в отпуск, ситуация нескольких первых дней менялась кардинально. Все были рады моему приезду. Мы с сестрой первые дни обменивались новостями и впечатлениями почти всю ночь, засыпали только под утро. А мама вставала на работу рано и заботилась о приготовленном обеде. Так как в ту пору холодильников ещё не было, при одесской жаре важно было, чтобы ничего не прокисло: что-то надо было перекипятить, какую-нибудь кастрюлю поставить в таз с водой и так далее. Вообще-то мы с сестрой сами знали, что нужно проявить такую заботу, но мама считала нужным специально ещё раз об этом напомнить. В одно прекрасное утро мама решила обратиться к сестре, но у сестры была какая-то странная реакция на то, что её будят: не просыпаясь, она резко пинала ногой того, кто её будил. Тогда мама подошла ко мне и сказала: «Тамарочка, ты же человек», – и перечислила всё, что нужно сделать с едой. Я, не открывая глаз, сказала, что, конечно, всё сделаю. Уже выходя из комнаты, она вспомнила что-то ещё, и я, не отрывая головы от подушки, всё обещала выполнить. Наконец она ушла, но пока выходила за ворота, ей что-то ещё пришло в голову, и она стала стучать в окно; я опять все выслушала с закрытыми глазами и снова погрузилась в недосмотренный сон.
Вдруг через десять минут в квартиру врывается мама и кричит:
– Это разве дети? – Это враги! Я ушла с не накрашенными губами, и никто мне ничего не сказал!»
Подходит наш трамвай. Мы садимся, и Тамара говорит мне: «Не бери билет». Все, кто слышал, включая кондуктора, глядят на меня как-то странно, как будто ожидают от меня определенных действий. Несколько секунд размышляю, переминаясь в толчее с ноги на ногу, и протягиваю кондуктору деньги, кондуктор дает мне билет. И тут понимаю, что общественность мной недовольна. Но снисходительна, сразу видно, что я не одесситка. На всякий случай изображаю на лице тысячу извинений и стараюсь протиснуться поближе к Тамаре. Без особых приключений добираемся до рынка. Когда выходим, она кидается через дорогу, едва не задев своим плечом собирающийся начать движение трамвай. Пытаюсь поймать взгляд водителя – вижу, что он в курсе наших подвигов, и уже несусь за ней через дорогу; машины останавливаются, чтобы пропустить нас.
Мы долго идём мимо уличных торговцев и рядов с фруктами в молочный павильон. Домашние сыры, брынза, творог – притягивают взгляд бело-желтой гаммой, словно белый кварц и желтоватый кальцит на солнечном морском берегу. С энтузиазмом кидаюсь в торговые ряды. Тамара довольно деликатно меня останавливает и просит постоять в сторонке – я могу испортить ей весь гешефт. У нее своя молочница, которая дает большие скидки на сметану и творог. Я наблюдаю за действом из дальнего угла, спрятавшись за стойку прогона, стою, как идиотка, около мусорной корзины, роняя слюни, так и не попробовав замечательных творогов и брынз. Как Тамара подружилась с молочницей – это целая история, рассказанная мне как-то в ночи. Молочница, у которой она по обыкновению покупала продукты, старалась возвращать ей чуть ли не половину денег, но Тамара всячески сопротивлялась. Она всегда сопротивляется опеке – считает себя бойцом по старой памяти. И вот однажды она умудрилась заплатить безо всяких скидок и покинула рынок с чувством собственного достоинства. Но, придя домой и выложив из сумки продукты, в пакете с творогом обнаружила аккуратно сложенную бумажку, в которую была завернута вся уплаченная ею сумма. Пришлось смириться с поражением – молочница, тоже одесситка, оказалась упрямее. Осталось разве что пользоваться плодами своего поражения.
Мы уходим из молочного павильона, так и не купив сыра. Тамара стремительно движется вперед и не считает нужным посвятить меня в свои планы. Я еле успеваю за ней, готовлюсь платить за выбранные продукты. Но не тут-то было! Она просто пролетает между рядами с фруктами и овощами, иногда резко останавливается, бросает непонятные мне слова (очевидно название сортов или мест, откуда эти сорта привезены), а когда я подбегаю со своим кошельком, говорит мне, сморщив нос: «Не тошни». Я отвлекаюсь только на момент, присматриваясь к живописным гроздям винограда, и в суете теряю её из виду.
Стараюсь далеко не уходить, разглядываю знаменитый одесский Привоз, который практически ровесник города. Здесь начиналась история многих одесских семей. Сюда приезжали торговать из сёл и отдаленных деревень, здесь можно было найти какую-то работу, зацепиться за городскую жизнь. Это была своеобразная биржа труда и школа выживания.
Знаменитый Привоз напоминает мне огромный вокзал, заканчивающийся базарной площадью, особенно его центральная часть, где навес поддерживается металлическими опорами из фасонного профиля, украшенного регулярно расположенными круглыми шляпками заклёпок, совсем как на крытых перронах в старых европейских городах. На открытом базаре продают и продукты, и промышленные товары, и конца ему не видно. За прилавками публика многонациональная – приезжают со всего бывшего Союза. Но есть и местные крестьяне: одеты они, как правило, в старые пиджаки, армяки; женщины в передниках поверх серых юбок, на голове белые платочки. От них пахнет хлевом и деревенским воздухом. Кажется, живут они бедновато. Некоторые по-деревенски застенчивы, говорят мало и с сильным акцентом. Хотя есть и другие – точно такие же, как на наших рынках, хамоватые перекупщики.
Я догоняю её около помидоров, и кричу:
– Я, я куплю помидоры!
– Покупай, если тебе нужны такие помидоры, – отвечает она с полным презрением.
Я опять сбита с толку, обескуражена, не получаю от рынка никакого удовольствия, более того – ничего вокруг себя не вижу. Хватаю её за руку, говорю:
– Давайте договоримся…
– Отстань! – огрызается Тамара. – О чем я с тобой должна договариваться? Когда мы к вам приезжали во время войны – вы что считали копейки, чтобы нас накормить? Я помню, как меня встречала твоя мама.
Мама моя действительно всегда старалась накормить Тамару домашней едой. Она очень любила её, находила возвышенной и одухотворенной, ценила её талант музыканта и педагога – только всё это было в шестидесятых, а не в войну. Она, конечно, имеет в виду свое поколение, эвакуацию. На рынке спорить не хочу. Но как-то грустно, ни одного толкового шага сделать не могу, никакого кайфа от рынка. Все мое внимание сосредоточено на том, чтобы снова не потерять её из виду. На ходу покупаю халву и солёные огурцы – продукты, которые она точно не ест, да и мне они не очень-то нужны. Смотрю: она уже около входа на рынок запихивает в свою раздутую сумку на колёсах два кулька вишни, предварительно выяснив у хозяина, из каких он мест. Местечко знакомое, и пока они беседуют, я расплачиваюсь за вишню. Теперь моя задача отнять у неё безумно тяжелую сумку на колёсах, но сумка переходит в мои руки, только когда мы садимся в трамвай – ей просто не поднять такую тяжесть. Она опять мне говорит: «Не бери билет». И вдруг до меня доходит, что я должна отдать деньги за билет, а билет у кондуктора не брать. Так и делаю.
Через несколько дней, когда я покажу ей страницы с моими заметками, специально для неё распечатанные в интернет-кафе, она удивленно поднимет брови и сначала спросит: «Ты что – Бабель?»
Потом прочтет и будет в очередной раз вправлять мне мозги: «Ты ничего не понимаешь! Ты Одесу не чувствуешь. Рынку 200 лет, оттуда всё и начиналось, а ты – бабушки, дедушки».
Но ведь я не про рынок пишу. Я пишу про неё – пишу портрет себе на память.
Виля и его род
Придя домой, мы все раскладываем: кабачки, баклажаны, лук, картошку, помидоры «бычье сердце», вишню – для неё, черешню и персики – для меня, а также ставим в холодильник творог, сметану и сливочное масло.
Мы устали, пьем чай. Тамара позволяет напоить себя чаем. При этом она подбадривает меня: «Лей больше кипятка в чашку, не жалей, лапка"
После чая я лежу на диване, проглядываю местную еврейскую газету и вдруг слышу какую-то возню в кухне. Заглядываю туда – она грузит в свою сумку на колесах два четырехлитровых пластиковых сосуда, – собирается в поход за родниковой водой. Я моментально меняю халат на сарафан, причесываю волосы и демонстрирую ей свою готовность. Она грозно вопрошает:
– Куда это ты собралась?
– С вами пойду за водой.
– Никогда! – отвечает она, – ты мне не нужна. Мне одной проще, я дойду до угла, возьму трамвай – и всё. Мне не нужно, чтобы ты устраивала мне истерики. Я как ходила по дороге, так и буду ходить, и не тебе меня учить. Дорога – для всех!
Вопрос решен, возражения не принимаются. Она мягко выталкивает меня из кухни в комнату, выбирается со своей груженой пластиковыми бутылями колесницей в вестибюль, как обычно натыкается пару раз на ящики с запасами, и через минуту я уже слышу, как она запирает ключом дверь со двора.
Я наказана. И пусть. Собираю свою сумку и иду на пляж. По дороге размышляю, как это я не смогла договориться с ней о совместных действиях по части обеспечения нашего быта – чувствую себя неуютно. Когда я ехала сюда, думала, что, как все дети, навещающие престарелых родственников, «натаскаю воды, починю крышу и дров заготовлю». Я даже была уверена, что мой скромный труд может пригодиться в этом доме. А теперь выходит, что все крутится вокруг меня. Я никогда не занимаюсь уборкой, она ужасно злится, если я хватаюсь за тряпку, ей не нравится, когда я что-то покупаю; приготовление еды, кроме салата, тоже не приветствуется. Топлю в море свои тяжелые мысли и надеюсь, что ей помогли войти в трамвай и уступили место около двери, и даже представить себе не могу, как она обычно добирается обратно с полными баклагами…
Вечером опять сидим за столом.
– Куда ты так смотришь? – спрашивает Тамара.
– Это чья фотография у вас в серванте? Мужчина симпатичный.
– Это Виля, мой двоюродный брат. Его уже нет, он умер рано от наследственного заболевания. Он при Хрущеве был директором завода. Его уважали все: и рабочие, и высшее начальство – он был большой умница, отличный специалист и исключительно честный человек. Виля прошел путь от простого рабочего, он был прекрасным инженером по мукомольному оборудованию. Однажды его послали в Монголию, чтобы обсудить план строительства мукомольного завода в Монголии. Наши собирались продать туда советское оборудование. Но Виля съездил, изучил вопрос и пришёл к выводу, что монголам дешевле покупать готовую муку, чем строить завод и молоть пшеницу, которую они будут привозить из-за границы. Так и сказал им. Хотя на контракте с Монголией он мог бы хорошо заработать. Вот такой он был порядочный человек.
– Хочешь, я расскажу тебе его историю?
Я уже не знаю, хочу или нет. Придётся внимать и запоминать имена, чтобы случайно не задать глупого вопроса, выдающего мою невнимательность. Несмотря на то, что мне интересно, я периодически подремываю, как, впрочем, и все «слушатели». Тамара в хороший день, когда я мало работаю, наговаривает порядка пяти-шести часов. Рассказывая о своей семье, она пробуждает в моей памяти другие истории – истории моей собственной семьи и людей, с которыми меня сводила жизнь, которые тоже могли бы стать предметом повествования. Они, как падающие звезды, ярко вспыхивают в моем воображении и быстро гаснут, оставляя тающий след в облаках; у них нет той силы, которая присуща её воспоминаниям. Пока я раздумываю, Тамара начинает:
«Виля, которого ты видишь на фотографии, был женат на Берте. Берта была женщиной необычайной красоты. Она была скромна и даже немного застенчива. Её красота струилась изнутри и придавала её движениям и манерам величественное спокойствие и грациозность. Я должна тебе сказать, что женщины Одессы – это особые женщины, настоящие. Они никогда не позволяли относиться к себе как-нибудь; в Одессе женщина – это королева. Так вот, Берта была королевой.
Родителями Берты были Лазарь и Рива. Рива жила в Одессе и была дочерью инженера. А донжуан Лазарь был родом из Вильнюса, но мы о нем мало что знали. В Вильнюсе, несомненно, осталась его довоенная семья. Он, очевидно, побывал в плену, но никому об этом не рассказывал. Думаю, что в Литве он после войны был объявлен без вести пропавшим. Ему нельзя было возвращаться, его бы посадили в тюрьму, как человека, прошедшего плен. А в Одессе он устроился; таких доносчиков, как в больших городах или в той же Прибалтике, в Одессе никогда не было. Но, естественно, его историю никто не знал. Он повадился ходить в семью Ривы, хотя был значительно старше, а Рива была в расцвете своей красоты. Она молчала, но он не отступал. Тогда он сказал, что если она не выйдет за него замуж, он сведет счеты с жизнью; она в конце концов согласилась, и они вскоре поженились. Рива родила ему четверых детей, но хозяйства вести так и не научилась: дом был неряшливый, готовила она из рук вон плохо, за собой тоже не следила. Вот так бывает в жизни! Красавица превратилась в неряшливую простушку. И Лазарь стал повторять, что чем жить с такой непутёвой женой, лучше уйти к калеке. Так оно и вышло. Он ушел к женщине, у которой одна нога была короче другой.
Один из мальчиков после ухода отца сошел с ума, а Берта не порвала с отцом, приходила в его новую семью, подружилась с его женой и её дочерью. Можно сказать – прижилась там.
Лазарь был очень талантлив, он рисовал. Наверное, скучал по краю, где вырос, и по своей довоенной семье. Его картины и рисунки оказались в нашем доме, я потом их передала в музей.
Так вот эта самая красавица Берта, на которой женился Виля, после свадьбы тоже перестала следить за собой, как и её мать, дом тоже её мало интересовал. Они жили в достатке, но она была ленива и характер у неё был скверный. И бедный мой Виля не находил дома семейного уюта, тепла и даже любви. Она считала, что отношения с мужчиной можно иметь только для того, чтобы завести детей, и ни в какую. А найти женщину на стороне ему не позволяла порядочность. Когда в день смерти она пришла к нему в больницу (дома она не желала за ним ухаживать) и поняла, что часы его сочтены, она упала в обморок. Виля собрал последние силы и позвал врача, чтобы её привели в чувство. Он думал не о себе в тот момент, он думал о ней. И Виля умер только после того, как убедился, что его супругу привели в чувства и ей ничто не угрожает. Ему было всего сорок пять.
У Вили с Бертой было двое детей. Красота матери передалась одной из дочерей – Циле. Она была утонченно красива и скромна. Её необыкновенная красота, – продолжает Тамара, изображая в воздухе красоту Цили своими тонкими пальцами, – привлекала людей, но она была очень застенчива. У неё было особое свойство: когда вокруг неё оказывались мужчины, глаза её делались глубокими как океан, зрачок как бы проваливался в глубину, излучая неземной свет; мужчины, которые приближались к Циле, чувствовали исходящее от неё поле; они, как птицы, обжигались её огнём и влюблялись безумно. Когда она училась в институте, один из профессоров подарил ей редкую книгу – на титульной странице он сделал надпись: «В знак преклонения перед женской красотой». Циля потом стала женой банкира. Но вот странно, у такой красавицы не было детей».
Может, я циник, но представляю Цилю просто страстной женщиной, которая в силу своего воспитания и традиций еврейской семьи старалась всякий раз подавлять свои чувства. А приближение мужчин её так волновало, что внутри все кипело, излучая в инфракрасном диапазоне, где и зависали её жертвы. Детей, наверное, не было по той причине, что, ещё учась в институте, она могла сделать аборт и, естественно, никому об этом не рассказывала, как все скромные девочки. Ведь замуж за банкира она вышла, закончив учебу и ещё проработав некоторое время – лет, наверное, в двадцать пять, не раньше. Это было в конце восьмидесятых или даже в начале девяностых. Мне трудно поверить, что такая красавица, сжигаемая внутренним огнем, в то время мучила себя затворничеством. Но мы с Тамарой часто видим предметы под разным углом. Жаль, что она не верующая, если бы она посещала церковь, там наверняка бы случались чудеса; а каким бы она могла стать проповедником! Но я это все думаю про себя и, конечно, не перебиваю её своими глупыми комментариями.
Тамара глядит в пространство, как будто смотрит кино про Вилю и Цилю и пересказывает его мне.
«Банкир купил прекрасный дом, – продолжает её голос за кадром, – он создал все условия для своей любимой жены, а прибавления в семье все не было. Десять лет он водил её по врачам – и никакого толку. Отдыхать они обычно ездили за границу. Он лечил её на лучших курортах и в лучших клиниках Германии».
Я наливаю себе чашечку чая, устраиваюсь с ногами на диване, а блюдце с халвой тихонько ставлю на стул перед собой так, чтобы Тамара его не видела из-за стола. Она кидает на меня строгий взгляд, как бы концентрируя мое внимание, и продолжает:
«И вот однажды они поехали отдохнуть на хутор в совершенно дикое место. Остановились в деревенском доме, хозяйка была очень гостеприимна, готовила им, приносила парное молоко. Она каким-то образом догадалась о бесплодии молодой женщины и предложила свести её к местной знахарке. Знахарка ничего не спрашивала, никаких особых действий не производила, просто положила ей руки на живот и пошептала что-то себе под нос. Циля не придала этому особого значения и быстро забыла. Но прошло немного времени, и она забеременела и родила сначала мальчика, а через некоторое время и второго ребёнка – девочку. Это мои внучатые племянники. Мальчик был здоровым, а девочка родилась без одного глаза».
– Как это без глаза? – спрашиваю, чуть не подпрыгнув на диване.
– Так это! Врачи говорят, что глаз просто не развился в чреве матери. Ей сейчас ещё только пять лет. Родители ей оставляют длинные кудряшки, которые закрывают половину лица. Она похожа на ангелочка и очень талантлива – у неё прекрасный слух и она замечательно поёт. Мы её не утомляем музыкальной грамотой, врачи говорят, что нельзя напрягать.
Удивительно, как бесстрастно она всё это рассказывает, как близко в её рассказе стоят фразы типа «умереть от любви» и «уйти к калеке». Я вытаскиваю из-под стола альбом. Мы находим чёрно-белые фотографии Берты и Цили, они и вправду были библейскими красавицами. А фотографию дон-жуана Лазаря не удалось найти. Наверное, это неспроста, он ведь всю жизнь скрывал свое настоящее имя.
Я собираюсь спать, медленно раздеваюсь: мысль об ангелочке с одним глазом не дает мне покоя. А вдруг это и есть первозданная гармония: красота и уродство, как инь и ян. Ведь в определенный период времени красавица мать и уродливое дитя были одним целым. Значит, лицо или тело – это только абажур, под которым может гореть свеча или электрическая лампочка, а может и ничего не гореть. Тамара это знает давно, может, с самого начала. Это сакраментальное знание и есть её ключ к окружающему миру. А, может, бесплодие было знаком, защитой, чтобы не родился неполноценный ребенок.



