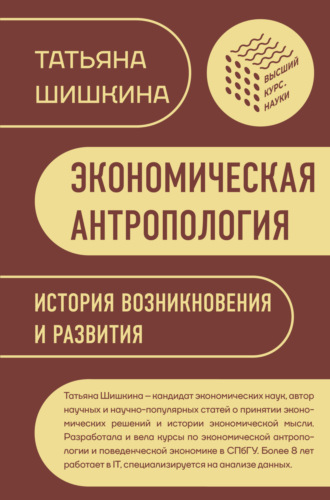
Татьяна Шишкина
Экономическая антропология. История возникновения и развития
В институте Мосс читает, парадоксальным образом, лекции по полевой работе, хотя сам никогда ее не проводил. В этот период он также разрабатывает методические указания, анкеты и опросники для эмпирических исследований. В 1931 году Мосс получил наконец постоянное место в Коллеж де Франс, где продолжил преподавать как практические, так и теоретические курсы. Студенты отзывались о нем как удивительно теплом, склонном к импровизации профессоре, пары которого были вызовом интеллектуальным способностям слушателей. Круг интересов Мосса в те годы был поистине необъятным – от Индии и философии йоги до магии Австралии и религии Северной Америки. Он предпочитал лекциям семинары, строил занятия вокруг множества обсуждений, каждый год значительно обновлял свои курсы, так что некоторые записывались к нему снова и снова. Многие из его учеников начинали работать для Анналов – сначала как корректоры, а затем и как авторы.
Академические цели, место, само амплуа Мосса значительно меняются в этот послевоенный период. Он больше не подающий надежды и беззаботный племянник Дюркгейма, старый холостяк, на попытки женить которого мать махнула рукой так же, как на надежды заставить написать диссертацию. Теперь Мосс – главный рупор французской социологии, ему необходимо сохранить и развить интеллектуальные достижения Дюркгейма, опубликовать черновики погибших друзей, стать официальным представителем новой дисциплины в Европе. И удивительным образом этот беззаботный, мягкий, легко увлекающийся и не склонный доводить большие проекты до конца человек собирается, подтягивает носки повыше и справляется с возложенной ношей. Он даже возрождает – правда, всего на пару лет – Анналы, и для первого послевоенного выпуска готовит обширный обзор работ Дюркгейма. И, раз уж выпуск получился почти на тысячу страниц и место есть, добавляет одно небольшое эссе от себя. «Очерк о даре».
Если карьера Малиновского предстает как прямой луч, ее развитие линейно и «Аргонавты»[41] – самый крупный остров в целой цепи островов, то «Очерк о даре» Мосса – это вершина пирамиды, которую он собирал на протяжении жизни с разных сторон. Экономические институты начинают занимать Мосса постепенно. Еще до войны, по приглашению Марселя Деа он работал над проблемой колебания обменных курсов, а затем перешел к исследованиям происхождения денег. После знакомства с работами Селигмана о Меланезии Мосс увлекается вопросом дарообмена, изучает описания потлача у Боаса. Продолжает заниматься социологией религии, коллективными представлениями и тотальными социальными фактами. Одновременно с этим его заботит социалистическое движение, трудности, встававшие перед ним, и неизменный вопрос, звучащий от критиков: если не капитализм, то что? Если не рыночная экономика, то какая? Мосс заворожен идеей кооператива, сотрудничества, взаимности и возмездности. Наконец, после войны усиливается его интерес к психологии, к противостоянию индивида и общества. Всё это однажды сливается вместе в одном очерке: первобытные племена, религия как организующий принцип жизни сообщества, взаимность, роль убеждений в жизни человека, поиск альтернативы товарообмену и «экономическому человеку». Не диссертация о молитве, над которой он работал десятки лет, не огромное исследование феномена национальности, которое он так и не закончил, а именно этот маленький очерк стал его главным произведением. Мосс назвал его просто: «Дар», и разговоры о нем не утихают до сих пор. Поговорим о нем и мы.
Дар Марселя Мосса
Вышедший в 1923 году «Очерк о даре» Мосса – это истинный opus magnum экономической антропологии, его значение для нее сопоставимо с той ролью, которую сыграли для политической экономии «Капитал» Карла Маркса и «Богатство народов» Адама Смита, вместе взятые. Очерк положил начало не только французской ветви экономической антропологии, но и стал программным трудом в социологии и философии, а категории «тотальных поставок» (и «тотальности» вообще), «духа дара» с легкой руки Мосса прочно обосновались на страницах работ исследователей из самых разных дисциплин. У колоссальной популярности очерка есть несколько причин. Во-первых, как и «Аргонавты» Малиновского, он заполнил пробел в социальных науках начала ХХ века, ответил на растущую потребность выработать единый подход к изучению архаических обществ. При этом если Малиновский разработал новую методологию, то Мосс указал пути, которым мог следовать кабинетный исследователь в новом мире полевых работ и длительных экспедиций. Во-вторых, очерк Мосса – замечательная отправная точка для любого, кто решит познакомиться с экономической антропологией или социологией дарообмена. Для своего анализа Мосс обработал огромное количество источников, и, даже если вы не согласны с выводами, его сноски еще долгие годы после публикации очерка можно было использовать как прекрасный список книг для самостоятельного чтения. В-третьих, именно с «Очерка о даре» открылась новая, социально-политическая страница антропологических исследований.
В отличие от Малиновского, для которого исследование материальной культуры туземных обществ было целью, Мосс во многом использовал анализ архаического дарообмена в качестве средства. С одной стороны, Мосс стремился показать, что, узнав больше об архаических экономических институтах, мы сможем лучше понять современные рыночные общества. Эту идею не назовешь оригинальной – обратиться к прошлому в поисках ответов на современные проблемы предлагали, кажется, еще во времена Античности, а в рамках антропологии она стала развитием концепции «пережитков», предложенной Тайлором, с которым Мосс познакомился во время своего короткого визита в Великобританию. Согласно этой концепции, часть институтов и обычаев современного общества – это пережитки практик предыдущих эпох. С течением времени эти практики утратили свое истинное значение и теперь представляют собой пустую оболочку, когда-то давно полную смысла. Классический пример такого пережитка по Тайлору – пожатие рук при встрече. Когда-то давным-давно, утверждал Тайлор, пожимая руки, люди показывали, что не прячут оружие, то есть декларировали свои мирные намерения, теперь же этот жест превратился в простое проявление вежливости. Мосс полагал, что архаические институты продолжают существовать в наши дни не только в форме пережитков, но и по-прежнему влияют на современные нормы и практики, развиваются и воплощаются в них, так что изучение прошлого позволит больше узнать не только о появлении и развитии институтов, но и о современной жизни.
С другой стороны, Мосс решал в очерке и сугубо социально-политическую задачу. Французский социализм той поры предлагал богатую критику рыночного общества, подчеркивая тяготы труда рабочих, жадность и черствость капиталистов и общую социальную несправедливость. Найти поддержку с такими лозунгами было несложно, но куда трудней было ответить на вопрос о том, что социалисты могут предложить взамен капитализму. Активный участник социалистического движения, Мосс пытался оказать ему интеллектуальную, научную помощь и если не разработать полноценный проект нового государства, то хотя бы подсказать направление, где следует искать альтернативные пути организации общества, в первую очередь его экономической жизни. После короткой поездки в Россию путь революции не казался Моссу привлекательным, да и события Первой мировой укрепили его миролюбивые взгляды. Кроме того, идея отказаться от частной собственности вовсе не прельщала Мосса, уютно обосновавшегося в престижном районе Парижа. Необходимо было найти новый, еще неизведанный путь, и, в то время как коммунистический восток призывал забыть о тяготах настоящего и обратить все взоры в счастливое будущее, Мосс присмотрелся к прошлому.
Одной из главных проблем рыночного капитализма Мосс видел появление двойной морали: одна система этических стандартов использовалась для личной жизни, и совсем другая – для ведения дел. Эта двойственность приводила к росту разрыва между деловой этикой и истинными ценностями гуманизма. Отношения в капиталистическом обществе в первую очередь Мосс критиковал за их холодность, а участников такого общества – за излишний индивидуализм, граничащий с эгоцентризмом, за эгоизм, расчетливость и жажду наживы, в конечном итоге приводящих не только к страданиям рабочего класса, но и в первую очередь к одиночеству отдельного человека, к его оторванности от своей группы и разобщенности общества в целом. Классовая, имущественная и макроэкономическая проблематика марксизма занимала Мосса куда меньше психологической проблемы, с которой сталкивался, по его мнению, при капитализме любой человек, независимо от социального положения и дохода. Одним из главных тезисов Мосса стала идея о том, что выделение экономики в отдельную сферу жизни общества и связанное с ней раздвоение систем морали неизбежно калечит, коверкает душу человека, превращает его в жалкое подобие самого себя, не способное за насаждаемым рынком рационализмом понять истинную причину своего одиночества и страданий. Поэтому и в очерке о даре в качестве предмета своего исследования Мосс выбрал сочетание морали и экономики в отношениях обмена[42]. Цель своего исследования Мосс описывает просто: «извлечь нравственные выводы относительно проблем, порожденных нашим правовым и экономическим кризисом»[43]. Из этой части главы вы узнаете, как и почему для достижения этой цели он стал исследовать архаический институт дарообмена и как его во многом донкихотский поход против капиталистического товарообмена вдохновил сотни исследователей.
У очерка о даре красивая, поэтически закольцованная структура. Объектом исследования Мосс выбрал, как нетрудно догадаться из названия, феномен обмена дарами и в самом начале задал три простых вопроса: что заставляет людей совершать, принимать и возмещать дары, а в конце работы вновь напомнил о них и дал точный ответ. В этом скрыта особая притягательность очерка и, возможно, один из секретов его популярности – ни один вопрос не остается без ответа. Критики, правда, могут сказать, что Мосс просто не останавливается ни на одном вопросе, на который у него не готов ответ. Вообще, чтение очерка о даре иногда напоминает странный диалог с человеком, увлеченным чем-то одним. Так бывает, если вы говорите, скажем, с ярым толкинистом – только вам покажется, что после долгого разговора о Средиземье вы чудом смогли выбраться в безопасные воды обсуждения проблемы выращивания огурцов, как собеседник набрасывается на вас с новой силой, ведь разговоры об огороде напомнили ему о Сэме Гэмджи – верном спутнике Фродо и отличном садовнике. Так и в случае с очерком – какими бы спокойными не казались его воды, тут и там подстерегает внезапное упоминание силы вещей, духа дара и персонализации объектов. Очерк предстает перед читателем в постоянной двойственности, когда основной антропологический текст существует не столько ради самого себя, сколько ради подтверждения идей Мосса о духе дара, коллективизме и альтернативах социализму, идей, которые со всей очевидностью не следуют из текста, а питают его. Выбранный подход привел к тому, что очерк о даре касался исключительно широкого перечня направлений – от социологии современной власти до истории германских племен, и Мосс использовал любые данные, способные подтвердить его идеи. С научной точки зрения это было спорным решением. Стремясь максимально расширить охват своего анализа и, главное, сферы применения своих выводов, Мосс, образно выражаясь, раскатал тесто настолько тонко, что в некоторых местах оно стало просвечивать, а где-то и вовсе порвалось. Однако от этого феномен очерка о даре еще интереснее – даже идеальному тексту нелегко добиться успеха, а попробуйте-ка сделать не лишенный огрехов небольшой очерк одним из самых цитируемых и популярных в мире социальных наук.
Строго говоря, очерк о даре стал развитием двух исследовательских проектов Мосса: анализа договора, проводимого вместе с Дави[44], и работ по жертвоприношению, написанных вместе с Юбером. Такая «предыстория» сильно повлияла на подход Мосса, изначально рассматривавшего дарообмен не как предтечу товарообмена, а как особый тотальный институт, связанный с верованиями и представлениями о магии не меньше, чем с экономикой. В начале ХХ века экономическая история полагала, что современный товарообмен вырос из бартера: вначале было простое натуральное хозяйство, полностью удовлетворявшее нужды семьи, затем появилась специализация – оказалось, что я лучше выращиваю яблоки, а сосед – варит мыло, и мы стали менять яблоки на мыло, а в обществе в итоге стало больше спелых яблок и хорошего мыла. Затем выделился особый вид таких обмениваемых объектов, обладавших рядом ценных характеристик: они не портились, их можно было обменять на что угодно и когда угодно, их все узнавали, их можно было делить или, наоборот, хранить и передавать в большом количестве. Такие предметы стали играть роль товарных денег (кстати, иногда возникающих и в современных обществах, как например нотгельды в Веймарской республике в годы бешеной гиперинфляции), а следом появились и настоящие деньги, и вот возник знаменитый товарно-денежный обмен. Таков был мир согласно экономической истории времен Мосса, и дарообмен относился к первым ступеням эволюции отношений обмена, считался чем-то вроде особой формы бартера, в котором между получением «яблок» и передачей «мыла» возник временной лаг. Мосс был с этой схемой в корне не согласен. Он рассмотрел случаи дарообмена в Полинезии, Меланезии, Северной Америке, Древнем Риме, Индии, Китае и в древнегерманском обществе и пришел к выводу, что ни в одном из данных регионов обмен дарами не был ни бартером, ни просто добровольным обменом подарками. Это был особый, не похожий ни на что в нашем рыночном обществе институт, который, на взгляд Мосса, мог подсказать альтернативные пути развития, а потому и сам феномен дара предстает в очерке как альтернатива эгоистичному стяжательству капиталистического общества.
Кстати, едва ли ни первое, что вы заметите, если после прочтения этой книги решите самостоятельно познакомиться с работой Мосса – он почти не использовал слово «дарообмен». Вместо этого Мосс исследовал «потлач». Потлач – это один из случаев дарообмена, распространенный среди некоторых индейских племен в Северной Америке, в первую очередь – на территории современной Канады. Забегая вперед на несколько десятков лет и заглядывая в работы Салинза и Грегори, необходимо заметить, что потлач и дарообмен – это не совсем синонимы. Их можно представить себе как два пересекающихся множества, как в кругах Эйлера, где множество случаев дарообмена значительно больше множества потлача и включает его почти целиком (но всё же только почти). Говоря иначе, большинство случаев потлача – это дарообмен, но далеко не всякий дарообмен – это потлач. В современной экономической антропологии термин «потлач» больше почти не используется как синоним «дарообмена», и обычно употребляется только когда речь идет о североамериканских индейцах. Благодаря работам антропологов и историков ХХ века было выявлено множество других случаев возмездного дара, и называть все их потлачом – примерно то же самое, что называть все автомобили «Фордами» просто потому, что это очень популярная марка машин. Однако именно потлач во многом стал воплощением всех наиболее интересовавших Мосса сторон дарообмена, а поскольку он всегда проходил между коллективами, его исследование перекликалось со страстью Мосса к кооперативам, к стремлению выйти за пределы узких рамок отдельных индивидов, которые создавала рыночная экономика. Характерная для потлача идея о том, что собственность необходимо отдавать, и от этого она только увеличивает свою ценность, так же была интересна для социализма. Наконец, агонистический характер потлача выгодно привлекал внимание читателя, предлагая загадку и определенную степень экзотики, обеспечивал ту степень отдаленности, благодаря которой можно было смотреть на изучаемые сообщества со стороны. К тому же во времена Мосса дарообмен был еще не так хорошо изучен, другие формы, кроме потлача, были известны мало, и Мосс вполне мог решить, что слово «потлач» станет нарицательным для всех случаев возмездного дара, подобно тому, как марка «Ксерокс» стала нарицательной для всех копировальных аппаратов. Впрочем, потлачу успех ксерокса повторить не удалось.
Смешение потлача и дарообмена делает очерк Мосса неудобным для сопоставления с более поздними работами в экономической антропологии дарообмена. Это достаточно парадоксально, если учесть, что большинство этих работ в той или иной степени выросли из очерка о даре. Кого-то Мосс вдохновил на развитие своих идей, кто-то, напротив, писал из духа противоречия, будучи в корне не согласен с концепцией Мосса, но редко кто мог остаться равнодушным к этой работе. Тем любопытнее, что сами оригинальные идеи Мосса не только были сильно изменены, подчас до неузнаваемости, его последователями, но и с трудом могут быть встроены в корпус современных исследований дарообмена. Выбранное им определение дарообмена, подход к его исследованию, даже название – потлач – все эти детали необходимо подгонять и перелицовывать, чтобы они подошли к механизму экономической антропологии, подобно тому, как приходится переводить унции и фунты в граммы, прежде чем приступить к готовке по американскому рецепту. Тем не менее большинство вопросов, которыми в ХХ веке занималась экономическая антропология, впервые были поставлены Моссом, и его трактовки оказали определяющее влияние на множество работ. Это перекликается с тем, что мы уже знаем о характере Мосса из первой части этой главы – талантливый, но не слишком усидчивый, в коротком очерке о даре он крупными мазками набросал то, что в последствии расшифровывалось и перерисовывалось сотни раз. Можно сравнить это с такой картиной: представьте себе веселого, порывистого профессора – борода и бакенбарды задорно торчат в разные стороны, глаза озорно блестят. Вот он пробегает с одной переполненной лекции на другую (уже планируя, как после пар заглянет в парижский ресторанчик посидеть с друзьями и студентами), и вы, улучив минутку, спрашиваете у него, что такое дарообмен. Он быстро пишет на клочке бумажки несколько слов, сует его вам в руки и бежит по своим делам дальше. На клочке написано следующее: дух дара, сила вещей, нельзя мерить дарообмен нашими категориями. А дальше дело за вами.
Мосс обработал огромное количество источников о дарообмене, начиная с отчетов полевых антропологов вроде Боаса и Малиновского и заканчивая историческими и литературными памятниками Индии и древнегерманских народов. Во всех случаях он упорно обращал внимание читателя на ту роль, которую дарообмен играл в этих обществах. Можно сказать, что в очерке Мосса экономические отношения имеют определяющее значение в устройстве жизни всего общества в целом. Мысль не новая, и особенно не новая для социализма, вдохновленного материализмом Маркса. Однако для Мосса, в отличие от Маркса, ведущую роль в обществе играли отношения обмена, а не производства, – и этот акцент на обмене сохранялся в экономической антропологии на протяжении всего ХХ века. Отношения обмена для Мосса были точкой, в которой соединялись мораль и экономика – а именно их взаимодействие и занимало его больше всего. В капиталистическом обществе, по Моссу, у отношений обмена есть собственная, особая мораль – то, что приемлемо в деловой жизни, вполне может оказаться неприличным, жестоким и достойным порицания в жизни личной. У нас есть языковые формулы, косвенно подтверждающие эту идею, самая знаменитая из которых – «бизнес, ничего личного». Мы интуитивно понимаем, что есть две этических системы, одну из которых нужно использовать при общении с друзьями и родными, а другую – с деловыми партнерами, клиентами и начальством. Смешение этих систем обычно вызывает бурю протестов и общественного неодобрения, начиная с неоднозначного отношения к брачным контрактам в некоторых странах и заканчивая теми высотами, на которые взлетят ваши брови, если сидящая иногда с вашим ребенком теща попросит оплаты услуг няни.
Мосс полагал, что эта противоречивая общественная мораль появилась относительно недавно и ее рождение было связано с выделением экономики в отдельную сферу жизни общества. В докапиталистических, архаических сообществах, экономики как отдельной, обособленной сферы, на его взгляд, не было, и все четыре главных составляющих экономических отношений – производство, распределение, обмен и потребление – были погружены в общую жизнь общества, переплетены с культурой, религией и политикой. Поэтому и особой этической системы для экономической деятельности не было. Как результат, Мосс предположил, что эти общества жили честнее, человечнее, и если их члены и не относились друг к другу добрее, чем мы, то будьте уверены – их хотя бы за это осуждали. В чем-то позиция Мосса была новым витком мифа о «первобытном коммунизме», который так отчаянно клеймил Малиновский.
Наибольшим воплощением этой погруженности экономики в другие сферы жизни общества, смешения экономических, религиозных, культурных и политических институтов для Мосса и стал дарообмен. Мосс отметил, что обмен дарами – это не только экономический акт, но и социальный (в ходе него выстраивается социальная иерархия), и религиозный или магический (с ним связаны верования и ритуалы), и политический (с помощью него устанавливаются союзы между племенами), и даже юридический (его публичный характер позволяет привлечь внимание к договоренности и таким образом закрепить ее, что особенно важно в обществах, где нет письменности, а значит, и подписанных контрактов). Анализировать только одну сторону дарообмена значило бы намеренно обеднить собственное исследование, и Мосс предложил вместо этого называть дарообмен «тотальным институтом», который затрагивает сразу множество сторон жизни и может быть понят только погруженным в контекст. Поскольку тотальный институт происходит одновременно везде, изучать его можно только во всей его полноте, то есть, используя термин Мосса, во всей его «тотальности». Понятие тотальности стало одним из ключевых для французской школы экономической антропологии и несколько мифологизировалось последователями Мосса, превратившись в вещь в себе, и, как и словосочетание «вещь в себе» в этом предложении, стало иногда использоваться, когда автор не может подобрать лучшего слова. По своей же сути оно было развитием концепции «социального факта», предложенной Дюркгеймом.
Понять значение «социального факта» легко, вновь сравнив теорию Дюркгейма и Мосса с другим популярным научным направлением в рамках материализма той поры – марксизмом. Самым простым элементом жизни в рамках рыночной экономики, на взгляд Маркса, был товар – отправная точка всего марксистского анализа, тот базовый кирпичик, с помощь которого Маркс предлагал подступиться к исследованию капиталистического общества. Роль товара в социологии Дюркгейма в определенном смысле и выполнял социальный факт, самая простая, элементарная единица социальной жизни. При этом «элементарная» не означает «маленькая», и Дюркгейм предлагал считать социальными фактами в том числе и достаточно крупные институты, например, религию и даже социализм. Социальный факт можно представить себе как атом – частица, из которой соткана ткань жизни общества. Как и атом, социальный факт – вещь, по сути, делимая (социальный факт включает убеждения, ценности, способы мышления и т. д.), однако для целых областей исследования его можно считать мельчайшим элементом системы, подобно тому как для исследования механики движения автомобиля не обязательно углубляться в проблемы поведения квантовых частиц.
Дарообмен с его тотальностью как раз и был таким социальным фактом – с одной стороны, это институт со сложной структурой, состоящий из нескольких элементов, разнесенных во времени, да еще и имеющий множество вариаций в разных сообществах. В отличие Малиновского, Мосс не задерживался на деталях конкретных случаев реципрокности и предлагал рассмотреть феномен обмена дара обобщенно, как некий закрытый элемент системы, играющий ведущую роль в определении типа этой системы. Чтобы добиться такого обобщенного, отстраненного взгляда на дарообмен, Мосс использовал сравнительный подход, сделав его одним из основных, наравне с полевыми работами, методом экономической антропологии, а в результате пришел к выводу об эволюционном «континууме», как назовут его позднее Грегори и Салинз, фактически разработав новую концепцию эволюции экономических институтов. В этом одно из главных достоинств очерка о даре – из его семечка выросло огромное дерево в лесу социальных наук. Но обо всем по порядку.
Очерк о даре можно условно разделить на два слоя: антропологический и социально-политический. Ключевым вопросом первой, антропологической части стала мотивация участников дарообмена. Изучив полевые дневники и исторические документы, Мосс пришел к выводу, что участие в дарообмене было весьма накладным – ценность ответного дара могла превышать полученный на 30, а то и 100 процентов[45]. Далеко не всегда полученные в дар вещи можно было использовать свободно, например, предметы обмена кула были неудобными в носке, а в ряде случаев, как в потлаче, вещи вообще не дарились, а демонстративно уничтожались. Читая о публично сожженных красиво расшитых одеялах и прилюдно расколотых медных пластинах, Мосс вполне разумно задавался вопросом – зачем кому-то участвовать в дарообмене? Ведущее направление экономической науки той поры, недавно появившаяся неоклассическая школа, для любого экономического поведения (а производство, обмен и даже уничтожение собственности в данном случае можно отнести к экономическому поведению) предлагала теорию максимизации полезности. Эта теория выросла из работ Джереми Бентама, в духе эпикурейцев считавшего, что люди в этой жизни стремятся к двум вещам: получить наслаждение и избежать страдания. Немного изменив этот тезис, экономисты XIX века предположили, что люди стремятся получить в этой жизни максимальное удовольствие, то есть удовлетворить свои неограниченные потребности с учетом того, что ресурсы, к сожалению, ограничены. В первую очередь этим вопросом занимались представители школы маржинализма, считавшие, что человек стремится максимизировать полезность последней потребленной единицы товара – то есть предельной, или, по-английски, marginal, – отсюда и название «маржинализм». Какое-то время в экономической теории царил разлад: маржиналисты полагали, что цену блага определяет величина полезности, которую оно может принести потребителю, в то время как сторонники многофакторной теории ценности уверяли, что главную роли в цене играют издержки производства. Но к тому времени, как Мосс взялся за свой очерк, этот спор был счастливо разрешен Альфредом Маршаллом, осуществившим «неоклассический синтез».
Маршалл показал, что цена определяется в точке пересечения кривых цены спроса и предложения, а значит, обе спорящие стороны правы ровно на 50 процентов. Компромисс понравился всем, а крест Маршалла – кривые спроса и предложения, пересекающиеся словно крылья птицы, – стал одним из самых узнаваемых символов экономической теории. Так идея о максимизации полезности получила всеобщее признание и прочно обосновалась в твердом ядре экономической науки. Затем, конечно, было разработано множество дополнений этой теории, в большинстве своем изучавших, как именно можно извлечь из своих действий наибольшее удовольствие, то есть максимальную полезность. Например, что лучше – максимально полно удовлетворить одну потребность или удовлетворить не до конца, но зато сразу несколько потребностей? В ХХ веке для поиска оптимальных стратегий поведения стала использоваться теория игр, однако ключевая идея вплоть до появления поведенческой экономики оставалась по-прежнему простой: люди стремятся максимизировать свою индивидуальную выгоду, они рациональны и, главное, эгоистичны. Эгоизм в данном случае не выступал в качестве отрицательной черты характера, а был просто характеристикой натуры человека, что-то вроде: у человека один нос, две руки, и он стремится к индивидуальной выгоде – и это ни плохо ни хорошо. Адам Смит, основатель классической экономической теории, даже предположил, что эгоистические интересы отдельных людей, сложенные вместе, служат на пользу общества.
Любопытным продолжением идеи максимизации полезности стала концепция робинзонады, распространенная в экономике в конце XIX века, в период расцвета маржинализма. Напомню, что названная так по имени Робинзона Крузо концепция предполагала, что можно изучить поведение одного человека изолированно – как если бы он находился на необитаемом острове, – а потом перенести полученные выводы на все общество. Робинзонада, конечно, была только моделью, и экономисты прекрасно понимали, что она представляет собой значительное упрощение реальной картины мира, однако полученные с помощью этой модели выводы были тем не менее ценными и давали общее представление о поведении усредненного и обобщенного индивида. Идея робинзонады воплощала всё худшее, что, на взгляд Мосса, только было в рыночном капитализме – обособленные, одинокие люди, разрыв социальных связей и неумеренный эгоизм, поставленный во главу угла (и – о ужас! – никаких потребительских кооперативов). Для описания мотивации участников дарообмена ни она, ни концепция максимизации полезности не подходили.
Первым делом Мосс обращает внимание читателей на то, что, в отличие от товарообмена, в дарообмене люди не стремятся к получению индивидуальной выгоды[46]. В этом большое отличие позиции Мосса от Малиновского. Психологическим или, возможно, этическим основанием работ Малиновского была убежденность в том, что люди везде одинаковые. Меняются институты, социальная организация, какие-то внешние характеристики жизни и поведения, однако внутренняя суть человека, равно как и система стимулов, способных подтолкнуть его к действиям, мало изменились за историю человечества. Во многом это связано с тем, что Малиновский лично познакомился с людьми, которых исследовал, увидел их в обычной жизни и укрепился во мнении, что разница между ним и ими была куда менее глобальной, чем хотелось бы колониальной этике. При этом разумный эгоизм, стремление к собственным интересам предстает у Малиновского именно таким «твердым ядром» человеческой натуры, мало меняющимся от общества к обществу и от века к веку. С Моссом дело обстоит иначе. Вся его эволюционная концепция развития институтов, а также вся его критика товарообмена строится на тезисе о том, что у современных капиталистов и торговцев принципиально другие мотивы и сознание.


