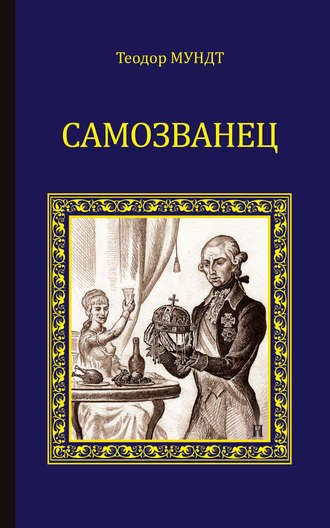
Теодор Мундт
Самозванец (сборник)
Была зима, и с гор дул морозный ветер. От холода щеки молодого гренадера так раскраснелись, что казалось, будто он намазал их свеклой. Правда, на безоблачном небе ярко светило зимнее солнце, но его холодные лучи не были способны смягчить ярость сурового мороза.
Часовой только что собирался обойти дозором вдоль стены, как вдруг увидал, что с пригорка по направлению к пороховому магазину спускается нарядно одетая женщина.
Гренадер вернулся к воротам и стал поджидать там женщину. Ему было предписано останавливать любого человека, не принадлежавшего к составу служащих при магазине, и следить, чтобы никто не только не проникал внутрь двора, но и не бродил возле стен.
Женщина медленно приближалась к воротам; видно было, что она глубоко задумалась о чем-то, так как ее взоры не отрывались от занесенной снегом дорожки.
Весь ее внешний вид производил приятное впечатление; она была одета нарядно, даже богато и изящно.
– Куда вы идете, сударыня? – вежливо остановил ее гренадер.
Женщина испуганно подняла голову, но, увидев гренадера, изумленно раскрыла рот и остановилась; на ее щеках выступил густой румянец смущения.
– Фрейлейн[13] Нетти! – воскликнул часовой в радостном изумлении. – Неужели вы меня не узнаете.
– Нет, узнаю, господин Теодор… господин Гаусвальд, – смущенно поправилась девушка, словно ей казалось неприличным говорить теперь с бывшим студентом в прежнем дружеском тоне.
– Уж не ко мне ли вы? – спросил Гаусвальд.
– Я даже не знала, что вы здесь. Я шла к отцу, вахмистру Зибнеру.
– Как? Вахмистр Зибнер – ваш отец, и вы приходите как раз в тот день, когда я стою на часах? Какая счастливая случайность.
– По воскресным и праздничным дням я всегда навещаю родителей, – ответила девушка со все возраставшим замешательством. – Однако простите, господин Гаусвальд, но мне холодно стоять… я продрогла. До свидания.
Неттхен торопливо прошла через ворота к жилищу вахмистра.
Гаусвальд грустно смотрел ей вслед и воскликнул после долгой паузы:
– Господи боже мой! Как высокомерно, как холодно говорила она со мной. А ведь если я и стал несчастным человеком, если я сбился с намеченного пути, то только из-за любви к ней… Конечно, не следует торопиться ее осуждать. Очень возможно, что ей неизвестна постигшая меня судьба или истинная причина наказания… Очень возможно, что ее просто обманули; ведь я знаю, что она добра, как ангел. Очень может быть, что при виде меня ее сердце сжалось так больно, что она поспешила уйти, не желая показать слез. А что она не относится ко мне равнодушно, это ясно уже из того, что в самый первый момент она назвала меня Теодором. Сколько времени прошло, а она не забыла моего имени. Нет, нет, здесь опять что-то странное.
Подошел патруль, предводительствуемый старым ефрейтором. Гаусвальда сменил на часах Биндер.
Последний лучше всех своих товарищей освоился с военной службой. Начальство любило и отличало его и всеми силами старалось облегчить ему существование. Полковник настолько полюбил его, что Биндер давно стал бы унтер-офицером, если бы это производство не было отвергнуто главным штабом, который в резких выражениях написал полковнику, что не в его компетенции производить солдата, осужденного в наказание за тяжкую вину к бессрочной службе простым рядовым, особенно если такое наказание наложено «высшими сферами».
Благоволение своего начальства Биндер заслужил главным образом своим прекрасным почерком; полковник старался держать его неофициально при канцелярии, а в вознаграждение за это Биндеру было разрешено брать переписку со стороны, что давало ему недурной заработок.
За два года пребывания в Нидерландах, куда был двинут его полк, Биндер заработал больше сотни дукатов разными каллиграфическими работами; но эти деньги он не употребил на улучшение своей жизни, а почти целиком отправил престарелым родителям.
Во время возвращения в Вену он схватил какую-то глазную болезнь, вследствие чего врач запретил ему заниматься письменными работами, и Биндера снова вернули из канцелярии в полк.
Сменившись, Гаусвальд продолжал бродить по двору. Он ждал, что его вот-вот позовут к Зибнеру, но его надежда оказалась тщетной. Промерзнув, он пошел в караулку, но сел там у окна, поглядывая в сторону дома вахмистра.
Вскоре стало темнеть, и, когда совсем наступила ночь, Теодор увидал, что Неттхен выходит из дверей отцовского дома. Гаусвальд сейчас же оделся и выбежал во двор, рассчитывая проводить Неттхен хоть часть пути; но она уже избрала себе других проводников: отца и мать, которые шли по обе стороны ее.
Гаусвальд издали следовал за ними. Когда они дошли до первых домов предместья, Неттхен поцеловала отца, и Зибнер повернул домой; Неттхен с матерью пошли дальше.
– Куда? – грубо спросил вахмистр Гаусвальда.
– Я позволил себе погулять немножко.
– Сами вы не можете позволить себе это, а я позволения не даю. Ну, живо. Направо кругом марш.
Гаусвальд подчинился приказанию и пошел обратно рядом с Зибнером.
– Если бы вы позволили мне прогуляться, – сказал Гаусвальд, – то я воспользовался бы этим разрешением только для того, чтобы проводить вашу уважаемую супругу. Ведь в здешней местности так пустынно… Уже бывали случаи…
– Есть у вас табак с собой? – перебил его Зибнер. – Ну хотя бы на одну трубку?
– Искренне сожалею, что не имею возможности услужить вам, но, если позволите, я сейчас же сбегаю в ближайшую лавочку за хорошим табаком…
– Я тоже очень сожалею…
– Но ведь я могу сходить…
– Прошу правильно понять мою просьбу, – резко оборвал его вахмистр, – инструкция обязывает меня разузнавать, нет ли у солдата, состоящего в дозоре при пороховой башне, табака, так как курение здесь строжайше запрещено. Если бы я нашел у вас табак, то должен был бы немедленно арестовать вас и отправить в казармы для примерного наказания.
– И это пришло вам в голову в тот момент, когда я предложил проводить вашу жену?
– Да, – буркнул Зибнер, – простой гренадер, даже не ефрейтор, осмеливается навязываться в провожатые к жене своего вахмистра. Вы оскорбили меня этим. На военной службе приходится особенно считаться с чином и рангом. Постарайтесь заняться изучением инструкций, которые вы, очевидно, плохо знаете. Ступайте, и чтобы я больше не слыхал о вас.
Зибнер резко отвернулся и направился к себе домой.
– Однако, старичок, зачем же так уж невежливо? – крикнул ему вслед обиженный студент.
Зибнер обернулся и сердито погрозил ему палкой:
– Я тебе не старичок, а вахмистр. Эй, гренадер, забываться вздумал! Молокосос!.. Держи язык за зубами, а то я разделаюсь с тобой по-свойски.
– Что случилось? – спросил капрал, выскочивший на крик из караулки.
– Ничего особенного, – буркнул Зибнер, – я просто намылил голову вашему гренадеру; он осмелился без моего разрешения выйти за ворота.
– В качестве начальника дозора я позволил ему это, – ответил капрал.
Это заявление не имело ничего общего с истиной и показывало, насколько бывший студент был в приятельских отношениях со своим ближайшим начальником.
Вахмистр подошел к капралу и сказал ему насмешливым тоном:
– Милейший Ниммерфоль. Прошло два года с тех пор, как вы были здесь в последний раз. В течение этого времени многое переменилось. Теперь начальник дозора уже не имеет прежних широких полномочий. Почитайте-ка последние инструкции, они вывешены в караульной комнате. Унтер-офицер не имеет права давать кому-либо из находящихся в дозоре нижних чинов разрешение удаляться за пределы пороховой башни. Такое разрешение дается только вахмистром, который обязан в каждом отдельном случае расспросить, куда и зачем собирается уйти нижний чин. Разрешение может быть дано только в случае особенной и настоятельной необходимости.
– Благодарю вас за разъяснение: мне не было известно об этих изменениях.
Во время разговора в ворота вошли еще два солдата, у которых под мышками было по пакету. Судя по мундиру, они тоже были гренадерами, но отсутствие патронташа и ружья доказывало, что они не были в наряде.
Не обращая внимания на пришедших, Зибнер продолжал:
– А знаете ли вы, кто виноват в этих переменах? Я расскажу вам это вкратце. Был, знаете ли, такой капрал – его звали Ниммерфоль, – который забыл об обязанностях службы и позволил одному из своих людей вскочить на призрачную черную карету, ехавшую за пределами района компетенции дозора. Легкомысленный солдат, совершивший это путешествие из суетного любопытства, сгинул бесследно с тех пор, а капрал Ниммерфоль был разжалован в рядовые, и ему стоило больших трудов вновь заслужить нашивки. С тех пор было отдано распоряжение, чтобы высший надзор за присланными в наряд солдатами лежал на мне. Да, дружище Ниммерфоль, легкомысленным разрешением, данным вами рядовому Плацлю, вы расширили круг моих полномочий и сузили круг своих собственных.
– А, так это произошло здесь? – спросил один из новоприбывших гренадеров. – Значит, здесь разыгралось это таинственное приключение, о котором вы нам так часто рассказывали?
– Да, милейший Лахнер, – ответил Ниммерфоль. – Несчастный исход этой шутки наделал мне много тревог и огорчений.
– И вы называете это шуткой! – загремел Зибнер. – Да разве с чертями, колдунами и привидениями шутят?
Лахнер расхохотался прямо в лицо старому вахмистру и сказал:
– Как можно верить в такие глупости? Вот уж нашему брату, военному, ничего бояться не полагается… Да и к чему сатана начнет разъезжать в карете, когда он и без того может невидимо переноситься, куда ему угодно? Стыдно быть таким суеверным.
– Это еще что за нахал? – спросил Зибнер.
– Отличный товарищ и образованнейший человек, который умнее любого, кичащегося плюмажем на шляпе.
– И это говорит унтер-офицер о простом рядовом? Ниммерфоль, вы совсем сошли с ума. Тем более вы же сами видели черную карету и знаете, что Плацль исчез.
– Это очень загадочно, но сверхъестественного тут ничего нет.
– Так. Ну а если я вам скажу, что в последнее время карета опять стала ездить?
– Тогда я объявляю вам, что сам проверю опыт Плацля, – вмешался Лахнер.
– Что же, – буркнул Зибнер, – для этого вы достаточно безрассудны. Я говорю вам совершенно серьезно, что с некоторого времени черная карета опять стала ездить в полночь, но уже не по пятницам, как прежде, а каждую ночь. Да, настало, видно, царство нечистого… Впрочем, не буду навязывать вам свои взгляды, а скажу только вот что: я не допущу, чтобы погиб еще и другой человек. И хотя вы не принадлежите к дозору пороховой башни, но я уж возьму на себя ответственность и арестую вас.
– Не беспокойтесь, – иронически ответил ему Лахнер, – я сумею устроиться так, что вам не придется арестовывать меня.
Зибнер сердито повернулся к нему спиной и ушел к себе, тогда как гренадеры прошли в караулку.
V. Черная карета
Бывшие студенты снова оказались вместе. Лахнер и Вестмайер, войдя в караульню, первым делом вскрыли свои пакеты; в них оказались темные бутылки с длинными горлышками.
– Двенадцать бутылок «Рустер аусбруха», – с торжеством провозгласил Вестмайер. – Подарок от моего дяди Гаусвальду и Биндеру.
– Как поживает старичок? – спросил Гаусвальд.
– Судя по внешнему виду – хорошо, – ответил Лахнер, – хотя он и жалуется на недомогание.
– Но ест и пьет он настолько исправно, – прибавил Вестмайер, – что, по всем признакам, его болезнь просто воображаемая. Что же, я от души желаю ему прожить до ста лет, хотя он и завещал мне свой прелестный дом.
– Был ты у моих? – спросил Гаусвальд Лахнера.
– Да, ответил тот, – твоего отца не было дома, и мне пришлось говорить только с матерью и братом.
– Что сказала мать?
– Она любит тебя по-прежнему. На прощание она украдкой шепнула мне, что завтра пошлет тебе белье и несколько талеров.
– Что она говорила об отце?
– Что он и знать тебя не желает, пока ты служишь в солдатах. Твой брат долго распространялся на эту тему с поразительным жестокосердием. Я обругал его болваном и ушел.
– Ты не побывал у моего родственника, придворного истопника?
– Нет, времени не было. Да и, по правде сказать, я чувствую к нему непреоборимую антипатию. Он даже не ответил тебе ни на одно письмо. На твоем месте я больше не стал бы и пытаться поддерживать с ним отношения. Но почему ты так грустен?
– Разве принесенные тобою известия располагают к веселости?
– Э, брат, не стоит думать об этом. Пей! Вино – лучший утешитель.
– Знаете что, братцы, давайте пригласим и остальных товарищей.
– Что ж, дело, все равно нам одним не справиться с такой батареей бутылок.
– Но у нас не хватит стаканов.
– Я достану, – сказал Ниммерфоль, вставая и, отправившись к вахмистру, получил от последнего желаемое.
Вскоре полные стаканы весело звенели в дружном чоканье. Все свободные от службы гренадеры присоединились к бывшим студентам, и вино потекло, развязывая языки в дружеской беседе.
Все это происходило как раз в то время, когда император Иосиф II, соправитель своей матери, императрицы Марии-Терезии, с особенной страстью занимался армией. В государственных делах мать и ее верный, испытанный советник князь Кауниц старались возможно более стеснить поле действий молодого императора, зачастую низводя его императорство до степени почетного сана, не связанного ни с властью, ни с влиянием. Только в области военного дела у Иосифа II были совершенно развязаны руки, а так как он страстно жаждал деятельности и до бешенства завидовал славе и популярности Фридриха Великого, то он и старался поднять на возможно большую высоту австрийскую армию.
Это делало императора особенно популярным среди военных, и в часы отдыха в военных кругах особенно охотно говорили об Иосифе, передавая всевозможные легенды, складывавшиеся в особенном изобилии при жизни этого государя.
Действительно во мнении насчет личности Иосифа II до сих пор чувствуется налет этих легенд, не разоблаченных точными данными исторической науки. История удивительно мало занималась и занимается личностью этого государя, игравшего большую роль в политической жизни Европы того времени. Австрийские биографы идеализировали личность Иосифа II, сделав из него демократа и рыцаря высшей нравственности. Немцы и французы, имевшие личные счеты с Австрией, старались, наоборот, забрызгать его грязью. В настоящее время исследователю, занимающемуся Иосифом II как человеком, приходится с большой осторожностью подвигаться между этими двумя крайностями, не принимая на веру ничего и не имея под руками бесспорных данных для опоры. Единственное, на чем можно основываться, – это на собственном чутье и на историческом правдоподобии, на сопоставлении отдельных фактов с приписываемыми императору мотивами.
Демократизм Иосифа биографы хотели видеть в том, что он слишком часто сновал в толпе в обычном бюргерском платье. Но с того момента, как после смерти матери Иосиф II остался единовластным правителем судеб Австрии, об этих прогулках на манер Гаруна аль-Рашида что-то не стало слышно. Ясно, что, стараясь настоять на предлагаемых им финансовых и гражданских реформах в управлении, Иосиф II хотел практически изучить недостатки существующей системы, извлечь из живой жизни доказательства необходимости перемен. Но о каком же демократизме может идти речь, когда это был самый яркий, самый рьяный защитник монархического абсолютизма, более непримиримый, чем, например, французские короли XVII–XVIII веков? Ведь первое, что сделал Иосиф после смерти матери Марии-Терезии, был его отказ признать давние конституционные гарантии Венгрии; он даже не стал короноваться в качестве венгерского короля, а попросту отобрал у венгров их реликвию – корону святого Стефана. А ведь Иосиф не мог не знать, чем и насколько он обязан тем же венграм, которые защитили его мать от преследований со стороны Пруссии. В этом было мало не только демократизма, но и той рыцарственности, которую старались навязать Иосифу II льстивые историки.
В первую четверть XIX века в Париже вышла книжка, написанная австрийским эмигрантом и называвшаяся «Иосиф Второй, изображенный им самим». В большей своей части это – просто собрание анекдотов, не заслуживающих ни малейшего доверия. Но попадаются отдельные странички, которые производят впечатление исторических документов, – так они правдоподобны, так поразительно совпадают даты, имена, факты.
Мы пишем не монографию, а роман, и потому нам нет нужды досаждать читателю сухими историческими выкладками, доказывающими верность того или иного интимного эпизода. Все романтическое, что могло быть в интимной жизни Иосифа II, по крайней мере в тот период времени, который охватывает наше повествование, читатели прочтут в свое время. Скажем только, что легенда о необыкновенной чистоте Иосифа II должна быть отнесена к области чистейшего исторического вымысла, хотя и имеющего свое основание.
Всем известно, что Мария-Терезия отличалась необыкновенной строгостью в вопросах нравственности. Живя при такой матери, Иосиф II был принужден быть до крайности осторожным и осмотрительным, так как императрица не допустила бы, чтобы разыгрался один из таких скандалов, которыми была полна хроника остальных европейских дворов. Кроме того, сам Иосиф был, безусловно, строже, чем другие монархи того времени. В Швеции, в России, в Италии, в Испании, во Франции царили такие нравы, что скромные и редкие похождения Иосифа казались святостью, доходящей до чудачества. Ведь серое рядом с белым кажется черным, но рядом с черным – белым. Сероватая добродетель Иосифа рядом с черной безнравственностью остальных европейских дворов казалась идеально белой. Такой она и сохранилась в памяти народов.
Вообще, если очистить личность Иосифа II от идеализирующих его наслоений, то он рисуется нам в следующем виде. Плохо воспитанный и малообразованный, Иосиф был упрям, надменен, поверхностен, язвителен, вспыльчив. Он был слишком горяч и нетерпелив, чтобы чему-либо толком выучиться, но его выручали природный ум и пытливая живость. Особенными добродетелями или пороками он не отличался, живи он в качестве обыкновенного бюргера, его личность не выделялась бы ничем из среды многих десятков тысяч. Он не был гением, но не был и глупым; не будучи рыцарски порядочным, не был бесчестным; был в меру справедлив, стоял за правосудие; не отказывался от бокала вина, но никогда не пьянствовал; не избегал возможности изредка забыться в объятиях красавицы, но ненавидел безудержный разврат, чему особенно способствовала его склонность к сентиментальности; к религии относился спокойно и трезво, без ханжества и пиетизма. Словом, это был самый обыкновенный «порядочный человек» среднего круга. Но судьба поставила его править большой страной; он оказался достаточно неумным, чтобы носиться с отжившей в то время идеей неограниченного абсолютизма, и достаточно разумным, чтобы не натворить в этой области особенно больших глупостей.
Почти так и оценивал его граф фон Шлеефельд, к некоторому неудовольствию остальных товарищей-гренадеров.
Граф фон Шлеефельд был весьма образованным, но необыкновенно развратным и бесшабашным молодым человеком. В Вене стон стоял от его постоянных проделок: то вломится в квартиру честного бюргера и на глазах у ошеломленных родителей похитит понравившуюся ему девушку, то разгромит кабак, то устроит побоище с полицией. Многое сходило ему с рук ради отца, бывшего до князя Кауница государственным канцлером. Но в конце концов не стало никаких сил терпеть его выходки. В один прекрасный день молодца арестовали и сдали в солдаты. Шлеефельд попал во взвод к капралу Ниммерфолю и очень сдружился с нашими студентами как с товарищами по несчастью. Вообще Шлеефельда товарищи любили. Он был щедр, весел, знал множество случаев из придворной жизни и рассказывал их с большим юмором.
Когда его вместе с остальными «камрадами» пригласили принять участие в пирушке в караулке пороховой башни и под звонкое чоканье бокалов полилась веселая дружеская беседа, разговор очень быстро перешел на императора. Гренадеры наперебой превозносили Иосифа, а Шлеефельд только отмалчивался да загадочно улыбался.
– Эй, Шлеефельд, – весело сказал ему Лахнер, – мне твоя улыбка что-то не нравится. Разве ты не согласен с мнением всех остальных? Или ты что-то знаешь, чего не знаем мы? Ну так развяжи язык!
– Тема такова, что не особенно располагает к болтовне, – улыбнулся граф, – чем больше связан язык, тем он целее.
– Нехорошо, Шлеефельд, – отозвался серьезный и молчаливый Шнеманский, тоже гренадер по несчастью, так как ему пришлось записаться в рекруты после банкротства отца – богатого венского купца. – Нехорошо так говорить. Ты обижаешь всех нас, ведь мы живем как одна семья…
– Что за черт в самом деле! – вспылил Ниммерфоль, – разве среди нас имеются предатели?
Гренадеры недовольно заворчали.
– Да полно вам! – крикнул им Гаусвальд. – Вы только посмотрите, как он улыбается. Он просто хочет подзадорить нас, заставить просить себя. Да ну же, графчик, выкладывай начистоту все, что знаешь. Ведь мы судим понаслышке, а ты ближе нас знаком с придворной жизнью.
– Я не боюсь предательства с вашей стороны, – сказал Шлеефельд, – но боюсь, что вам не понравятся мои рассказы. Люди до старости любят играть в куклы. Вы сделали себе из Иосифа такую куклу и нянчитесь с ним. А ведь я должен буду сорвать все те прикрасы, которыми вы наделяете его.
– Да рассказывай ты, не тяни, – буркнул Биндер.
– Вообще странное это дело, ребята. Вы знаете, я в свое время очень много поездил по разным странам, и везде меня удивляло, что подданные крайне склонны восторгаться своими монархами, даже если для этого не имеется никаких оснований. Был я однажды проездом в маленьком прусском городке. И вот трактирщик из кожи лез вон, чтобы превознести своего «Фрица». И что бы вы думали ставил ему в заслугу? То, что Фридрих ни с того ни с сего запретил своим подданным пить кофе. Ну, скажите вы мне, бога ради, какое ему дело, что пьют пруссаки? Ведь это запрещение покушается на ту область, где, казалось бы, роль монарха кончается. А Фридрих идет за границы возможного, и это вызывает восторги. Нечто подобное происходит и у вас. Вы на все лады восхищаетесь нашим императором. А разве вы знаете его? Разве вам знаком настоящий, неприкрашенный Иосиф?
– Что же ты можешь сказать про него дурного?
– Ничего, братцы, почти ничего – ни особенно дурного, ни особенно хорошего. Да это и не важно – разве император – не такой же человек, как и мы с вами? У него имеются свои слабости, свои достоинства, а вы делаете из него какой-то идеал. Прежде всего должен сказать вам, что ваш идеал очень дурно воспитан. Вы знаете историю с его второй женой, Марией-Жозефиной? Однажды императрица появилась на парадном обеде в новомодном платье с очень широким вырезом на груди и на плечах. Во время обеда император все время косился в ее сторону. После обеда она заговорила с французским посланником. Вдруг Иосиф подходит к ним, достает свой носовой платок, закрывает им грудь жены и говорит: «Мне стыдно за вас. Прикройтесь», затем поворачивается и уходит. С императрицей истерика, обморок – словом, скандал полный. Бедная императрица-мать не знала, что ей делать… Да. Если бы нечто подобное сделал наш брат простой дворянин, так его перестали бы принимать… Вот каков он, ваш идеал. Невоспитанный, несдержанный, резкий…
– Да посуди сам, Шлеефельд, разве приятно, когда жена выставляет напоказ все свои сокровенные прелести? Ведь наш император такой скромный, такой семьянин…
– Да кто вам сказал? Уж не от скромности ли у него обе жены померли? Эх, братцы, братцы…
– Ты что-то неладное болтаешь.
– Мне говорил придворный врач, что первая жена умерла от слишком хорошего обращения – ласками замучил, а вторая – от слишком плохого. Полно вам! Император – такой же человек, как и мы, он так же создан из крови и мяса, как и мы, грешные…
– Но не будешь же ты отрицать, что император ведет очень нравственную жизнь…
– Голубчики вы мои, объясните мне сначала, что такое нравственность? Ну, что прикусили языки? Вот то-то и оно. К примеру, Ниммерфоль на моих глазах осушил две бутылки этого отменного вина, а Шнеманский – два стакана. В бутылке пять стаканов. Так что же, по-вашему, Шнеманский в пять раз трезвее Ниммерфоля? Ничуть не бывало. Ниммерфоль выпьет еще три бутылки и останется трезвым, а Шнеманский больше двух стаканов не перенесет и свалится под стол. При чем здесь нравственность? Все дело в физической природе. Одному надо для насыщения бутерброд с сыром, а другому – половину теленка. Один выпивает пять бутылок и служит как ни в чем не бывало, а другой выпивает два стакана и начинает скандалить. Одному надо пять жен, чтобы чувствовать себя довольным, а другому и одной слишком много… В известном отношении наш Иосиф был очень голодным, но он быстро насытился, хотя это и стоило жизни Изабелле Пармской. Теперь, не чувствуя физического голода, он и ведет с женщинами игру в «любовь душ»… Но при чем здесь нравственность? Это просто свойство физической природы…
– Однако чем же ты докажешь, что поведение императора объясняется непременно нетребовательностью тела, а не победой духа над велениями плоти?
– Хотя бы тем, что время от времени тело нашего императора предъявляет свои требования, и тогда он выказывает редкую неразборчивость. Слыхали о его истории с Каролиной Оффенхейцер? Нет? Ну так вот, когда будете в Вене, попросите показать вам эту самую Каролину. Рот до ушей, рыжая, веснушчатая… А ведь она пользовалась сугубым вниманием Иосифа целую неделю. И почему? Да потому, что она попалась ему на глаза в тот самый момент, когда он вышел на минутку из того состояния, которое наш приятель Гаусвальд только что назвал так деликатно «нетребовательностью тела». Ну а история с графиней фон Пигницер! Слов нет, что графиня отлично сохранилась, но все-таки разве это – подходящая возлюбленная для человека, в объятия которого рады упасть первые красавицы империи? Впрочем, здесь очень длинная и сложная история. Надо вам сказать, что у императора был очень длинный и очень глупый роман с этой… ну, как ее?.. Ах, господи, не могу вспомнить имя. Баронесса… баронесса… Ну, все равно. Словом, император гулял по дворцовому парку со своей Эмилией и при свете луны клялся ей в верности до гроба, а прекрасная Эмилия клялась ему в верности и за гробом. Все было очень хорошо, но в тот самый момент, когда император решил вывести свое увлечение за пределы платонических уверений, подвернулась графиня Пигницер с доказательствами государственной и человеческой измены прелестной Эмилии. Наш Иосиф вышел из себя, метал громы и молнии, и Эмилия оказалась за штатом. Но как быть? Та самая, с позволения сказать, нетребовательность тела, о которой мы говорили выше, перешла в назойливое требование.
Порвав с очаровательной Эмилией, император, очень разгневанный, возвращался во дворец. Вдруг в полутемном коридоре он натолкнулся на графиню Пигницер. Та начала разговор на тему о женской неверности, говорила, что ей удалось доказать, насколько баронесса нагло эксплуатировала доверие императора, и так далее, и так далее, а сама все ближе да ближе… Император даже не слушал, что она говорила. В нем проснулись «требования», а женщина, да еще такая соблазнительная – ведь в полутемном коридоре графиня Пигницер могла показаться очень соблазнительной, – тут была под рукой… Ну, и… результат понятен. У Иосифа были «требования», а житейская мораль графини гласила: «Когда угодно, где угодно, с кем угодно»… Ну-с, отдал император должное требованиям своего тела и решил, что с него довольно. Но графиня фон Пигницер с этим не согласилась. Как! Она, можно сказать, пошла навстречу вопросу государственной важности, а от нее хотят отделаться? Как бы не так! Напрасно Иосиф уверял ее, что полная прелести увядания графиня разделила его восторги, а следовательно – больше ни на что претендовать не может. Графиня доказывала, что она имеет право на фактическую благодарность. И что бы вы думали она захотела? Ни много ни мало как получить в свои руки табачный откуп. А надо вам сказать, что незадолго перед тем сам император восставал против системы отдачи разных правительственных регалий[14] в руки частных лиц. Из-за этого у него было не одно столкновение в Государственном совете. А тут извольте-ка хлопотать об отдаче табачного откупа, только что освободившегося, в руки графини. Положение не из приятных… Ну да графиня себя в обиду не даст. Откуп она таки получила. Вот вам и чистота. Сам же император восставал против невыгодной для государства системы откупов и сам же первый настоял, чтобы откуп, едва став свободным, был отдан частному лицу.
– Ну, а с баронессой что же сталось?
– О, тут романтизм высшей марки. Баронесса была обвинена в государственной измене, но судебное следствие показало, что нельзя с достаточной точностью установить ее вину…
– Друзья, – внезапно прервал его Вестмайер. – Да я ведь в свое время слыхал эту историю. Мне рассказал ее дядя… Как же. Эту несчастную звали баронессой…
Он вдруг запнулся и остановился: в дверях показался вахмистр Зибнер…
Наступило неловкое, смущенное молчание – при Зибнере опасно было продолжать говорить на эту тему.
Товарищей выручил все тот же находчивый Шлеефельд.
– Так вот, – заговорил он, подмигивая собутыльникам и как бы продолжая прерванный разговор, – я был здесь в то время, когда исчез Плацль, и видел эту таинственную карету. Только, по-моему, ничего особенно таинственного в этой карете не было. Правда, она была похожа на экипаж, в котором возят гробы, но мало ли что. Не все то, что не может быть объяснено, должно признаваться необъяснимым и сверхъестественным…
– Так вот как, – воскликнул вахмистр Зибнер, – вы все еще говорите об этом дьявольском явлении? Ну-ну, ребята, лучше бы вам избрать другую тему…
– Разумеется, братцы, – поддержал его Лахнер, – давно пора переменить тему. Все равно, сколько бы мы ни рассуждали здесь, мы можем высказывать только догадки и предположения. Уж потерпите до завтра: быть может, завтра я сумею рассказать вам что-нибудь более существенное…
– Эй, гренадер! – загремел Зибнер, – опять за старое? Предупреждаю, что в случае малейшей попытки дерзкий будет немедленно посажен под арест.
– Пусть, – спокойно ответил Лахнер, – но только в том случае, если этот «дерзкий» будет подчинен вам, господин вахмистр. Я же не принадлежу к наряду пороховой башни и имею отпуск на двое суток. Как я использую этот отпуск – до этого нет и не может быть дела какому-то смотрителю пороховой башни.
У старого Зибнера даже жилы на висках надулись от столь дерзкого ответа. Он собирался разразиться громовой отповедью, но тут самым елейным тоном вмешался Гаусвальд, который имел свои основания снискать расположение вахмистра.




