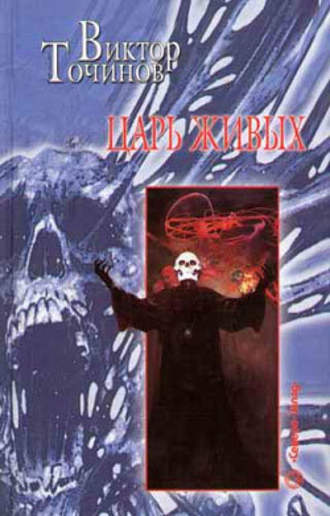
Виктор Точинов
Царь живых
Глава 8.
Ваня стал экстрасенсом.
Звучит смешно, но было ему не до шуток. Только этого сейчас и не хватало для полной жизненной гармонии…
В коммерческом отношении дар был бесполезным: Ваня не чувствовал себя способным снимать сглаз и порчу, давать установки на бизнес– и секс-успехи, чистить карму с аурой и привораживать по фотографиям, волосам, ногтям, крови и сперме…
Даже способным банально раскинуть карты Таро – не чувствовал. Никогда не брал их в руки…
Дар состоял в…
Впрочем, по порядку.
Звонок в дверь раздался субботним утром, не слишком рано и не слишком поздно, в 10.31 – на часы Ваня глянул. Он открыл, слегка удивленный.
Сегодня он не ждал никого.
Парень. Молодой, помладше Вани. Домашняя футболка, вытянутые на коленях треники испачканы известковой пылью. Шлепанцы. Вид замотанный и слегка смущенный.
Жизненная история паренька была незамысловата: переехал в их подъезд вчера вечером, квартира – как после самума, осложненного полтергейстом, вещи навалены от стены до стены и от пола до потолка, он пытается разобраться, начал с книг и полок, их больше всего, осталась библиотека от дедушки, надоела, продавать жалко, читать некогда… короче: не будет ли новообретенный сосед так любезен одолжить ему на час-другой дрель со сверлами, у него вообще-то есть, да поди раскопай сейчас… Типичная история, отчего бы и не помочь соседу…
Парень лгал.
Нагло и убедительно лгал.
Во всем.
Не было у него покойного дедушки-библиофила, и квартира не была завалена полками, и стены он сверлить не собирался… И в этот дом не переезжал. Ни вчера, ни когда-то.
Вот так.
Ваня понятия не имел, как и откуда он это знал. Но знал точно. Не догадывался – знал. Чувствовал ложь, как чувствуют цвет, звук, вкус… Шестое чувство во всей своей красе.
Дар был однобоким – знания истины он не давал. Ваня не представлял, зачем парень врет и зачем ему эта дрель…
Помочь могла банальная логика. Едва ли это подстерегающий жертвы по подъездам маньяк, позабывший дома излюбленное орудие… Надо думать, все проще: лже-сосед навсегда испарится, а дрель осядет без особого риска в комке – никто землю рыть не станет, менты спустят на тормозах… Просто и изящно, в духе О. Бендера. И прибыльно: сколько за день можно отбомбить подъездов? А дрель, она подороже отвертки будет…
Мысли эти мелькнули быстро – просительная улыбка парня не успела погаснуть.
Открытие нуждалось в проверке. Психика у Вани здоровая, но все когда-то начинается, мог и не заметить, как съехал с катушек – не заметить за ночными рейдами по подвалам… Если так – зачем обижать человека…
– Одну минуточку, – сказал Ваня дружелюбно.
Дрель была под рукой. Он все и всегда держал так – под рукой. Но Ваня не протянул просимый инструмент парню через порог – вышел на площадку.
– Пойдем. Помогу, – сказал он просто. – Чего одному корячиться…
Посмотрел парню в глаза и улыбнулся.
Неизвестно, что разглядел тот в Ваниных глазах и улыбке. Наверное, ничего хорошего. А может, сыграли нервы.
Парень рванул с высокого старта и понесся по лестнице. Босиком. Очень быстро. Шлеп-шлеп-шлеп босых пяток слились в бурные, продолжительные аплодисменты, перешедшие в овацию. Овация завершилась хлопком двери подъезда. На память о горе-аферисте на площадке остались шлепанцы.
В погоню Ваня не пустился.
Надо было сесть и хорошо подумать.
О многом.
* * *
Папа смотрел на Тарантино с вялым и сонным интересом – так недавно он изучал пивные бутылки.
Короткие мысли Тарантино шныряли испуганными крысятами, и были похожи, как крысята одного выводка, – в основе всех лежал страх. Затем крысята нашли щелку – все мысли исчезли и осталось только ощущение. Одно, но страшное – будто голову его трепанировали дисковидной насадкой аппарата для обработки костей (название медицинское и сложное, но именно так – Тарантино в деталях был знаком с такими штучками, хотя никого никогда не лечил). Протрепанировали – и отложили крышку черепа в сторону, как с кастрюльки с доспевшим блюдом.
А потом мозг стали терзать безжалостно-острые инструменты, их названия и функции Тарантино тоже знал хорошо…
Но это, конечно, лишь казалось – папа стоял, где стоял – в нескольких шагах от него.
Было больно.
Говорят, мозг лишен нервных окончаний, ничего не чувствует – Тарантино сомневался. Его актеры вполне натурально корчились в подобных эпизодах. Теперь он убедился.
Было больно.
Было невыносимо больно.
Он бы орал, заходясь диким криком, в самом прямом смысле разрывая связки себе и барабанные перепонки другим – если б смог.
Он извивался бы с чудовищной, невозможной для человека силой, способной порвать наручники и сыромятные ремни – если б смог. Он бы смог, он сам видел такое – как крушат железо, ломая кость и разрывая собственное мясо – от страшной боли – смог бы и он…
Его путы оказались крепче.
Он остался скован и нем.
Он бы умер, как умирали многие – без смертельных ран, просто от боли… Или хотя бы отключился, потерял сознание – ему не дали и этого.
Потом все ушло.
Пришло другое.
Не к Тарантино. К папе.
В серо-стальных глазах появился неприятный красноватый отттенок – папа проснулся. Ничей разум не смог бы спать после короткой экскурсии по закоулкам памяти Тарантино. Ничей. Ни человеческий, ни…
Папа проснулся.
Долгий-долгий сон кончился.
Люди во сне дышат, сердце их бьется, некоторые разговаривают, иные даже ходят – не прерывая сна. Папа мог все это и еще очень многое. Сон был внешне похож на жизнь – но папа не делал в нем того, для чего был рожден… Или создан…
Его разбудили. Разбудили, чтобы отыскать и убить. Он не знал этого. Знал бы – не смутился. Он давно был не жив и не мертв. Он застрял на полпути…
Тарантино не видел ничего. Тарантино отдыхал от приступа дикой боли. Он понял все. Озарение было кратким и ясным. Все мудрецы, исписавшие сотни и тысячи томов в поисках формулы счастья – глупцы. Все: золото, красавицы, слава, власть – все тлен. Тлен даже искусство. Когда тебя понимают – это смешно и никому не нужно…
Счастье – это отсутствие боли.
Тарантино стал счастлив.
* * *
Когда она шла по улице, мужчины замирали. В самом прямом смысле слова. Ненадолго, но замирали. Так пять лет назад на утреннем берегу Кулома замер много пьющий браконьер Гаврилыч, забывший свое настоящее имя – Гавриил…
Мужчинам хотелось многого: купить на сжатые в кулаке мятые червонцы цветы, а не поллитру; или немедленно написать книгу, лучшую за все века книгу о любви; или отправиться добровольцем на очередную войну – сейчас и так: в сорок пять, с брюшком, одышкой и пятью диоптриями… Хотелось сделать что-то, чтобы стать достойным ее…
Будем реалистами – не только возвышенного хотелось мужчинам. У сопливых мальчишек случалась первая эрекция, у восьмидесятилетних дедушек – последняя, что уж говорить о промежуточных возрастах…
Но никто не спешил перейти от желаний к действиям. Никто не пытался узнать имя или взять телефон, никто не плелся сзади, тупо уставившись на ее ноги, голоса с южным акцентом не предлагали тут же зайти в ювелирный, дабы немедленно достойно украсить – вах! какие пальчики…
Синие глаза умели не только манить, но и отталкивать.
Женщины не смотрели с завистью. С гордостью – что и они – тоже. Что и их – кто-то видит такими. А если не видит – пусть слепцу будет хуже…
Она проходила и наваждение таяло. Но не совсем… Люди быстро забывали это видение – чтобы когда-то ночью проснуться с криком, поняв, что все у них не так, что все достигнутое ничего не значит и не стоит, но есть, есть, есть где-то далеко или рядом настоящее и прекрасное – упущенное или незамеченное… Люди просыпались с криком, на мгновение понимали все – и засыпали на мокрой от слез подушке.
Адель шла по улице.
Адель, девушка с золотыми волосами.
* * *
Папа рассуждал сам с собой.
Он был похож на проснувшегося в незнакомом месте человека, соображающего – где и зачем он оказался и что здесь предстоит сделать.
Только в отличие от проснувшихся людей папа прекрасно помнил все, что происходило с ним во сне…
Папа поклялся никогда не делать этого. Поклялся тому, кто смог его полюбить. Никогда не делать… с людьми. Но Тарантино ведь не человек? Не человек…
Тарантино молчал. Он был счастлив.
Когда папа подошел ближе, когда впервые коснулся Тарантино, когда заглянул ему в глаза и медленно, очень медленно приподнял свою верхнюю губу – Тарантино был безжалостно выдран из счастливой расслабленности.
Пришел страх.
Страх новой боли.
– Не бойся, – сказал папа. – Больно не будет.
Невидимые путы исчезли на короткое мгновение – достаточное, чтобы затекшие мышцы обмякли и Тарантино плавно упал на траву.
Папа не лгал.
Больно не было.
Тарантино умер счастливым.
* * *
Мальчик стоял у подъезда, у железной двери с кодовым замком. Код не срабатывал, ключа не было. Прижимал к груди игрушечный джип. Ждал, пока кто-нибудь войдет или выйдет.
А еще – знал, понимал, ощущал все, что происходило сейчас на пустыре-болоте. И это ему не нравилось. Он стоял, почти уткнувшись лицом в железо двери.
А когда обернулся – перед ним была девушка.
– Хайле[2], Царь! – к мальчику никто и никогда так не обращался.
Но он понял.
– Я не царь, я Андрюша.
Он крепче прижал к груди джип.
– Ты прошел Испытание! Я, Адель, посланная Побеждать, нарекаю тебя Царем! И будет Царствие твое над Живыми!!
Голос гремел, синие глаза сверкали.
Потом она развернулась и пошла.
Каблучки цокали по асфальту – и слышался в том звуке далекий стук копыт, и звон оружия, и зов трубы.
Труба пела тревожно.
* * *
– Совсем кришнаиты поганые умом подвинулись, креста на них нет, еще к ребенку привязалась, стерва бесстыжая, как толь… – бабка, бывшая единственной свидетельницей Наречения, бормотала монотонно, даже ругательства вылетали без следа эмоций.
Старые люди бывают разными. У одних – не врут поэты – действительно до самой смерти бьются сердца Любящих. Или сердца Воинов. У других не бьется ничего – так, сокращается что-то по инерции. Они мертвы, и не обманывайтесь внешними признаками. Движутся не одни живые. Дергаются даже отрубленные лягушачьи лапки под током.
Старуха была мертва. Продолжая скрипеть на той же ноте, она пошаркала куда-то по своим делам – делам трупа.
Дверь подъезда скрежетнула – выходили люди. Мальчик пронырнул между ними. Андрюшка, нареченный Царь Живых, мчался вверх по лестнице, прижимая к груди трофейный джип.
Впереди его ждало многое.
* * *
Прохожие удивились.
Несущийся куда-то со спринтерской скоростью молодой человек остановился мгновенно, опровергнув все рассуждения физиков о времени торможения.
И застыл.
Окажись рядом скульптор – точно бы схватил карандаш и набросал эскиз к будущей статуе. К аллегорической фигуре “Недоумение”. Скульптора не было. Не было также (уже у молодого человека) – головного убора, носков и ремня на спадающих брюках. Судя по состоянию шевелюры, расческа у недоуменного юноши тоже отсутствовала…
Слава Полухин не понимал ничего.
Нет, слабо сказано, затертый штамп.
Разве так: НЕ ПОНИМАЛ НИЧЕГО.
Зачем, едва проснувшись, он выскочил из дома?
Куда несся?
И почему остановился?
Дежа вю какое-то…
Секунду назад ему казалось, что понятно все: и причина, и цель этой гонки… Раз – и все исчезло. Он прекрасно помнил, что делал, проснувшись, помнил до мельчайших подробностей… Не знал только: зачем?
Он стоял долго. В реальность Славу вернул насмешливый мужской голос, посоветовавший застегнуть ширинку.
Он медленно пошел по тротуару… Вердикт десятиминутных раздумий гласил: приснилось что-то…
Вообще-то Слава был весьма внушаем, и даже сам себе мог внушить что угодно… Но все равно его эта хилая версия не устроила. Приснилось? Ну да, погано спал сегодня, ну да, кошмары мучили… Бывало с ним такое после рейдов, хоть и не признавался никому в “Хантере”… Бывало – но по улицам с расстегнутыми штанами он не бегал…
Решать проблемы в одиночку Полухин был не способен категорически.
Надо пойти и посоветоваться.
Советовался он всегда с одним человеком…
Глава 9.
Образование Вани к точным наукам отношения не имело. К гуманитарным, впрочем, тоже.
Экономика и право.
Экономика и право – науки объемные, включающие массу дисциплин. Но экстрасенсорику в их число при верстке учебных планов как-то не включили. Забыли, видимо…
Хотя Ваня подозревал, что ни гуманитарные, ни технические корочки ему тоже бы не помогли. Возможно, чему-то в этом роде учат в какой-нибудь Академии Космического Разума, но и их бутафорский диплом в дальнем ящике Ваниного стола не валялся…
Осталось полагаться на здравый смысл и логику. Ни то, ни другое у него не хромало…
Итак: что мы имеем?
Некую особенность организма, ранее неизвестную. Шестое чувство.
Что хотим узнать?
Что, что… Известно что: откуда оно взялось? и что с ним теперь делать?
Физиологические аспекты явления – в сторону. После как-нибудь. Вскрытие покажет.
Дано – доказать. Простенькая такая теоремка из учебника шестого класса.
Когда появилось это, Ваня знал. Ночью, на выходе из подвала… Прохор… Прохор соврал ему – и он почувствовал… Стоп. Может, все началось раньше? А ему просто не лгали? Почему бы и нет, доверять надо людям… Надо найти заведомую ложь…
Он прокручивал ночь и вечер назад, как кинопленку – дальше, дальше, стоп… Вот оно! Полухин. Они стоят у ворот, готовят оружие… Славка говорит: крыс немеряно… А все не так… Но Ваня ничего не чувствует.
Хм… Но Полухин-то был уверен! Не стал бы так подставляться с пустым объектом, Прохор ему еще припомнит. Прохор злопамятный.
Тогда возникает маленький вопрос, даже два: лжет ли человек, если уверен, что говорит правду? и определяет ли это дар?
Ваня слегка запутался…
Мала статистика, нужен эксперимент.
М-да… а как его поставить? Обратиться к соседям с невинной такой просьбочкой: “Вы соврите мне что-нибудь, но при этом будьте уверены, что все сказанное – правда!” Надо думать, результатом смелого опыта станет устойчивая репутация ширяющегося наркомана… Нет, к соседям нельзя… Позвонить кому? И что сказать?
Под конец у него мелькнула даже дикая мысль надиктовать ложь на магнитофон и протестировать себя самого… Препона была та же – несовместимость случайной и заведомой лжи.
Ваня оделся и вышел.
Есть идея…
* * *
– Страж стоит на Пути, Спящий проснулся. Царь наречен. Что за сомнение гложет тебя, брат?
Когда кто-то тщится делать не данное ему – это смешно. Чаще всего. Но иногда это страшно.
Даниэль сомневался.
Страшен вид несущего Меру, когда он в сомнениях. И лучше не быть тогда на пути его.
Адель – была, ибо путь их общий.
– Царь. Царь Живых. И то, что его надо убить…
– Я понимаю тебя, брат… И скорблю с тобой… Но если он взрастет и познает силу свою. Он и сейчас силен. Убивающий был бы повержен им. Даже если бы Спящий не проснулся…
– Страшна наша Битва, сестра… И страшен будет Час ее.
* * *
– Извините. Подскажите, пожалуйста, который час?
Прохожий бросил беглый взгляд на циферблат.
– Половина первого.
– Большое спасибо.
Соврал, определенно соврал.
Прохожий отошел, Ваня достал часы из кармана. Тридцать пять минут. Понятно, отстают часы у мужика, или округлил…
Все ясно. Эксперимент можно завершать. Десять опытов. Четыре правдивых ответа. Ну, с этими понятно, хорошие часы, идут с точностью до минуты… А вот пятеро лгали, и Ваня это почувствовал… И не важно, спешили или отставали их ходики. Важно иное – ну никакого нет резона преднамеренно врать случайному прохожему о времени… Один, правда, нагло соврал – нет часов, дескать. Спешил, рукав засучить ленился? Какая разница…
Ваня вернулся домой.
Все ясно.
То есть, конечно, ничего не ясно.
Ясно лишь, где он подцепил этот вирус.
В подвале. В очень странном подвале. В подвале, где не было дичи. И где лежала на сырой земле крепко спящая красавица.
Есть версия. Гениальная. Блестящая и неподражаемая. Можно писать фантастический роман в трех частях с прологом и эпилогом. Ау, где тут ближайшее издательство?
Значит, так. Пару миллионов лет назад грохнулся корабль пришельцев. На территории будущей птицефабрики. Но не простых, не всем знакомых зеленых человечков. Эти особенные. Говорят одну правду – по той причине, что все поголовно чуют ложь. Такая уж у них на планете микрофлора – все заражены вирусом правдоискательства. Короче, грохнулись. Занавес. Акт второй. Наши дни. Место то же. Корабль наконец проржавел и инопланетная зараза просочилась наверх. И ножки Буша тут ни причем – фабрика накрылась по другим причинам. Народ с нее побежал. Трудно работать стало. Вахтер каждого спрашивает: а не выносишь ли ты, милый друг, чего с родного предприятия? И хрен донесешь родным чадам свежей курятины. Акт третий. Два отчаянных диггера, В. Полухин и…
Стоп. А как же Славка? В нем тоже должно бы прорезаться… Надо…
Как тут же выяснилось, у Полухина могли прорезаться и иные способности. Например, телепатические.
Потому что в этот момент он позвонил в дверь.
* * *
Папа поднялся.
Папа вытер губы.
Папа посмотрел вокруг. Далеко посмотрел – не глазами.
При всем несходстве сущностей, чувствовал он себя как человек.
Как человек, давший зарок не пить и долго державшийся. А сейчас выпивший первую рюмку. То же самое ощущение легкости, и облегчения от опостылевших пут, и легкое смущение, и некий самообман: ну, одна, ну и что, только сегодня – завтра снова завяжу; и глубокое, запихиваемое еще глубже знание: что ничего он не завяжет, что впереди пропасть; но! – шальной кураж от предвкушения сладости, пьяняще-пугающей сладости свободного падения; и – подсознательное желание скорее сделать шаг к краю, к краю пропасти…
Именно так все с папой и происходило…
К тому же то, что лежит сейчас у его ног – не человек. И никогда не было человеком. Люди чуть по-другому устроены.
А ведь вокруг есть другие не-люди. И много…
– Коряга? – неожиданно говорит вслух папа, вспомнив что-то, выуженное из памяти мертвеца. Тогда еще живого мертвеца…
– Коряга… Мерзкое имя…
С этим мерзким именем на устах папа улыбается.
Улыбка страшная.
Он не должен убивать.
У него есть дом. У него есть жена. У него – и это главное – есть сын. Он не должен убивать людей. И он не будет. Людей – не будет.
Да! Все так и было. Все так и есть.
Бродят, бродят по земле не-люди…
И люди…
Вопрос в другом: в грани. В грани меж ними. Спорный вопрос.
Но одно бесспорно: пьяница всегда найдет причину и повод выпить.
А убийца – убить.
* * *
Потом папа вспомнил, как его звали.
Звали очень давно, и нареченное имя это было важнее и данного при рождении, и записанного в паспорте…
Папу звали – Царь Мертвых…
* * *
– Да-а-а… Хреновый у тебя видок… Надо срочно выправлять положение… Будь другом, достань из холодильника пару пива… Я сейчас закончу…
Ваня делает вид, что увлеченно стучит по клавиатуре компьютера (на деле не загруженного). Сам наблюдает за уныло потянувшимся на кухню Полухиным. Славка исчезает из прямой видимости, но в прихожей – большое зеркало…
Та-а-к…
А ведь не для вида туда пошел… Изучает нутро холодильника заторможенно, но старательно… Пиво ищет. Которого там нет.
Накрылся сюжет для фантастического романа.
Так что все твое, целиком и полностью… Сам владей и сам все расхлебывай.
Дальнейший разговор не получается. Ваня не может сейчас тащить на себе еще и комплексы, проблемы и заскоки дружка… Скоренько успокаивает шаблонными фразами о нервах, о сорвавшемся очке…
И выпроваживает.
У него еще есть дела… У него сегодня свидание.
Любовное.
Как-бы…
* * *
Холеные пальцы брезгливо отталкивают рентгеновский снимок. Он скользит по полировке стола.
– Я не знаю и не хочу знать, как вы это сделали. Механика дешевых фокусов меня не интересует. Хотя могу догадываться – слепили из дентина фальшивый премоляр[3] с лишним корневым каналом, заполненным чем-то рентгеноконтрастным… Неважно. Мне любопытна цель этой… Даже не знаю, как назвать…
– Но, Валентин Степанович…
– Не надо, Наташа! Слушать все эти бредни по второму разу не слишком увлекательно. Мне кажется, что вы не совсем верно оценили ситуацию. Да, я интересуюсь паранормальными явлениями. Да, нам сокращают штаты и из трех интернов в поликлинике должен остаться один… Но если вы пытаетесь решить свои проблемы таким способом – вы сошли с ума…
Наташа Булатова и сама так думала…
Глава 10.
– Ты опять пил… – голос негромкий, бесцветный. В нем почти нет эмоций, кроме одной – страха. Но страх – такой, что криком его не выразить. Страх, от которого немеют.
А еще – обреченность.
Он разворачивается и уходит.
* * *
Одни говорят, что во многой мудрости есть много печали.
Другие попроще: меньше знаешь – крепче спишь.
И то, и другое верно, и Ваня убедился в том сполна.
На любовном свидании.
На любовном.
Как-бы…
* * *
Тамару он не любил.
Хотя надеялся – может и перерастет эта постельная дружба в нечто большее. Да и пора, двадцать восемь лет, время задуматься о семье и детях. Недаром старики говорили: стерпится-слюбится. А тут и терпеть не надо, нормальная девчонка, они отлично проводят время…
(Будем реалистами. Юношей бледным со взором горящим Ваня не был. Не пришла пока Любовь – увы! – но не загибаться же по этому поводу от спермотоксикоза…)
Был и еще один нюанс.
Производственный.
Вице-директору филиала крупной компании не положено в двадцать восемь лет ходить холостым. Особенно если корни компании – на пропитанном традициями и туманами Альбионе. Незачем подавать поводы к подозрениям в беспорядочных связях, или, того хуже, в не туда, куда надо, направленной ориентации.
Допустимый минимум – невеста. Обрученная невеста. Таковой Тамара и числилась – палец на Ваниной левой руке уже четыре месяца давило кольцо. И Тамара ненавязчиво и расчетливо вела дело к тому, чтобы со временем переместить его на правую…
Все шло как обычно – они обычно встретились, и обычно сидели в кафе, и обычно говорили о разном, и назревал обычный культпоход в театр, и еще дальше на горизонте маячили обычные маленькие радости добрачного секса, и…
В театр они не пошли.
Все закончилось в кафе.
Совсем закончилось.
Потому что необычным было одно – он ощущал ложь. Ее ложь. Всю.
Поначалу – на первой и невинной – это даже порадовало. Пряча улыбку, он представлял семейную жизнь с волей-неволей верной женой… Потом он немного встревожился. Потом стал загибать под столом пальцы. Потом – помрачнев, мертвым голосом – стал задавать вопросы… Она что-то почувствовала, пыталась успокоить, говорила много и ласково – а детектор в голове щелкал: ложь, ложь, ложь…
Это была пытка. Для него.
И растягивать ее не стоило.
Он снял кольцо. Положил на блюдечко. И соврал первый раз за вечер:
– Ты знаешь, я встретил другую. И полюбил.
Он думал, что то была ложь во благо – и ей, и себе.
Нет.
То было предвидение…
* * *
Вечерело.
Слава тупо и бесцельно шел по улице. Он не хотел никуда идти – переставлял ноги, постаравшись полностью отключить от этого процесса сознание. У Полухина была дикая надежда – если шагать именно так, можно неосознанно дойти.
Прийти туда, откуда его позвали. Куда он стремительно бежал и не успел. Туда, где он нужен. Славе хотелось быть кому-то нужным. Он дойдет, и узнает все, и все сразу станет понятным, и исчезнут страхи и сомнения, и исчезнут ночные кошмары, и придет что-то новое, он пока не знает что, и появится…
Он ходил так много часов.
Ноги уже не гудели. И не болели. Их не было. Под брюками мерно двигались чужие механические конструкции, не имевшие к Славе отношения. Все впустую. Он ничего не найдет…
Он тяжело рухнул на скамейку. Там сидела девушка. Симпатичная шатенка с короткой стрижкой, но Слава подсел к ней не поэтому. Просто механические отростки, сменившие ноги, неожиданно выработали свой моторесурс. Раз – и встали.
На девушку Полухин не смотрел. Он и раньше никогда не знакомился с девушками на скамейках. Он был застенчив, Слава Полухин, хотевший стать мужчиной – убив. И не сумевший.
Бедный глупый Слава…
У девушки был убитый вид – как и у него. Она скользнула по нему равнодушным взглядом.
Через секунду она смотрела на Славу так, как никто из женщин (да и мужчин) на него никогда не смотрел.
С ужасом.
Смотрела туда, где Ваня наложил ночью повязку – теперь грязную, сползшую. Не отрываясь, смотрела в одну точку. Точнее – на две точки…
Потом девушка закричала.
* * *
Чаще бывает так: появляется вещь, которой не было раньше – и ей придумывают имя – чтобы не ломать язык долгими объяснениями: мол, это почти как вон то, но с перламутровыми пуговицами…
С клубом “Хантер-хауз[4]” получилось наоборот. Сначала в голову Прохору пришло название – красивое и заграничное, но ничего не значащее. Охотничий домик у клуба появился позже… Появился на самых задах спортивного комплекса завода “Луч”…
Спортивный этот комплекс (или просто – стадион) занимал несколько гектаров в пригороде и не имел ныне к почившему заводу никакого отношения. Хотя все говорили по-прежнему: стадион завода “Луч”. Иногда имена живут дольше нареченных ими вещей – бывает и так.
Здесь не сходились больше под пьяноватые вопли болельщиков в жарких поединках футбольные команды цехов. Не пыхтели значкисты ГТО, готовясь к труду и обороне. Не совершал утренние пробежки вице-чемпион области по боксу Вася Дроздов, слесарь пятого цеха (родной цех, понятное дело, лицезрел чемпиона лишь в дни зарплаты). Теперь здесь было другое.
Серьезные люди расслаблялись после серьезных дел. Говоря по науке – релаксировались. Гольф, теннис, верховая езда, бассейн с сауной… А еще здесь был – вдалеке, неприметно, с краю – “Хантер-хауз”. Охотничий домик.
Изнутри – стены из неошкуренных бревен. Декорация – под ними кирпич. Здесь много декораций. Трофеи на стенах, например. Чучела зверей и птиц. Как-то сибиряк Максим вытащил в лес, на охоту – им не понравилось: комары, под ногами хлюпает, дичь прячется… А главное – нет азарта настоящей охоты. Трофеи – декорация, настоящие укрыты надежно…
Вокруг огромного стола восемь стульев – по высоким резным спинкам невинно скачут деревянные косули-зайчики. У каждого здесь свое место, все по табели о рангах… Два стула пусты – Вани и Полухина.
Сигаретный дым уже не клубится – ровное синее марево. Лица в нем странного цвета.
Плохо об отсутствующих говорить не принято. Но в уставе “Хантера” такого пункта нет. О них говорят.
И говорят плохо.
* * *
Вечер.
Двое на пустынной улице.
Женщина и ребенок.
Тяжелая сумка тянет руку, у мальчика – крохотный рюкзачок за плечами – тоже набит. Из-под клапана рюкзачка высовывается игрушка – радиоуправляемый джип американской полиции.
Это бегство.
Она ушла, нет – она сбежала, собрав за десять минут что можно, потому что ушедший мог в любой момент вернуться, потому что все клятвы нарушены и все печати сняты, она бежала и не знала – куда, были бы деньги, она бы пошла в первое турагентство, лето, полно горящих путевок, и – неважно куда, далеко, очень далеко – Канары, Тунис, Египет, неважно, как можно дальше, но денег нет, и она не знает, куда бежать, и она уходит – не куда, а откуда, и дорога ее страшна, и впереди…
Это бегство.
Женщину зовут Марья.
* * *
Пришла ночь.







