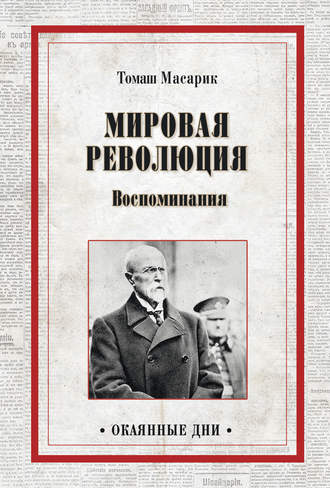
Томаш Масарик
Мировая революция. Воспоминания
На Западе
(Париж и Лондон. Сентябрь 1915 – май 1917 г.)
Настало время, когда было необходимо перенести центр пропаганды в столицы союзнических государств. Еще будучи в Праге, я утверждал, что за границу нас должно ехать столько, сколько необходимо, чтобы находиться, по крайней мере, в Париже, Лондоне и Петрограде. Я ждал Бенеша, чтобы он поехал в Париж, а я в Лондон.
В 1915 г. Париж был военным центром, Лондон скорее политическим. Для Франции было важно привлечь на свою сторону и удержать симпатии Англии и этим влиять на Америку. Италия также была ближе Англии, чем Франция. И я решил, что буду жить в Лондоне и оттуда время от времени заезжать в Париж; сообщение было легкое и скорое (даже во время подводной войны); д-р Бенеш должен был изредка приезжать ко мне в Лондон. Так мы и делали. Париж и Лондон поэтому были как политически, так и организационно неразрывно связаны, подобно тому, как единство Франции и Англии имело огромное значение во время войны и после войны. Лондон для нас был также удобен благодаря хорошему сообщению с Америкой, которая для нас становилась все более и более важной. В Америке развился весьма важный отдел нашей пропаганды, о чем я скажу ниже. Когда после описанной неудачи мы должны были изменить способ и манеру наших подпольных сношений с Прагой, я решил для этого употреблять курьеров из Америки и Голландии, а для связи с этими обоими государствами Лондон был весьма выгоден.
Я покинул Женеву 5 сентября, а д-р Бенеш приехал туда 2-го; 17 сентября он уже приехал вслед за мной в Париж.
Наше политическое положение в Париже и Лондоне было не слишком устойчиво; кроме меня, за границей еще не было ни одного из наших политических деятелей. У сербов за границей была значительная часть депутатов, имена которых благодаря Загребскому процессу и вообще борьбе против Австрии упоминались всеми газетами; кроме того, Сербия благодаря своей геройской борьбе была для всей Югославии и для Европы живой программой. Это была кровавая программа; зверства, производимые австрийцами и венграми в Сербии, служили на пользу югославянской пропаганде. Также у поляков была деятельная пропаганда, если даже не считать, что их эмиграция была уже давно известна, а их программа всюду принята.
О нас французы знали мало; они, собственно говоря, знали лишь то, что нам удалось сделать известным при помощи наших слабых средств. Такие случаи, как, например, выступление пражского городского головы Гроше, компрометировали нас в Париже. Парламент в Вене не заседал, а потому оттуда не было слышно чешского голоса. Правда, как для нас, бывших за границей, так и для развития событий на родине не было большим несчастьем, что венский парламент не собирался ни сначала, ни долгое время потом.
Австрийские, венгерские и немецкие газеты наше движение замалчивали. В парижской газете «Temps» тоже появилась недоброжелательная заметка о нас, и поэтому неудивительно, что наши друзья, как Дени и Сетон-Ватсон, начинали опасаться. И тот и другой не переставали звать меня – один в Париж, другой в Лондон. Поэтому я поспешил из Женевы в Лондон и Париж, как только Бенеш благодаря счастливой случайности смог приехать за границу. Работу в Швейцарии, а частью и в Париже мы уже организовали. В Париже выходил (с 1 мая) французский журнал Дени, позднее (22 августа) начал издавать чешскую газету д-р Сихрава. Организация чешской газеты для нас была труднее, чем французской. Не было чешских газетных сотрудников: каждый из нас был завален своей иной работой. Деньги начинали приобретать все большее и большее значение, а моего фонда все по-прежнему не хватало. То, что в Праге не нашли путей, чтобы переслать деньги, было для меня доказательством, что они не думают о той пропаганде, которая была необходима. Правда, до этих пор мы и не делали ничего подобного, но мы и не теряли желания работать и надежду на победу. Нас было мало – пусть так, но, значит, тем обдуманнее и интенсивнее должна была быть наша работа.
Вот подходящее место, чтобы рассказать о Дени и его участии в нашей освободительной пропаганде.
Авторитет, которым пользовался Дени у нас благодаря своим историческим трудам, был в начале войны весьма полезен в нашей парижской колонии; однако ликвидация внутренних споров была выше его сил. Как я уже говорил, эти условия были для него новы и неожиданны. Для Парижа Дени был профессором и литератором, и среди своих коллег у него было довольно много противников. Даже в сравнительно узком кругу славистов существовали несогласия. Однако его книга о войне принесла ему симпатии более широких кругов. В партиях и в официальных кругах у него не было политического влияния. Для знающих условия жизни не будет, конечно, слишком странным, что в политическом отношении на него косились как на протестанта. Tout comme chez nous! Французские протестанты доказали всенародно свою верность и пошли с народом, однако даже либералы, хотя бы и совсем слегка, подозревали их в германофильстве. Полагаю, что книга Дени могла достаточно сказать за себя, но в то время спокойное и точное мышление было всюду редкостью. Поэтому меня ничуть не удивило, что у нас сначала именно благодаря Дени были некоторые затруднения, которые нам удалось преодолеть лишь с течением времени. Д-ру Бенешу в вопросе о Дени удалось подействовать на правительственные круги правдой, а потом уже против него не было никаких возражений. Обо всем этом, само собой разумеется, мы никому не говорили, особенно своим людям.
Даже некоторые наши люди были настроены против Дени, на одних действовало влияние официальных кругов, другие не понимали его отвращения к партийной борьбе в нашей колонии.
Дени сделал для нас большую и весьма ценную работу в области публицистики и был полезен нам тем, что стремился организовать научное изучение славянства. Его книга о словаках была для нас драгоценным подарком. Я часто советовался с Дени о всех наших делах, особенно же о славянской политике; в общих чертах мы были всегда согласны. Между ним и Штефаником были весьма холодные отношения; с Бенешем они понимали друг друга гораздо лучше.
В связи с этим скажу кое-что и о наших колониях, дабы характер нашей заграничной работы и ее цели были яснее.
Я знал наши самые большие колонии – в России, в Америке, в Германии – еще до войны. Я бывал в них довольно часто, следил за их развитием, знал лично почти всех их руководителей. Также колонии в Англии и Сербии были мне и ранее знакомы; лишь с швейцарской и парижской я познакомился теперь, во время войны.
Основной задачей было осведомить и соединить все колонии; это было затруднительно уже из-за их географического положения и рассеянности по разным государствам, не считая тех препятствий, которые война ставила всяким сношениям между странами. Внутренне они были разбиты на партии и фракции, кроме того, каждая носила особый характер, в зависимости от той страны, в которой жила. Между ними не было никакой связи, не было вначале и центрального, руководящего органа; поэтому газета, чешская газета, осведомляющая и стоящая на нашей программе, была столь необходима. Уже в апреле (1915) я послал из Женевы во все колонии программу, что они должны были делать.
Наши колонии состояли главным образом из рабочих; большинство из них покинуло родину в поисках заработка, значительное количество старалось избавиться от воинской повинности. В Америке и в России были также земледельцы, небольшое количество торговцев, инженеров и различных предпринимателей. Интеллигенция, приходившая с родины, далеко не всегда бывала высокого качества, что отражалось на журналистике; большинство колоний не относилось с достаточным доверием к газетной интеллигенции. Однако в Америке и в России подрастала своя интеллигенция – юристы, доктора, банкиры, инженеры и т. д. Это молодое поколение частью уже проникало в американское и русское общество, но, с другой стороны, само было американским и русским. В общем, наши колонии всюду были обособленным маленьким мирком, пополнявшимся новыми пришельцами с родины и неизвестным туземным жителям. Сведения о жизни на родине, основанные главным образом на чтении газет, были далеко не полными. Наша иностранная деятельность принесла колониям уже ту пользу, что их новое отечество (это касается главным образом Америки) должно было обратить на них внимание. В зависимости от обстоятельств для наших целей принимались в расчет три колонии – американская, парижская и русская. О Париже я уже говорил; там колония была немногочисленная, но политически неспокойная и живая.
В Америке руководящая часть наших людей была свободомыслящая; в политическом отношении это был старый либерализм шестидесятых годов, удержавшийся в американской изоляции и поддавшийся влиянию американской демократии и учреждений. Это свободомыслие склонялось то здесь, то там к социализму и анархизму; конечно, к социализму на американский манер. Против свободомыслящих выступали католики и протестанты (последние менее остро).
В России только часть старших колош-ютов сохранила политические взгляды того времени, когда они переселялись, большинство же под влиянием обстоятельств и правительства было консервативно и даже весьма консервативно в правительственном смысле; они вполне зависели от доброй воли русских чиновников. Особой специальностью были в России гимназические учителя, особенно филологи, которых русская передовая интеллигенция прямо ненавидела (я помню еще по дням моей юности русскую семинарию в Лейпциге, где подготовлялись к учительской карьере наши филологи). С передовой и радикальной интеллигенцией в России, с социалистами всех оттенков и с либералами у наших людей была весьма незначительная связь; поэтому этой влиятельной части русского общества они были почти неизвестны.
В России в колонии было несколько центров в зависимости от географического положения; Петроград – Москва – Киев лежат так далеко друг от друга, что уже благодаря этому между земляками не было единства. По тем же причинам в Америке Нью-Йорк – Чикаго – Клевеленд и иные города были каждый особым мирком.
Вполне естественно, что в колониях в начале войны не было общего плана действия, не было тотчас же после объявления войны и директив из Праги; но, как я уже говорил, всюду вполне правильно выступили против Австрии. Я всегда подчеркивал, говоря с вождями колоний, что окончательное политическое решение должно произойти в Праге – было достаточно горячих людей, желавших лично определить решение и состав руководителей, были и спекулянты. В различных кабачках Парижа и иных городов распределялись различные должности будущего королевства, начиная от самого короля и кончая последними местами и чинами. Но это были крайности, не имевшие влияния.
Всюду находились наши люди, заявившие мне о себе; из Канады, из Южной Африки и т. д. получал я взносы и посылки, как только узнавали, что я организую колонии. Много прекрасных лепт было послано простыми чешскими матерями и бабками с трогательными письмами, на которых еще не высохли слезы любви и надежды… В смысле денежном наши колонии не были богаты, а потому денежные посылки из Америки получались медленно и лишь позднее пошли в более значительном количестве.
Здесь не стоит подробно излагать споры в отдельных колониях; они были, как я уже отметил, более местного, личного, чем принципиального характера. Более важными были несогласия в России между консервативным и передовым направлением; революция 1917 г. смела консерваторов, и после этого настало хотя еще и не совсем полное, но все же единство. Эти споры (начиная с лета 1916 г.) в России получили особое значение благодаря тому, что на сторону консерваторов перешел депутат Дюрих, попавший, таким образом, на службу германофильского реакционного правительства.
Дело Дюриха, к которому скоро еще присоединилось и дело Горкого, было в наших газетах в России и в Америке достаточно освещено; для меня было важно, чтобы споры решались в своей семье и чтобы иностранцы не были в них вовлечены; в общем, это удалось. Дюрих был неосторожен; в Париже им злоупотребляли сомнительные люди, хотевшие воспользоваться чешским войском; в России он попал под влияние реакционеров и безрассудных чиновников. Я опубликовал еще в январе 1917 г. (25) заявление, что в денежном отношении мы не зависим от союзнических правительств; это должно было противодействовать нападкам враждебной печати, а также и сомнениям, которые все же кое-где возникали. Зависимость Дюриха от русского правительства производила неприятное впечатление на Лондон и Париж. Я подал об этом конфиденциальное объяснение; в Париже и в Лондоне еще слишком многие боялись панславянской России. Споры с Дюрихом и о Дюрихе возникли в Париже, но перенеслись потом в Россию и в Америку; поэтому они касались более Штефаника и Бенеша, чем меня. В конце концов, нам не осталось ничего иного, как исключить Дюриха из Национального совета, чтобы и нашим колониям все было ясно. Естественно, что с нашей стороны писалось как можно меньше об этой истории, а этим наши противники злоупотребляли и вечно нас в чем-то подозревали. Русская революция нам и в этом отношении помогла наилучшим образом.
В общем, дело Дюриха нам не повредило; наши люди благодаря ему были принуждены лучше продумать основу нашего движения и его тактику; среди союзников нам помогла энергичная ликвидация дела. Особенно это признавали югославяне и поляки, у которых было много подобных дел и которым не удавалось поддерживать так легко порядок. Я знал о таких же делах в союзнических государствах, а потому, когда мне иногда указывали на нас, или югославян, или на иные организации малых народов, я отвечал кротким указанием на socios malorum в Лондоне, Париже и Риме.
Пользуясь этим случаем, укажу на неожиданное увеличение наших колоний совершенно новыми чехами и чехословаками, примыкавшими к нам: быть немцем в Париже и иных городах было не особенно удобно, а потому всякие ренегаты, люди, говорившие немного по-чешски, и разные другие лица заявляли о своей принадлежности к колонии, особенно с тех пор, как мы добились у союзников для наших граждан всех выгод, проистекавших из признания нас особым народом и, кроме того, народом бесспорно союзническим. Депутат Дюрих как раз и попал в руки таких nouveaux Tchèques.
По численности для нас наиболее важными были русская и американская колонии. Американцы могли финансировать движение, в России были пленные, и из них можно было образовать войско. Однако самые большие затруднения у нас были в России: в Америке для нас было очень выгодно то, что уже в самом начале войны Воска привез колонии мои осведемления; за ним, осенью 1915 г., приехал из Чехии Войта Бенеш (брат Эдварда Бенеша) с более свежими вестями; он устраивал во всех колониях собрания, мирил и соединял приверженцев различных партий и фракций, призывал к денежным пожертвованиям.
Ко всему сказанному я хочу прибавить еще несколько разъяснений по поводу нашего заграничного Национального совета.
Само собой подразумевалось, что для нашего движения прежде всего должен был быть создан руководящий заграничный центральный орган. Сперва я сам был им, следовательно, далее необходимо было найти сотрудников и объединить все колонии. При разбросанности колоний вследствие войны и при затруднениях в переписке дело шло медленно. Я не хотел самодержавно объявить себя заграничным вождем и действовал конституционно и парламентски.
Меня знали лично за границей благодаря моим посещениям колоний еще до войны; мой авторитет рос совместно с моей заграничной работой; люди видели, что я делаю, и поняли мою тактику. Я всюду рассказал, как дошло дело до моего отъезда, кто, какие партии знали и одобряли его. Всюду меня признавали вождем, причем имело значение и то, что я был депутатом, это был мой политический титул. Но я был одинок; сотрудники, которые скоро явились, депутатами не были. Это касалось и Бенеша, и Штефаника, а потому я так долго откладывал формальное создание нашего центрального органа, ожидая из Праги новых депутатов. Когда отдельные колонии сгруппировались и вступили со мной в сношения, я перестал торопиться с формальной организацией центрального органа. Мы часто говорили об этом, и без усилий, само собой, по давнему примеру у нас возникло название: национальный совет; тем не менее я боялся употреблять это название, чтобы не повредить Национальному совету на родине, который могли счесть главой движения и начать мстить его членам.
Однако постепенно, в силу изменения условий наш центральный орган должен был быть создан и формально; пришло время, когда мы должны были делать публичные заявления, а для этого был необходим общественно признанный орган.
Тут-то и начались различные «истории». Первая была с Коничком; когда он начал проповедовать по колониям мнимую программу русских чехов, признанную правительством и царем, то возник вопрос, каковы его полномочия и кто решает в спорных вопросах? С Коничком мы скоро справились, но тут явился депутат Дюрих.
Публичное выступление против Австрии, и так уж слишком долго откладываемое, послужило причиной к ускорению дела. Когда мы наконец 14 ноября 1915 года издали свое заявление против Австрии, то мы подписали его: «Чешский заграничный комитет». Подписались представители всех заграничных колоний; заявление должно было быть всеобщим; оно исходило, если можно так выразиться, не только от заграничного правительства, но и от заграничного парламента.
Но была необходимость именно в правительстве, в руководящем центральном органе, и в течение 1916 г. был основан Национальный совет. Положение на родине позволяло мне уже не опасаться, что своим названием мы можем повредить тамошнему Национальному совету. О названии и организации мы сговорились с д-ром Бенешем и депутатом Дюрихом во время моего пребывания в Париже, о чем сейчас и расскажу. Д-р Бенеш, предназначенный в генеральные секретари, исполнял свои обязанности и употреблял название Conseil National des Pays Tchèques в своей официальной корреспонденции; публично впервые это название употребил Штефаник при так называемой Киевской записи 29 августа 1916 г., а 1 ноября в «Ceskoslovenské Samostatnosti» было сделано заявление, что Национальный совет состоит из председателя Т.Г. Масарика, товарищей председателя депутата Дюриха и д-ра Штефаника и генерального секретаря д-ра Бенеша. Местом пребывания был Париж.
В противовес этому Национальному совету Дюрих, не отказываясь в то же время от своей функции, создал для России особый Национальный совет, который, однако, был скоро погребен революцией. 20 марта 1917 г. наша бригада объявила Чехословацкое государство; Национальный совет был объявлен временным правительством, а я диктатором. На киевском съезде (12 мая 1917 г.) было, наконец, создано Отделение Чехословацкого национального совета в России.
Создавшийся таким образом Национальный совет был признан отдельными колониями и их избранными представителями. В Швейцарии, Голландии и Англии это само собой подразумевалось; в Париже была небольшая оппозиция, поддерживаемая тщеславием некоторых лиц, раздававших за кружкой пива высокие должности в будущей русской сатрапии. Но эти люди оказались в значительном меньшинстве и скоро начали предлагать мне свои услуги, а один-два даже деньги на революцию (эти господа дальше предложений не пошли).
В Америке у меня было с давних пор много знакомых; признание Парижского национального совета произошло там сразу и решительно; 15 сентября признал его Сокол, а 14 декабря Чехословацкий Национальный союз. И из Южной Африки, из Кимберлея прислали нам свое признание (28 февраля 1917 г.).
Я уже указывал, что мне, к сожалению, приходилось все заграничное движение и пропаганду начинать прямо с азбуки, так как связи с политическим миром за границей не было; с другой стороны, в этом было и свое преимущество, ибо с самого начала работа могла вестись систематически и продуманно. Так как война затянулась, наша пропаганда пользовалась успехом. Естественно, что каждый из нас завязал сношения со своими знакомыми и друзьями. У Штефаника уже был значительный круг политических и влиятельных людей; д-р Бенеш и д-р Сихрава, позднее Осуский создали свои круги. У меня были знакомые во всех союзнических государствах еще до войны, и ими я постоянно пополнял свой круг.
Наша пропаганда была демократическая; мы старались привлечь не только политиков и официальных лиц, но прежде всего и главным образом печать, а при ее помощи и широкие слои. Это принесло нам пользу в демократических государствах, во Франции, Англии, Италии и Америке, где парламент и общественное мнение имели гораздо большее значение, чем в Австрии, Германии и России. Но после революции мы и в России действовали таким же способом.
Конечно, я всюду старался как можно скорее завязать сношения с правительствами, в особенности с министерствами иностранных дел; кроме того, было важно завязать всюду сношения с союзническими посланниками. Но и в этом отношении был определенный выбор и планомерность. Я уже сказал, что в 1915 г. я не старался встретиться с Делькассэ; помимо вышеприведенных причин, были для этого и иные доводы: из его политической деятельности мне было известно, что он является давним сторонником франко-английского союза, а это при сложившихся обстоятельствах и для нас было более важным, чем разговор с ним в то время, когда договор с Италией принуждал его к известной сдержанности.
Я всюду знакомился с руководящими чиновниками Министерства иностранных дел, обладавшими влиянием и знанием положения. Часто для нас были полезны люди, стоявшие вдали от власти, но имевшие дружественные сношения с видными государственными деятелями и политиками, как-то: адвокаты, банкиры, духовные лица.
Из психологии пропаганды вытекает одна важная мораль: не думать, что людей можно привлечь к политической программе лишь и главным образом энергичными заявлениями о ней, а также постоянным подчеркиванием отдельных ее пунктов – наоборот, важно заинтересовать людей все равно чем, часто даже косвенно. Говорите об искусстве, о литературе, словом, о том, что интересует данное лицо, и таким образом вы привлечете его к себе; политической агитацией можно часто мыслящих людей оттолкнуть или по крайней мере не привлечь. Иногда достаточно одной фразы, брошенной при подходящих обстоятельствах; вообще необходимо избегать, особенно в частных разговорах, растянутости. Конечно, такая пропаганда предполагает образование, политический и светский опыт, такт и знание людей. Падеревский и Сенкевич с самого объявления войны вели весьма успешную пропаганду в пользу Польши – музыкант и писатель привлекали самые широкие круги. Сенкевич благодаря своему роману «Quo vadis» был очень популярен и привлекал уже симпатизировавшую публику. Подобное значение имел для югославян Местрович. У нас таких людей было наперечет; в Париже был Купка (вступил в легионы), в Риме был начинающий в то время художник Бразда, кажется, одно время прикоснулась к этому делу и Дестинова.
Еще раз обращаю внимание: пропаганда должна быть честной. Преувеличения и ложь не помогают; и между нами нашлись отдельные лица, которые считали политику искусством обмана, они-то и попробовали распространять «патриотическую» ложь; мы это сейчас же прекратили. Всякие сведения ведь можно проконтролировать, и наши враги использовали это против нас же. У нас была, например, неприятность из-за такой фальсификации речи депутата Стшибрного.
Хочу указать еще на одно правило: ошибочно думают, что пропагандист должен хвалить все свое; это делают обыкновенные комивояжеры. Разумная и честная политика – разумная и честная пропаганда!
Я устраивал во всех государствах, во множестве городов лекции для широкой публики, чаще же для узких кругов; я также разыскивал противников, пацифистов и т. д. Я завязал сношения с университетами, особенно же обращал внимание на историков, экономистов и т. д. В Англии, как уже было сказано, нам помог Гус. Одним словом, тот, кто делает культурную политику, должен делать и культурную пропаганду.
Иностранные газеты мы привлекали при помощи бесед с редакторами и владельцами, но главным образом сотрудничеством. Я лично написал много статей; интервью было вторым подходящим средством. Мы организовывали всюду бюро печати, задача которых состояла в том, чтобы быть в постоянной связи с газетами и иными бюро печати и распространять наши сведения. Обращаю особое внимание на английское (Czech Press Bureau, основано в конце 1916 г.) и американское (Slav Press Bureau, реорганизованное в мае 1918 г.).
Я старался как можно скорее начать издавать какой-либо политический орган печати, ведущийся, однако, научно. Это вполне было приложимо к «La Nation Tchèque» Дени; позднее у нас был совершенно научный журнал «Le Monde Slave»; очень для нас был полезен прекрасный еженедельник «The New Europe» (выходил с 15 октября 1916 г.). Я настаивал, чтобы Сетон-Ватсон издавал журнал, зная его необычайный талант, его интерес к политике и широкий кругозор. У этого журнала были те же взгляды на Европу, что и у нас; в итальянской политике я был даже более скромен, чем редактор. «The New Europe» усиленно читали не только в Англии, но и во Франции, в Америке и Италии; он понемногу стал руководящим журналом и для наших заграничных организаций.
В Лондоне мы наняли на одной из самых оживленных площадей (Piccadilly Circus) магазин; мы устроили его как витрину книжного магазина и выставляли в нем карты, осведомлявшие о нас и о всей средней Европе, последние известия о нас и наших врагах, опровержения ложных известий, различные печатные произведения и т. д.
Полезным средством было также устройство смешанных обществ, например чешско-английского; особым целям служили торговые палаты.
Мне лично приносило пользу все мое прошлое; из ближайшего прошлого моя борьба с Эренталем и работа на пользу югославян, потом, конечно, моя книга о России, так как русский вопрос становился все более современным. Книга «Россия и Европа» была многим известна в немецком переводе. За время войны был сделан английский перевод, но книга вышла с опозданием лишь в 1919 г. под названием «Spirit of Russia». Многие знали о так называемой гильснериаде и иных вещах.
Добиваясь авторитета и усиливая его, я этим усиливал и единение и крепость чешских колоний. Сосредоточение авторитета, как уже полагали древние римляне, необходимо во время войны. У нас оно было особенно нужно ввиду разбросанности колоний и союзнических земель. Вопрос о руководстве не был сопряжен ни с малейшим соперничеством: д-р Бенеш и Штефаник были лояльными, преданными и верными друзьями. Все мы высказывались одинаково, у всех нас была тождественная программа. Этим мы отличались от югославян и поляков, у которых довольно резко выступали несогласия в программном, партийном и личном отношении. Как-то само собой возникло некое диктаторство, но характера парламентского; что действительно иногда была необходима скорость и решительность, показывает дело Дюриха и несколько более мелких историй.
Так, в конце 1916 г. чехи и словаки начали становиться интересными, и о них начали кое-что узнавать и говорить; газеты давали объявления, что у них появится интервью со мной, и т. д.
Нам очень помогала Вена. Мы могли постоянно уличать ее во лжи. Преследование наших людей убеждало заграницу в правоте нашего движения – мученичество и кровь привлекали на нашу сторону; мы использовали особенно успешно арест и процесс д-ра Крамаржа и д-ра Рашина. Арест моей дочери Алисы принес нам пользу особенно в Англии и Америке – если сажают в тюрьму и женщин, значит, дело нешуточное; во всей Америке женщины посылали петиции президенту, прося его вмешаться, да и сами обратились через американского посла в Вену. Благодаря этой агитации наше движение стало популярным в Америке и Англии.
Вообще, антипропаганда, направленная против австрийской, немецкой и венгерской пропаганды, сделалась особой отраслью, в которой мы скоро отличились, главным образом потому, что хорошо знали условия жизни. Начиная с лета 1916 г. нам очень помогал американский словак Осуский благодаря своему знанию венгерского языка и жизни. Мы понимали смысл всех сообщений и соответственно их излагали. Мы читали между строчек и в наших пражских газетах. Кроме того, у нас были свои особые сообщения с родины, которыми мы, в зависимости от обстоятельств, пользовались. Наши военные сообщения оправдали себя, и потому их очень приветствовали; благодаря им мы приобрели много друзей. Кроме того, весьма содействовало нам то, что сообщения мы давали ради самого дела, отказываясь от вознаграждений. Мы за этим весьма строго следили.
Когда эта часть пропаганды разрослась в настоящую систему антишпионажа и шпионажа, стало довольно трудно контролировать всех сотрудников; но если не считать мелких отклонений, то все у нас прошло гладко.
Совершенно особой отраслью нашей пропаганды было проталкивать в немецкие и венгерские газеты сообщения о том, что делается в союзнических государствах. В Австрии и Венгрии все замалчивалось о действиях союзников, а поэтому мы старались провести контрабандным путем сведения в их газеты. Удавалось и это. Осуский мог бы рассказать прямо анекдотические случаи, как под видом полемики с Америкой он давал в будапештские газеты сообщения о той огромной помощи, которую Америка оказывала союзникам. Из венгерских газет эти сведения переходили в венские и пражские газеты.
В Америке Воска весьма ловко организовал плодотворный антишпионаж, благодаря которому добился для нас и для себя значительного политического престижа; но об этом позднее. В России были более значительные затруднения, но мы их преодолели, хотя уже после революции.
Деньгами мы не работали, т. е. никого не подкупали. Но я поддерживал приличных людей, своих и чужих, когда узнавал, что они нуждаются. Я это делал без просьб и деликатно; понятно, что в такое бурное время многие не по своей вине попали в нужду.
Мы трое: я, Бенеш и Штефаник – были вполне сознательно независимы от американского фонда. Жалованье в лондонском университете было небольшое (во время войны университет экономил), зато я получал значительные гонорары за свои статьи. Кроме того, благодаря личной помощи моих друзей-американцев я был обеспечен. Д-р Бенеш, как уже я говорил в самом начале, вложил в наше «предприятие» деньги; на его личную жизнь ему тоже хватало. У Штефаника были тоже свои средства – эта независимость очень хорошо действовала на наших людей. Производило хорошее впечатление и то, что мы жили скромно; об этом ходили даже анекдоты. Были люди, которым хотелось бы иметь более блестящее представительство. Но нам это так называемое представительство не было нужно, ибо мы работали; в последнее время оно пришло само собой. Когда я приехал в Америку, земляки приготовили мне помещение в лучшей гостинице; стала необходима большая квартира из-за множества посетителей. К нам можно было применить поговорку, – мало денег, много музыки, – мы работали все по убеждению и с удовольствием, а потому нам хватало и малого. Мы за копейку сделали больше, чем немецкие и австрийские дипломаты за сто тысяч: такой дешевой иностранной пропаганды, кажется, нигде не было; не буду кокетничать скромностью и скажу: не много было политических движений столь основательно продуманных, как наше[1].



