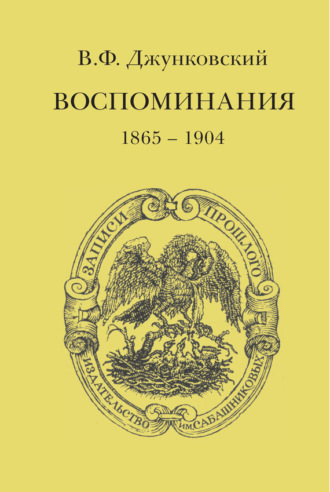
В. Ф. Джунковский
Воспоминания (1865–1904)
В следующие годы мы с братом бывали всегда на этом красивом празднике уже пажами и стояли мы тогда в самом манеже при входе.
Лето 1875 г. мы провели в Силломягах на берегу Финского залива в чудной местности.
В первый раз мне пришлось увидеть море и даже купаться в нем, произвело оно на меня огромное впечатление, я любил бродить по берегу, лежать на песке, на камнях и следить за прибоем. Пока мы жили, было несколько бурных дней – это была такая красота, и как-то жутко и страшно было смотреть на огромные валы, налетавшие друг на друга и разбивавшиеся о камни.
Мой брат, уезжая, написал следующее стихотворение:
Море
Хотел бы я узнать, о море,
О чем ты воешь и ревешь,
Свое или чужое горе,
Шумя, людям передаешь?
Хотел бы я твою кручину,
Лазурно море, отгадать,
Твою ужасную пучину
Своим бы взглядом пробежать.
Зачем ты иногда так тихо
Покоишься в своих брегах,
А иногда вдруг так свирепо
Играешь в бешеных волнах?
И гривы пенистые волны
Свои вздымают и летят,
Тревоги вечной они полны,
Перед собой, шумя, трубят.
О чем шумите, слуги моря?
Чем вы довольны и горды?
Не тем ли, что вы чужды горя
И своеволия полны?
О беззаветная стихия!
Неколебима ты ничем,
Так почему ж волны златыя
Твои поют? Скажи, зачем?
Не оттого ль ты, море, плачешь,
Что видишь силу ты людей?
Не от того ль, что ты предвидишь
Конец победности своей.
Твои уж воды рассекают
Своею грудью корабли,
А по волнам твоим сверкают
Как стража маяков огни.
Вокруг тебя, назло свободе,
Воздвиглись стены городов,
Твои леса, назло природе,
Под шум погибли топоров.
И ты одно осталось, море,
Неволи только чуя горе.
Не бойся, море! Человек
Не победит тебя вовек!
Силломяги 1875 г.
У нас был очень хороший гувернер, немец, г-н Штир, с которым мы и провели все лето, чтобы выучиться говорить по-немецки. Он к нам относился очень хорошо, придумывал нам всевозможные самые разнообразные занятия, между прочим, выучил нас делать воздушные шары из папиросной бумаги и пускать их, зажигая вату, смоченную бензином и прикрепленную снизу на проволоке у отверстия шара. Мы так наловчились склеивать такие шары, что к концу лета склеили шар размером в вышину до 3–4 аршин. Он долго-долго летал и поднялся на очень большую высоту, так что мы едва могли за ним следить.
В начале 1876 г. нас взяли из пансиона, так как весной мы должны были держать экзамен в Пажеский корпус и, следовательно, подготовиться как следует по известной программе. Я стал готовиться к поступлению в 3-й класс, мой брат в 4-й.
Моя старшая сестра начала меня готовить, к брату ходили учителя, некоторые занимались и со мной, но главное наблюдение за моими занятиями лежало на моей сестре. Я довольно туго подвигался в занятиях и порядком изводил мою сестру, которая, несмотря на свой добрый нрав, сердилась на меня и приходила в отчаяние.
Но вот наступил, наконец, страшный день экзаменов. Это было в мае 1876 года. Мой отец сам повез нас в Пажеский корпус, меня и брата Николая. Помню, с какой робостью входил я в большой белый зал корпуса, который решеткой был разделен пополам. В одной половине, где экзаменовали, стояли черные доски, висели разные таблицы, за столами сидели профессора и учителя. В другой половине было пусто, только по стенам стояли длинные диваны без спинок, обитые красным сукном. Зал мне показался огромным, он был в два света. На одной из стен за металлической, художественной работы решеткой висело три портрета во весь рост в натуральную величину в чудных рамах – Александра I, Николая I и Александра II. Между ними вделаны были доски из серого мрамора, на которых выгравировано было золотыми буквами, когда эти императоры первый раз осчастливили своим посещением корпус.
По всем другим стенам были вделаны мраморные доски с именами и фамилиями пажей, окончивших курс первыми учениками.
В первый же день меня проэкзаменовали по закону божьему. Экзаменовал протоиерей Селенин, настоятель церкви Пажеского корпуса. Экзаменовал он строго, но смотрел довольно ласково, и потому отвечать было не особенно страшно, я выдержал. В течение нескольких дней нас привозили в корпус, ежедневно бывало по одному, по два или по три экзамена.
Мой брат выдержал все экзамены хорошо, кроме географии, я же, к моему и моих родителей огорчению, провалился из русского языка и естественной истории. Нам разрешили переэкзаменовки, и поэтому пришлось все лето готовиться, чтобы осенью вновь держать экзамены по этим предметам. Лето мы провели на даче в Карамышеве близ Луги, место было очень красивое на берегу Черменецкого озера, откуда открывался чудный вид на Черменецкий монастырь.[29] Мой брат запечатлел это лето в следующем стихотворении.
Черменецкий монастырь
Я вспомнил монастырь святой,
На бреге озера лежащий,
Один среди пустыни той;
И колокол его звучащий,
Зовущий путника во тьме,
И крест, который на холме,
Над преждевременной могилой
Стоит на берегу уныло.
Звонят к вечерне, и далёко
Печальный благовест звучит,
И как-то грустно, одиноко
В окрестность гул его летит.
Златое солнце понемногу
Уж начинает исчезать,
И лес на пыльную дорогу
Тень перестал давно бросать.
Над монастырскою громадой
Станица голубей летит,
А там за белою оградой
Псалмов уныло песнь звучит.
Но вот среди небесных туч,
С последней песнею псалма,
Тот монастырь объяла тьма.
с. Карамышево 1876 г.
С нами был наш старый гувернер Штир.
В первой половине августа пришлось вернуться в город, так как в середине августа означены были в корпусе переэкзаменовки. Я очень волновался, хотя чувствовал себя хорошо подготовленным. К счастью, все обошлось хорошо, мы оба выдержали экзамены и 20-го августа поступили в корпус. Мой брат сразу поступил интерном на полное казенное содержание, меня же приняли экстерном, за неимением вакансий, и потому я остался жить дома и стал ездить каждый день на уроки в корпус. Мой отец усиленно хлопотал, чтобы меня определили интерном и разрешили жить в корпусе. Это ему удалось, и через неделю я, хотя и продолжал быть экстерном, уже считался на правах интерна, т. е. стал жить в корпусе и ездить домой только по субботам.
3-й класс, в который я поступил, был в то время самым младшим. Всех классов было: общих 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й и два специальных – младший и старший. Делились все пажи на три возраста: младший – пажи 3-го, 4-го и 1-го отделения 5-го класса; средний – пажи 2-го отделения 5-го класса, 6-го и 7-го и старший – два специальных класса. Таким образом, мой брат Николай был в одном возрасте со мной, так что мы с ним виделись постоянно, что доставляло мне отраду.
Младший возраст помещался во втором этаже, рядом с приемной, средний – по другому фасу[30] в длинной галерее, а старший – внизу. Помещения крайне просторные, так что тесноты не было, но в специальных классах было довольно тесно, так как там не было большой залы. Дортуар младшего возраста был на самом верху – представлял собой громадный зал, из него был ход в цейхгауз мимо карцеров. Карцеры представляли собой ряд небольших комнатушек пять на три аршина по обе стороны небольшого коридорчика. Освещение как коридорчика, так и карцеров было сверху. Двери, ведшие в карцер, были со стеклами. Внутри стояла скамейка, которая служила и постелью со скатом для головы, затем был еще небольшой стол. Арестованным давали подушку и одеяло и разрешали брать с собой шинель и учебные книги. Обед давали полностью, но без пирожного.
Класс, в который я поступил, был первым при входе в зал из приемной, очень светлый, парты были солидные, на каждой сидело по два пажа. Я попал во второй ряд и сидел рядом с очень прилежным и примерным мальчиком Степановым. Он недолго оставался в корпусе и перешел в Морское училище. С другой стороны через проход сидел барон Меллер-Закомельский, впоследствии он был видным земским деятелем по С.-Петербургской губернии. За мной сидели два брата Патона, с которыми я был очень дружен, один из них вышел вместе со мной в Преображенский полк, другой впоследствии был управляющим Варшавской конторой государственного банка, впереди меня – Шнитников и Рыжов, первого из них я потерял из виду, Рыжов же вышел из корпуса в л. – гв. Драгунский полк, затем перешел в Генеральный Штаб.
Всех учеников в моем классе было 25, я очень скоро со всеми подружился и чувствовал себя среди своих товарищей очень хорошо. Каждый класс имел своего отделенного воспитателя, все они были военные. У меня воспитателем был подполковник Н. Н. Скалон, у моего брата – подполковник О. Г. Гресбек и в 1-ом отделении 5-го класса – ротмистр С. Н. Лавров. Эти отделенные воспитатели помимо того, что имели надзор за пажами своего класса, дежурили по очереди, дежурство их было суточное, сменялись они в 12 часов дня. При дортуаре была отдельная комната для дежурного воспитателя. Кроме того дежурили дядьки, по ночам их было две смены, они должны были бодрствовать и следить за порядком в дортуаре. Заступая на дежурство, они получали особые контролирующие часы, на которых должны были делать отметки каждые четверть часа в доказательство своего бодрствования.
Над воспитателями стояли инспектор с помощником, и затем высшим начальником являлся директор. Инспектором классов был полковник П. А. Алексеев, помощником его – полковник И. Д. Смирнов, а директором – генерал-лейтенант П. И. Мезенцов.
Главным начальником военно-учебных заведений был генерал-адъютант Н. В. Исаков, помощником его генерал-майор Н. В. Корсаков, военным министром был генерал-адъютант Д. А. Милютин,[31] будущий граф и фельдмаршал.
Вот и все наше начальство.
Военный министр Милютин часто приезжал в корпус, сидел на уроках, сам задавал вопросы и всегда относился к нам ласково и снисходительно, многих знал по фамилиям. Мы никогда не стеснялись его приходом в класс и всегда радовались его приезду.
Генерал Исаков также довольно часто навещал Пажеский корпус, но его посещения наводили на нас всегда какой-то страх. Он был огромного роста с весьма суровым взглядом, когда он говорил, казалось, что он всегда чем-то недоволен, и потому его посещения нам не доставляли радости. Его помощник генерал Корсаков хотя и очень часто посещал корпус, но мы его никогда не видели, только когда он случайно проходил через столовую, когда мы сидели за обедом или завтраком, чтобы пройти в директорскую комнату. В классах он при мне ни разу не был. Но о нем среди пажей хранилась добрая память как о прекрасной личности и как о директоре корпуса в шестидесятые годы.
Директор Мезенцов был просвещенный педагог, он отлично поставил 2-ю Московскую военную гимназию, директором которой был и которая считалась в то время лучшей, но когда я поступил в корпус, Мезенцов уже был совсем больным, его здоровье было расстроено, и мы его редко видели; вскоре по моем поступлении он пришел к нам, собрал всех вновь поступивших пажей и сказал нам очень простую, но хорошую речь, которая на нас, детей, произвела сильное впечатление. Но, благодаря своему нездоровью, он иногда месяцами не показывался в корпусе и, обходя, часто спрашивал фамилии пажей. Инспектор классов Алексеев не внушал нам доверия, это был очень недурной человек, доброжелательный, но какой-то суетливый, мы его почему-то звали «сыроежкой». Правда, у него лицо было похоже на гриб.
Его помощник Смирнов был очень не представителен и некрасив, но в нем чувствовалась доброжелательность, и мы его очень любили и всегда рады были, когда Алексеев уезжал и он оставался за него.
Воспитатель мой – Скалон – был выдающейся личностью, он всегда старался помочь; при всей своей строгости и педантичности, он был очень сердечен и старался не выводить наружу проступки пажей. Мы его очень любили.
Другие два воспитателя нашего возраста: Гресбек – был неприятен, придирчив, мы не любили его дежурство и были настроены против него, так как он не был русским. Лавров – был задушевный и очень добрый человек, но как воспитатель был слаб, недостаточно строг и чересчур уж снисходителен. Мы его очень любили и старались не подводить.
Время в корпусе проводили мы следующим образом: в 6 часов утра нас будили – раздавался бой барабана, или звук горна, или трубы – в зависимости от того, кто дежурил, а так как при корпусе было пять барабанщиков, три горниста и один трубач, то чаще всего будили барабаном. При этом барабанщик с боем обходил всю спальню мимо всех коек. Первое время с непривычки мы вскакивали в испуге, это страшно действовало на нервы, но потом мы быстро привыкли, и некоторые спокойно продолжали спать. Самым приятным для нас было, когда дежурил кавалерийский трубач, звуки трубы звучали благородно и красиво.
На умыванье и одеванье давалось полчаса. Дежурный воспитатель следил, чтобы каждый из нас вымыл хорошенько и шею, и руки и вычистил зубы. В 6.30 по команде мы строились и давался сигнал «на молитву». Один из пажей, по назначению дежурного воспитателя, произносил утренние молитвы, после чего давался «отбой», и мы строем шли в столовую, помещавшуюся внизу в большом зале с колоннами. Занимали места по десять человек за стол, садились по команде воспитателя. Нам давали каждому по большой французской булке или большому калачу и чаю в кружках сколько угодно. Затем стали в последующие годы давать еще стакан молока.
Четверть восьмого мы строем входили в рекреационный зал и расходились по классам. Нам давалось полчаса на повторение уроков. В половине восьмого являлся доктор с фельдшером, и все страдавшие чем-нибудь являлись к нему на осмотр. Зубного врача при корпусе не было, но всех страдавших зубами отправляли при записке, по окончании занятий, к зубному врачу Клапроту, жившему против Исаакиевского собора. На записке Клапрот отмечал, когда паж от него ушел. Мы пользовались этим и устраивали себе таким образом отпуска. Клапрот бывал очень мил всегда и с удовольствием делал надпись, что такой-то ушел от него в 6–7 часов вечера, таким образом можно было пробыть дома часа два, а то и три.
Затем была перемена, а без пяти 8 мы должны были быть уже в классе в ожидании прихода учителя. Уроки начинались в 8 часов. Иногда по утрам, главным образом весной, между утренним чаем и уроками ходили гулять строем на улицу, обходили Гостиный двор кругом – это доставляло нам большое удовольствие: мы выскакивали потихоньку из рядов, незаметно для воспитателя, и покупали у торговцев на лотках пряники и разные сладости, у кого были деньги.
До 11-ти часов бывало три урока с переменами между ними по 10 минут. Все делалось по сигналам дежурного барабанщика, горниста или трубача. В 11 часов шли на прогулку в сад или на плац. На плацу, который был довольно обширный, зимой устраивался каток, а в саду горы.
Пальто не разрешалось надевать никому,[32] какой бы мороз ни был, без записки доктора. Но зимой было обязательно надевать высокие яловые сапоги и теплые носки.
После прогулки был завтрак из одного мясного блюда с гарниром, причем опять давали французскую булку, помимо черного хлеба, и кружку чая, по субботам – кружку кофе с молоком.
Молитва перед завтраком и обедом и после – опять по сигналу.
В 12 часов начинались опять уроки, два урока до двух часов. Время от двух до четырех часов дня уходило на гимнастику, танцы, строевые занятия, пение, фехтование.
На гимнастику и строевые занятия обращено было большое внимание. Я очень любил гимнастику и с каждым годом совершенствовался, в шестом классе находился уже в группе лучших гимнастов, в одном только я отстал – в прыгании в высоту, я прыгал высоко, но не мог побить рекорд.
Строевым занятиям нас обучали камер-пажи и пажи старшего специального класса, среди них были очень строгие, придирчивые, которых мы очень не любили, они были гораздо строже и требовательнее наших офицеров-воспитателей.
Танцам нас обучал балетмейстер Стуколкин (в балете одной из его коронных ролей была роль Дон-Кихота), который прежде всего обращал внимание на наши манеры и учил нас кланяться. Так как пажам приходилось нести придворную службу, то это было, конечно, необходимо. Стуколкин очень комично передразнивал нас, когда кто-нибудь неуклюже отвешивал поклон или делал какие-нибудь не соответствующие па. Из танцев нас обучали кадрили, вальсу, польке, мазурке, гросфатеру.
Учителем пения был сначала Кременецкий, а потом профессор Рубец, от меня после ряда неудачных проб они скоро отказывались, когда убеждались, что я не могу взять ни одной верной ноты. Все уроки пения я просидел на скамье безголосых. Убедившись, что из меня ничего не выйдет, мне разрешили не ходить в класс пения, что меня крайне обрадовало.
Фехтованию в младшем возрасте не учили, обучение начиналось со среднего возраста.
В четыре часа дня занятия прекращались, экстерны отпускались домой, а мы, живущие в корпусе, отправлялись обедать, вернее, сказать, нас выстраивали и вели в столовую. Опять по сигналу читали молитву, затем садились за столы. Обед всегда состоял из трех блюд: суп с пирожками, а если бывал борщ или щи, то с кашей, жаркое и пирожное – большею частью сладкие пирожки. Из напитков квас и вода.
По субботам занятия кончались в два часа дня, так как в этот день после уроков для интернов бывала баня. Баня в корпусе была очень хорошая, удивительно было чисто и опрятно.
После обеда бывала прогулка до шести часов вечера в саду или на плацу. С шести часов и до восьми бывали вечерние занятия – приготовление уроков к следующему дню. Мы обязаны были сидеть в классах, наш воспитатель сидел тут же и следил, чтобы уроки были приготовлены. В восемь часов раздавалась команда построиться, и нас вели в столовую пить чай – опять французская булка или калач, чаю сколько угодно. В 8.45 мы возвращались обратно прямо в дортуар и, после прочтения вечерних молитв, обязаны были идти мыться и ложиться спать. В 9.30 мы, младший возраст, должны были уже лежать в постелях. Газ (у нас везде было тогда газовое освещение) убавлялся, наступал полумрак.
Кровати у нас были железные с волосяными матрацами, две подушки, две простыни и одеяло. Около кровати в ногах табуретка, на которую мы должны были аккуратно сложить белье и одежду. Над изголовьем на металлической палке с крючком для полотенца прикреплена была зеленая дощечка с написанной на ней золотом фамилией пажа. У камер-пажей на красных дощечках фамилии были написаны серебряными буквами, а у старших камер-пажей – золотыми. У фельдфебеля была золотая дощечка с фамилией, написанной красными буквами. Над дощечкой прикреплен был номер. Номер этот давался каждому пажу при поступлении в корпус, у меня был № 53. За этим номером выдавалась вся одежда и все белье, как носильное, так и постельное, так что белье от одного пажа к другому переходить не могло, каждому шилось новое и оставалось в его исключительном пользовании, белье было полностью, до носовых платков включительно. За этим же номером у каждого пажа имелась конторка – наверху был выдвигавшийся ящик, в котором мы хранили свои вещи, внизу шкафчик, где у нас лежало расхожее пальто, личные сапоги, фуражка, гимнастический костюм и т. п. Ко всему этому были ключи, тоже с номером на бляшке. Книги и учебные пособия (все это было казенное до самых мелочей) хранилось в партах тоже под ключом.
Отпускная одежда хранилась в цейхгаузе, там на каждого пажа был также особый шкафчик под стеклом, где висели мундиры и прочие принадлежности.
Придворные мундиры висели в особом шкафу.
Цейхгаузом заведовал вахтер Ефимов, солидных размеров, мы его звали «кабаном».
Платье и сапоги чистили особые дядьки, на 15 пажей полагался один дядька.
У меня был, как я помню, очень хороший дядька Павсель, он был очень услужливый и заботился обо мне страшно, дядьку можно было посылать, чтобы купить что-нибудь дозволенное, больше всего мы посылали их покупать сладкие пирожки. Они были тогда очень дешевы – в лучшей кондитерской Ballet[33] на Невском проспекте они стоили по пять копеек и были удивительно разнообразны и вкусны. Дядькам мы платили ежемесячно рубль или два, это был единственный наш расход в корпусе.
Из первых своих учителей я помню, прежде всего, нашего духовника протоиерея Селенина, он же был и законоучителем. Он был очень строгий, скупой на баллы, но очень любимый и уважаемый пажами. Он был наделен всеми качествами духовного наставника. Затем я помню Орлова по русскому языку и Илляшевича, последний особенно любил диктовать и при этом старался не помогать, а сбивать учеников. За это мы очень не любили его уроков, и баллы он ставил очень строго, наивысший бал в младших классах был 8. Но надо отдать ему справедливость – благодаря его диктовкам, мы все очень быстро выучивались грамотно писать. По математике был Юдин, очень болезненный, желчный, но он хотя и сердился, но выручал своих учеников. Немецкий язык преподавал сначала Шуман, а затем Шмидт. Над немцами всегда издевались, было принято их изводить. Шуман был добрейший человек, но и его выводили из себя. Помню, как-то раз он стал на доске писать какие-то правила, один из пажей крикнул: «Немец обезьяну выдумал!» Шуман бросил мел, вышел из себя и, грозно обратившись к нам и сказав: «Те кто был моими друзьями, теперь враги… Alles между нами ist кончено», – вылетел из класса. Мы очень были сконфужены, нам стало жалко его, и мы пошли депутацией его просить вернуться обратно и извинить нас. Другой учитель herr Schmidt был очень комичен и похож был на факельщика – мы его так и прозвали, он был неприятен, так как всегда «за малейшее» ходил жаловаться инспектору. Этого ему простить не могли и сочинили про него песню:
Прощай немецкий наш учитель,
Фискал и факельщик плешивый,
Грамматик жалких сочинитель,
Ты, одним словом, пес паршивый!
Французский язык преподавал ms. Flint, его очень любили и никогда ему неприятностей не делали. Естественную историю преподавал А. Б. Ганике, воспитатель принца Петра Александровича Ольденбургского. Был он интересным преподавателем, но к некоторым воспитанникам был строг, и про него сочинили глупое двустишие: «Ганике поганике, потерял свои подштанники».
Географию преподавал подполковник М. М. Литвинов, который после Скалона был моим воспитателем. Это был человек крайне вспыльчивый, который не помнил себя, когда сердился. Я буду о нем говорить впереди.
Учителем рисования был А. Д. Лосев, он был очень маленького роста, на коротеньких ногах, держал себя без всякого достоинства, его поэтому третировали страшно, пользуясь еще его добротой; он никогда не жаловался, даже когда его звали в лицо «Андрюшкой», но его любили, и более солидные пажи старались останавливать необузданных, когда они с ним перебарщивали. Но и про него ходили стихи:
Прощай, Андрюшка, наш учитель
В твоем предлинном сюртуке,
И рисовал ты как сапожник,
И был всегда ты дураком!
Историю сначала преподавал мне Григорович, он был серьезный учитель, не допускавший никаких шуточек и не делавший поблажек, мы его боялись. Затем был Менжинский, человек весьма педантичный и аккуратный. Рассказывая историю, он отчеканивал, если можно так выразиться, каждое событие. Не мог видеть, когда кто-нибудь развлекался перочинным ножом, и отбирал его у провинившегося, так ножик и пропадал. Сын его в настоящее время, когда я пишу эти строки, стоит во главе ГПУ.[34]
Среди наказаний в маленьких классах преобладала постановка не в угол, а где-нибудь посреди комнаты на час или на два, следующее наказание было, когда запирали в классе в свободное от уроков время, лишали отпуска, сбавляли балл за поведение и, наконец, сажали в карцер без перерыва в занятиях (из карцера приводили в классы) и даже без права выхода на уроки. Срок такового ареста был наибольший 5 суток.
Два раза в неделю, по вторникам и четвергам, пажам разрешались свидания с родителями и родственниками. Свидания происходили в приемной комнате, приносить разрешалось конфеты, сладкие пирожки, фрукты, ничего съедобного. Так как не все пажи имели свидания с родными, то всем приносимым приходилось делиться со всем классом. Меня и моего брата аккуратно каждый приемный день навещали или мои родители, или старший брат и сестры. Мы ждали всегда с нетерпением приемные часы.
По субботам у нас занятия кончались в два часа дня, и мы с братом отправлялись домой. Дома нас всегда ждал завтрак, моим любимым блюдом были домашние битки с картофелем. Кухарка наша Шарлотта как-то особенно вкусно их готовила, и я один съедал в один присест до 10 битков. По вечерам в субботу и по воскресеньям утром ходили в церковь Благовещения, которая была напротив. Мой отец всегда стоял на клиросе с правой стороны около певчих, мы же с братом почти всегда в алтаре. Служба в церкви Конной гвардии на меня всегда производила сильное впечатление.
В декабре месяце в корпусе разыгрался страшный скандал, что-то похожее на бунт. Мы, маленькие пажи, не участвовали в нем, были только немыми свидетелями, все это произвели пажи и камер-пажи старшего возраста, средний возраст принял участие только отчасти.
Обыкновенно каждый год государь, по крайней мере один раз, посещал Пажеский корпус. Приезд государя для всех бывал неожиданным, государь никогда никого не предупреждал, выезжал из дворца как бы на прогулку, совсем один, и уже потом приказывал кучеру ехать в корпус. Но так как всегда знали, что в течение зимы государь обязательно приедет, то его ждали ежедневно между часом и четырьмя – обычное время его прогулок. И в эти часы директор никуда не отлучался из корпуса.
И в 1876 г. с ноября месяца стали поджидать государя. Я лично помню, с каким нетерпением и волнением я ждал приезд государя. В нашем детском воображении государь представлялся нам сказочным, мы никак не представляли себе, как это вдруг государь появится среди нас, пройдет мимо нас в двух шагах, а может быть, и обратится к кому-нибудь из нас с каким-нибудь вопросом. Нас учили, как мы должны отвечать, учили стройно отвечать на приветствие государя. Но вот ноябрь месяц прошел, наступил декабрь, а государь все не едет. И вдруг в тот самый день, когда никто как-то не ждал, пронесся слух – государь приехал. Какое волнение охватило нас! Государь прямо прошел в старший возраст, это было около двух часов. Мы, маленькие, сидели в классе за каким-то уроком, когда дверь отворилась и служитель, просунув голову, быстро произнес только одно слово: «государь».
Мы не могли сидеть на месте от волнения, учитель не менее нас заволновался, но старался казаться спокойным. В два часа, как обычно, раздался звук барабана. Урок кончился, мы вышли в залу. Там уже царила суета, все воспитатели были на лицо, нас построили, каждый класс отдельно в две шеренги, и мы стали ожидать нашего государя с чувством невольного страха и благоговения, наши детские сердца, казалось, выпрыгнут.
Послышались шаги со стороны приемной, двери растворились, и мы увидали царственную фигуру нашего обожаемого государя. Рядом с ним шел директор наш Мезенцов, инспектор и не помню еще кто. Александр II был в конногвардейском сюртуке с белой фуражкой в руке.
Раздалась команда нашего воспитателя: «Смирно! Глаза направо!» Мы впились глазами в подходившего императора. Он казался нам необыкновенно высокого роста, стройный, величественный, подойдя к нам, он остановился и, немного грассируя, поздоровался. Несколько десятков детских голосов грянули стройно: «Здравия желаем вашему императорскому величеству».
Государь тихо стал обходить нас, внимательно вглядывался в наши лица. Мы провожали его глазами, один из моих товарищей Л. (у него был необыкновенно длинный нос) как повернул по команде голову направо, так и остался. Государь дошел до него, а он все смотрел направо. Государь заметил это, взял его за нос двумя пальцами и повернул его голову: «Смотри всегда царю прямо в глаза», – сказал он, и пошел далее мимо нас. До чего его бедного потом изводили этим.
Затем государь смотрел гимнастику и строевое учение, около четырех часов уехал. Все мы, и большие, и маленькие, бросились его провожать. Которые похрабрее, цеплялись за сани (государь был в одиночных санях), становились на полозья, бежали рядом с санями почти до Невского проспекта. Восторгу не было границ.
Когда все успокоилось и все вернулись, то сразу побежали в дортуары одеваться, чтобы идти в отпуск. Государь Александр II всегда отпускал всех пажей до вечера с тем, чтобы уроков не готовить на следующий день. Каково же было у всех нас удивление и разочарование, когда нам объявили, что отпуска нет, что государь ничего не сказал. Мы, маленькие, вернулись разочарованные в свои классы, не хотелось ни обедать, ни идти на прогулку. В старших же классах недовольство приняло громадные размеры. Стали требовать директора, обвиняя его, что это была его обязанность спросить государя насчет отпуска, что государь мог забыть об этом. Директор не явился, тогда произошло нечто невозможное: стали ломать табуретки и швырять их в окна, и как-то стихийно в помещениях специальных классов были выбиты все стекла, некоторые даже с рамами, офицеры попрятались, а одному из них, любимому всеми Саксу, упавшей из окна табуреткой рассекло, к счастью неопасно, голову. Это как бы отрезвило пажей, бесчинство остановилось. Прошло два дня, в корпусе царило полное уныние, старшие классы осознали свое безумное поведение и тоже присмирели в ожидании заслуженной кары. Директор тоже, очевидно, осознал свою вину – конечно, ведь исключительно от его малодушия все это произошло. Спроси он у государя: «Прикажете отпустить пажей до вечера?» – государь, очевидно, повелел бы отпустить.
Как сейчас помню я – это было 19 декабря. Был приемный день, у меня сидели моя мать и сестра, пришедшие меня навестить. Отворилась дверь приемной, вошел высокого роста, статный флигель-адъютант в мундире и орденах. Оказалось, это был дежурный флигель-адъютант граф Милорадович, посланный государем с повелением отпустить всех пажей в отпуск сразу на Рождественские каникулы, таким образом, нам прибавили к каникулам пять дней. Мы были в восторге, сейчас же побежали одеваться, и мы с братом вместе с нашей матушкой поехали домой.
Старшие классы тоже были отпущены с тем, что их дело разберется и они понесут должное наказание после праздников.
И действительно, когда мы вернулись в корпус после Крещения, увидели, что запасной лазарет был превращен в место для наказаний – был устроен ряд карцеров, некоторые были темные. Все виновные были разделены на разряды. Наиболее виновные получили по месяцу ареста, никого из корпуса не исключили, таким образом никого не погубили. Когда мы сидели за завтраком или обедом в столовой, то всегда мимо нас проходили часовые – пажи младшего специального класса во всей амуниции с туго набитыми ранцами на смену своих товарищей, стоявших на постах перед карцерами. Их водил фельдфебель тоже в полной амуниции. Фельдфебелем был Родзянко – будущий председатель Думы, сыгравший печальную роль в 1917 г.[35]



