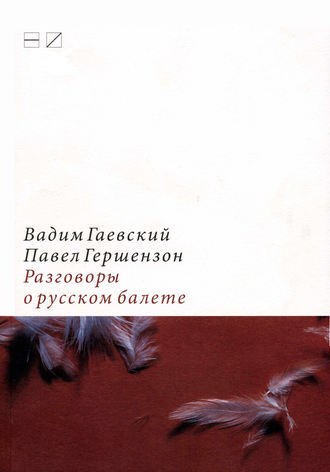
Вадим Гаевский
Разговоры о русском балете: Комментарии к новейшей истории
Обе стороны преодолели чудовищные трудности, чтобы создать иллюзию непринужденной беседы.
ВЛАДИМИР НАБОКОВ, 1963
Грустно и в то же время смешно подумать, что, ожидая войны с Японией, у нас в Петербурге кучка лысых стариков заставляет говорить весь город о балете. Конечно, все это не единичное явление, это лишь доказательство того, какова вообще вся жизнь Петербурга за эти последние года. Театр отражает лишь общее настроение политической распущенности.
ВЛАДИМИР ТЕЛЯКОВСКИЙ, 1904
От авторов
Настоящая книга, книга диалогов, возникла в результате нечастых встреч московского балетного критика Вадима Гаевского и петербургского балетного критика Павла Гершензона, во время которых в свободной дискуссионной форме рассматривалась сложившаяся ситуация и обсуждались актуальные проблемы русского балетного театра. Диалоги записывались в два приема: сначала в 1996 и 1997 годах, а затем – десять лет спустя, в течение театральных сезонов 2005—2006 и 2006—2007 годов. Это не случайные даты в календаре отечественного балета. Приблизительно к 1996 году закончилась самая драматичная пора в позднесоветской и постсоветской истории балета Большого и Мариинского театров, пора резкого падения их художественного уровня и международного авторитета, и именно в 1996 году началось медленное возвращение утраченных позиций. А на пороге 2007—2008 годов довольно ясно обозначился новый рубеж – окончание динамичного десятилетия новых имен, новых спектаклей и новых надежд, десятилетия, решавшего главную задачу – вырваться из культурной изоляции, стать современным балетом, балетом XX века. Теперь эта погоня за ушедшим временем завершена, и необходимо дать экспертную оценку тому, что произошло, спокойно разобраться в том, что случилось. Надо только отчетливо сознавать, что балетный мир – не только в нашей стране, но прежде всего у нас – закрытый мир, тщательно оберегаемый от постороннего взгляда. Многочисленные интервью в глянцевых журналах, как и полугламурные телевизионные фильмы и передачи, ситуации не меняют, поскольку направлены именно к тому, чтобы увести от цели, свести к минимуму полезную информацию, не позволить доискаться до сути дела. И не потому, что дела эти непременно нехороши, вовсе нет, а потому, что секретность – еще с советских времен – пропитывает всю атмосферу закрытых учебных заведений, таких как наши столичные академии балета, и режимных учреждений, таких как наши главные столичные театры. Тем не менее авторы диалогов считают своим долгом посмотреть на этот балетный мир не только извне, но и изнутри, притом что один из авторов – многолетний и не всегда сторонний наблюдатель того, что происходило в Большом театре, а другой в течение многих лет работал в Петербурге, в штабе Мариинского балета.
Еще раз предупредим: это именно диалог, а не сочинение, созданное в соавторстве. Хотя предмет у авторов один, система исходных представлений и, соответственно, характер суждений и оценок во многом различны. Гаевский старше Гершензона более чем на четверть века, и это возрастное различие, различие поколений, дает себя знать почти на каждом шагу – в стилистике мышления, в выборе слов, в том, что современная наука называет дискурсом, и в том, что в прежние времена называли менталитетом. Очевидно, что Гаевский – и во всех своих предшествующих сочинениях, и здесь (хотя далеко не всегда) – тяготеет к парадной стилистике, а Гершензон – демонстративно непараден, антипараден, а порой даже памфлетен. Иначе можно сказать, что Гаевский стремится опереться на некие мифологические конструкции, лежащие в основе балетного театра, стремится продлить жизнь мифов, которыми окружал себя классический балет и которые во многом формировали его реальность. Как человеку своего времени, и самому Гаевскому присуще в той или иной мере мифологическое мышление, поскольку именно устойчивый миф создавал некое пространство свободы, может быть, искусственное, может быть, иллюзорное, а может быть, и подлинное, необходимое для жизни. Гершензону, человеку другого времени, подобный тип мышления совершенно чужд, для него балетные мифы – пространство благонамеренной, а чаще всего злонамеренной лжи, пространство духовной несвободы. В своих суждениях Гершензон опирается лишь на реальные впечатления и на реальные факты, даже на точные цифры, это современный неопозитивизм, тоже спасительный и тоже необходимый. Другое различие – уже в методах мышления и письма, более эссеистского у Гаевского, более аналитического у Гершензона.
В заключение следует сказать, что двенадцать лет, в течение которых записывались эти диалоги, – достаточный срок для того, чтобы изменился не только русский балетный театр, но и мы сами, а следовательно, наши представления о балете – часто на диаметрально противоположные. Так что откровенная, а иногда и подчеркиваемая противоречивость некоторых наших суждений есть проекция движения времени. Мы сознательно избрали предметом обсуждения кризисные годы, кризисные явления в жизни столичных театров и непарадные точки обзора классического фасада русского балета. Именно такой, нефасадный, ракурс позволяет многое лучше увидеть и лучше понять, что, конечно, спровоцирует нервную реакцию охранительной критики. Но какое это может иметь значение, когда речь идет о небезразличных нам судьбах русского балета.
Фрагменты диалогов впервые были опубликованы в газете «Мариинский театр», журналах «Критическая масса» и «Русская жизнь», а также в «Вестнике Академии русского балета имени А. Я. Вагановой» и в интернетиздании OpenSpace.Ru. Авторы благодарят Дмитрия Морозова, Глеба Морева, Александра Тимофеевского, Алексея Фомкина и Марию Степанову, способствовавших этим публикациям.
Мы благодарим Эллу Липпу за большую работу по литературному редактированию диалогов, Константина Ключкина, профессора истории культуры Pomona College (Калифорния, США), за внимательное чтение рукописи и ценные замечания. Отдельная благодарность Карине Добротворской и Алексею Тарханову – за постоянное участие и гостеприимство.
МАЙ 2009 ГОДА, МОСКВА–ПЕТЕРБУРГ
I. Конец века
В Москве: Большой балет
11 апреля 1996 года, Москва – июль 1996 года, Петербург
Фрагмент 1. Большое и небольшое
ГЕРШЕНЗОН: Давайте поговорим о балете в ХХ веке, о том, с чем балет пришел к концу века. И хотя у нас в резерве еще четыре года (а на примере конца XIX столетия мы знаем, каким напряженным может быть финал века в русском балетном театре), попытаемся нарисовать не только итоговую картину, но проследить динамику художественных процессов, происходящих в балете XX века.
ГАЕВСКИЙ: Здесь можно рассмотреть общий план и можно сосредоточиться на конкретных ситуациях в главных балетных столицах – Москве, Петербурге, Париже, Лондоне, Нью-Йорке. В целом картина такова: самое главное – классический балет в ХХ веке все-таки устоял, несмотря на то что в начале века был приговорен практически всеми. Сто лет назад, в 1904 году, в Петербурге появилась Айседора Дункан, которую приветствовала вся петербургская интеллигенция: художественная, философская, философско-религиозная. И среди них Аким Львович Волынский, который наговорил целую книгу по поводу ее приезда и который через десять лет станет главным теоретиком и защитником классического балета. Пафос всех этих статей, всех этих высказываний, всех этих интервью заключался в том, что наконец-таки пришло нечто такое, что сменит исчерпавшую себя, никому уже не нужную псевдокультуру.
И вот сто лет спустя, или немного меньше – не важно, мы видим, что культура эта себя не исчерпала, более того, она оказалась способной к саморазвитию, и классический балет сегодня не похож на балет начала века. Возникли новые школы, прежде всего школа Баланчина. Художественно преобразились традиционные школы – русская и французская; появились великие балетмейстеры, появились великие исполнители. Исчезло то, что вызывало сопротивление, естественное, законное, иногда слишком, может быть, нетерпеливое, слишком агрессивное сопротивление театралов начала века, – исчезло ощущение архаичности этого искусства. Оно оказалось абсолютно современным по отношению к любому из исторических этапов, составляющих движение искусства в ХХ веке. И это главное. Можно говорить, что балет в ХХ веке не только устоял, но и восторжествовал. Интерес к нему не пропал, а, наоборот, возрос.
Помимо движения чисто эстетического, можно говорить и о движении географическом: балет стал искусством планетарным, и на языке классического танца (а речь идет о балете, основанном на классическом танце) сейчас ведется диалог между самыми отдаленными регионами, между самыми отдаленными национальными культурами. Все свидетельствует о том, что на протяжении ХХ века это гениальное искусство не только не умерло, но и не проявило никаких признаков умирания.
Но это результат общий, итог развития, увиденный в целом. Что же касается конкретной ситуации, сложившейся в центрах балетного искусства, то здесь приходится говорить немного о другом, с другой интонацией и другими словами. Особенно если говорить не о веке в целом, а о последних тридцати, двадцати годах и даже о последнем десятилетии. Тут все обстоит несколько иначе. Прежде всего, скажем не без печали, что произошла катастрофа с тем, что и у нас, и на Западе называли «Большим балетом». Это замечательное, уникальное явление, которое возникло в определенных художественных, исторических и даже социально-политических обстоятельствах и которое, надо сказать, сегодня исчезло.
ГЕРШЕНЗОН: Что вы считаете его исходной точкой?
ГАЕВСКИЙ: Момент, когда центр культурной жизни переместился из Петербурга (в то время Ленинграда) в Москву, когда в Москву переехали выдающиеся танцовщики и педагоги и когда случилось то, о чем мечтали еще в XIX веке: произошло соединение академической культуры петербургского балета и артистической культуры балета московского. Московский балет возникал всегда непосредственно рядом с драматическим театром. Мало кто знает, что Ермолова, например, училась и выпускалась как балерина, и, судя по тому, что о ней говорил ее учитель Блазис, совсем неплохая балерина, но в силу разных причин – и, в частности, в силу нежелания быть балериной – она стала великой драматической актрисой.
ГЕРШЕНЗОН: В московской школе была такая же система, что и в Петербурге, где драматические и балетные артисты обучались совместно?
ГАЕВСКИЙ: Так было только в начале XIX века, потом петербургская балетная школа отъединилась, что и обеспечило ей беспримерный успех. Петербургская балетная школа второй половины XIX века занималась только балетом. Московская театральная школа была универсальной. Так или иначе, традиции драматической интерпретации балета в Москве были сильны всегда, но не подкреплялись столь же сильной традицией академической танцевальной выучки. Академическая танцевальная выучка в Москве не очень ценилась, что приводило к деградации московской школы.
ГЕРШЕНЗОН: Недавно я пересмотрел архивные кадры, зафиксировавшие танцы балерин Большого театра 1930–1950-х годов. Даже с учетом естественных скидок на время, могу сказать, что академический канон выдерживали только две из них: Семенова и Уланова. Обе – продукты петербургской балетной школы. Танцы представительницы московской школы Лепешинской, при всех ее выдающихся витальных, энергетических и харизматических достоинствах, вряд ли могут рассматриваться как академические…
ГАЕВСКИЙ: Просто в Москве не ценилась академическая культура. Москвичи всегда с вызовом говорили, что пренебрежение академической формой есть благо – наше московское преимущество, наша московская индивидуальность. Заканчивалось это, как правило, умалением и упадком мастерства. Поэтому из Петербурга в Москву не раз посылали спасать школу, но наезды педагогов не были длительными. Потом в Москву прислали Горского, деятельность которого поначалу была необычайно благотворной и началась с того, что он буквально перенес в Большой театр «Спящую красавицу», за девять лет до того поставленную в Петербурге, причем перенес ее, предварительно записав по системе Степанова. Это был двойной триумф – и Петипа, и системы Степанова. Но Горский очень быстро изменился, что, впрочем, происходило абсолютно со всеми петербургскими миссионерами: они очень быстро отказывались от всего, чему их учили в Петербурге, и, как всякие неофиты, становились яростными приверженцами московских критериев, московских художественных идеалов. Это произошло с Горским, с Лавровским, Захаровым, это произошло и с Григоровичем. Но, тем не менее, взаимодействие двух художественных направлений существовало и давало замечательный художественный результат даже в школе, которой руководили тоже петербуржцы, начиная с Виктора Александровича Семенова и кончая Леонидом Михайловичем Лавровским, который и умер-то, как вы знаете, в должности директора этой школы во время гастролей в Париже. Он был человеком в высшей степени добросовестным и так сильно ощущал степень своей ответственности, что, представляя своих учеников, просто не выдержал напряжения, а ведь ему было что показать. (Вещь совершенно удивительная: я не представляю себе современного директора школы, который привез бы за границу своих учеников и умер бы от волнения, – сейчас гастроли школ стали совершенно обыденным делом и к трагическим результатам обычно не приводят.)
Так вот, московского балета как результата взаимодействия двух художественных направлений сегодня нет и в обозримом будущем больше уже не будет. Как и всякое художественное явление, которое существует не в рамках устойчивой традиции, а в результате слияния разных художественных систем, оно имеет свой срок, и этот срок истек, прошел бесповоротно.
ГЕРШЕНЗОН: Вам не кажется, что исчезновение Большого балета связано с падением целого государства, империи?
ГАЕВСКИЙ: Не кажется. Прямой связи здесь нет. Во всяком случае, я ее не улавливаю. Она вроде бы очевидна, об этом много говорят, однако искусство, в особенности балетное искусство, умело себя как-то защищать и умело существовать достаточно автономно в любых обстоятельствах, самых невозможных. Можно говорить о трагических судьбах отдельных художников, которые подчинялись политической ситуации или, наоборот, вступали с ней в конфликт, но результат в обоих случаях совершенно одинаков: либо художественная деградация, либо просто изгнание, исчезновение из реальной жизни. Но связывать падение Большого балета с крахом империи… Видите ли, Большой театр в его имперской сущности продолжает существовать и после того, как произошел так называемый крах империи, – внутри Большого театра совершенно ничего не изменилось: финансовые субсидии как были, так и остались, пренебрежение всякой критикой как было, так и осталось…
ГЕРШЕНЗОН: Совершенно ничего не изменилось?
ГАЕВСКИЙ: Примерно год назад стараниями в основном нашей молодой критики, и прежде всего блистательной Татьяны Кузнецовой, была пробита брешь, мы получили возможность говорить о Большом театре то, что мы о нем думаем. Но это не возымело ни малейшего результата – Большой театр вообще не обратил на нас никакого внимания. Он жил своей жизнью. Он сам был империей, не нуждающейся ни в каких внешних связях, – имперский театр, созданный при Сталине и просуществовавший в этом качестве многие годы после Сталина. Гибель его была предрешена, но вызвана она внутренними причинами, а вовсе не внешними, так мне кажется.
ГЕРШЕНЗОН: Каковы эти причины?
ГАЕВСКИЙ: Повторяю, разрушилась та художественная система, которая возникла в результате взаимодействия двух направлений: академической петербургской традиции и московской традиции актерского театра. Этого постоянного взаимодействия и столкновения в балете больше нет. Восторжествовала московская традиция, восторжествовал так называемый драмбалет, в борьбе с которым на наших глазах прошла вся жизнь новых реформаторов. И восторжествовала еще одна вещь, о которой даже как-то неловко говорить, – восторжествовала американская система, которой нет, между прочим, в самой Америке. «Американизм», которого мы не видели ни у Баланчина, ни у Барышникова в ABT, восторжествовал в жизни Большого театра, свидетелями чего мы были только что на возобновлении балета «Ромео и Джульетта» Лавровского. Что меня поразило, так это гром аплодисментов в самый драматический момент, в финале, когда Ромео сделал что-то «двойное». Публика проснулась, воспрянула и разразилась аплодисментами.
ГЕРШЕНЗОН: Что вы называете американской системой?
ГАЕВСКИЙ: Я не совсем точно выразился. На развалинах искусства великого Большого театра возник культ изощренной (более или менее) техники – и больше ничего.
ГЕРШЕНЗОН: Даже не культ звезды? Ведь понятие «американская система» связано у нас все-таки с понятием «звезда».
ГАЕВСКИЙ: У нас возник культ слова «звезда», я бы так сказал, – потому что каждая третьесортная танцовщица в рекламных роликах, буклетах и афишах называется не иначе как «звезда». Культ звезды существует, а вот воспитание звезды в том смысле, в каком это понимается в Америке, отсутствует. Звездой там называют нечто неординарное, абсолютно индивидуальное. Звезда – понятие единичное. Много звезд, которые конкурируют между собой, – этого быть не может. У нас же – все «звезды». У нас, кроме всего прочего, появилась назначенная звезда, то есть титул «звезды» стал не итогом реализации таланта, а единицей штатного расписания. А звезда, которая наполняет нашу художественную жизнь в течение двадцати лет и чей уход со сцены означает просто катастрофу, – о таких звездах мы забыли. Раньше этого слова вообще не произносили. Я не помню, чтобы кто-нибудь называл Семенову или Уланову «звездой». Их называли по-другому: Семенову называли «Семенова», иногда – «Марина»; Уланову называли «Уланова», в крайнем случае – «Галина Сергеевна». Лепешинскую, которая, может быть, больше, чем кто бы то ни было, подпадала под категорию звезды, называли «Лёля», – но никогда в жизни «звездой». Звезда – это нечто уравнивающее. Сейчас появились такие звезды, имени которых никто и не помнит. Я знаю, что в Большом театре действительно есть «звезды», но смогу назвать, может быть, три имени, четвертое не вспомню, хотя знаю, что «звезд» там больше, чем три. Звезда – это нечто устраняющее имя, а значит, делающее ненужной индивидуальность. Сегодня школа – это фабрика по изготовлению звезд, как фабрика по изготовлению елочных игрушек. Вы думаете, Барышникова, Нуреева, Макарову кто-нибудь называл «звездой»? Миша, Рудик, Наташа – для тех, кто их близко знал или делал вид, что близко знает. У них совершенно разные судьбы. Судьба же «звезд» типична, если вообще уместно в данном случае говорить о судьбе: есть победы на бесчисленных бессмысленных конкурсах, есть карьерное продвижение, потом уход, прощальный спектакль и – бесконечные возвращения на сцену под разными предлогами – вот что такое сегодняшняя звезда. А то были не «звезды», то были действительно великие балерины и великие танцовщики, ставшие великими артистами. Марина Тимофеевна, если не ошибаюсь, по сей день называет себя «артисткой». Вот как обстоят дела.
ГЕРШЕНЗОН: Вернемся к понятию «Большой балет». Какой смысл вы в него вкладываете?
ГАЕВСКИЙ: Коротко говоря, Большой балет – это большой стиль, большие художники-исполнители и большие художники-хореографы – прежде всего Мариус Иванович Петипа плюс Лев Иванов, естественно, которые не только в Мариинском, но и в Большом театре составляют основу всего. «Большой балет» – это, конечно, «Лебединое озеро» (музыка которого писалась под Москвой и премьера которого состоялась в Москве, да, несчастная премьера, но после нее в Москве появились более удачные версии – Горского, Мессерера, затем Григоровича), «Дон Кихот» и «Жизель» (которая после того, как в Москву из Ленинграда в 1944 году переехал Леонид Лавровский, шла в Большом театре в идеальной, лучшей, на мой взгляд, редакции) – вот краеугольный камень нашего репертуара. На этих балетах воспитывалась вся наша талантливая молодежь начиная с Майи Михайловны Плисецкой; за некоторыми исключениями (например, Екатерина Максимова не танцевала «Лебединое озеро»), эти балеты входили в репертуар всех наших выдающихся танцовщиков. Итак, добавим еще одну составляющую – репертуарный диапазон: Большой балет – это большой стиль, большие художники-хореографы и большие исполнители с очень широким контрастным репертуаром.
ГЕРШЕНЗОН: Давайте не забывать, что «Большой балет» – Bolshoi Ballet – это, вообще-то, журналистский сленг, выражение, которое возникло во время первых лондонских гастролей Большого театра в 1956 году. Все очень громко аплодировали, однако я не уверен, что лондонская публика вслед за лондонскими журналистами вкладывала в это понятие категории величины и качества. Скорее всего, для Лондона это была просто некая экзотическая ориентальная фонема – «болшой», как по сей день существует фонема «киров» (Kirov Ballet), притом что балетная публика вряд ли знает, что такое это самое kirov (нет ничего более нелепого и художественно бессмысленного, чем вывеска Kirov Ballet from The Mariinsky Theatre). Это мы уже потом решили, что Лондон оценил Bolshoi как что-то грандиозное и величественное. Не сыграл ли этот броский эпитет – Bolshoi – роковую роль в судьбе и самосознании Большого театра?
ГАЕВСКИЙ: Ответить непросто. И да, и нет. Точнее, нет и да. Когда петербургские танцовщики, которых Дягилев привез в Париж, узнали, что они олицетворяют собой гениальное искусство и что сами они являются гениальными, – разве это их погубило? Это придало им необыкновенную энергию. И если бы не было триумфа, завышенных оценок…
ГЕРШЕНЗОН: Завышенных или все же адекватных?
ГАЕВСКИЙ: Превосходных степеней, скажем так, к которым петербургские, достаточно скромные, танцовщики не привыкли. «Второй танцовщик» по официальному положению в Мариинском театре Нижинский (он был на жалованье «второго танцовщика») только в Париже узнал, что он вообще-то первый артист мирового театра. А если бы не узнал? Был бы «Фавн»? Доверил бы Дягилев ему постановку «Послеполуденного отдыха фавна», а затем и «Весны священной»? Понимаете, само по себе поощрение, тем более международное признание, особенно для тех, кто жил в изоляции (я говорю об артистах Большого театра), кто работал во времена железного занавеса, кто вообще не имел никакого представления о себе, – необыкновенно важно. Поразительная вещь: балетные артисты, которые проводят всю свою жизнь перед зеркалом, на самом деле не видели себя. Они не знали, кто они такие. Лондон назвал их точным словом. Но в дальнейшем это слово стало действительно роковым, потому что оно сделалось единственным критерием самооценки, единственной целью существования и, наконец, просто определило принцип балетмейстерской деятельности: мы – «Большой балет», мы будем ставить «большой» балет.
ГЕРШЕНЗОН: Добавлю, не только принцип балетмейстерской деятельности, но композиционный прием построения спектакля, труппы.
ГАЕВСКИЙ: Понятие «большой» уничтожило в балетном театре понятие миниатюры, уничтожило понятие малой формы и малой роли, что заставило хореографов ориентироваться только на группу выдающихся (а они были выдающимися) танцовщиков и на кордебалет как на некое воплощение Большого театра в целом. А то самое средостение, которое всегда существовало в Мариинском театре, то есть некое промежуточное звено между кордебалетом и премьерами, ушло, исчезло. Короче говоря, сложная конструкция, состоявшая из трех этажей, неожиданно обрушилась: фронтон упал на фундамент, а бельэтаж – и это очень точное слово – исчез. Брутальный фундамент и патетичный фронтон – вот что такое «Большой балет» через некоторое время после лондонских гастролей.
ГЕРШЕНЗОН: Точнее, обрушилась несущая конструкция – колоннада, а говоря языком балетной иерархии, деградировали «корифеи», которые и являются основными носителями школы.
ГАЕВСКИЙ: Носителем школы является все-таки кордебалет, а вот связь между устойчивым, необходимым и очень консервативным понятием школы и балериной, премьером, которые очень часто выходят за рамки школы (в этом, собственно, и заключается их задача), осуществляли эти самые солисты – корифеи – или, как они назывались в старом театре, «вторые сюжеты». Они – носители, с одной стороны, понятия «школа», а с другой стороны – понятия «надежда». Иерархия в балете такова: есть некое коллективное, внеиндивидуальное начало, которое олицетворяет кордебалет, есть резкое индивидуальное начало, которое олицетворяют выдающиеся солисты, и есть что-то, что сглаживает между ними антагонизм, что допускает и обеспечивает возможность перехода из одного состояния в другое, создавая между ними абсолютно необходимое взаимодействие. Иначе говоря, корифеи – это те, у кого личное начало не очень сильно выражено, а школа не очень сильно это личное начало подавляет. Вот они-то и исчезли. Именно потому, когда Большой театр ставил идеально структурированный балет Мариуса Петипа «Спящая красавица», нереиды могли быть превосходны и Авроры могли быть превосходны, а вариации Пролога танцевались так, как будто их не было. Повторю, этот тип танцовщиков, совершенно необходимый (ведь это и человеческий тип: не всем же быть великими), исчез. Большой балет поставил артиста перед выбором: либо ты гений, либо ты никто. Так не должно быть. Это бесчеловечная структура. У Петипа она была человечной: ты мог существовать только во множественном числе, а мог быть великим солистом, как Леньяни, Павлова, Нижинский. Но в той структуре было место и тем, у кого есть чувство собственной индивидуальности, но кто лишен великого таланта. Перед ними никогда не было дилеммы: погружаться в волны кордебалета или обязательно рваться наверх с риском, что ты тут же упадешь обратно. Вот классический пример: кто такая Ваганова? «Царица вариаций». А кто сегодня «царицы вариаций» в Большом балете? Раньше они были, я их хорошо помню, их помнят все старые балетоманы. Сегодня единственная, кто умело танцует вариации, – это Галя Степаненко – так она и есть прима-балерина.
ГЕРШЕНЗОН: Но «цариц вариаций» – Ваганову в первую очередь – сжигало желание занять место балерины.
ГАЕВСКИЙ: А это уже вопрос педагогики. На этом желании должна строиться вся работа. Что такое Пролог к «Спящей красавице» Мариуса Петипа? Это пролог не только к балету, это пролог к будущей жизни: вариации танцуют будущие Авроры. Получится? Не знаю, никто не знает. Но те, кто танцуют эти вариации, знают, что должно получиться, потому они делают это замечательно. Большой балет устранил эту иерархию и, повторяю, поставил людей в чудовищную ситуацию: либо ты абсолютная гениальность, либо ты совершенно никто. И, становясь этим «никто», артист лишался какой бы то ни было перспективы. Почему Большой балет перестал выдвигать яркие индивидуальности? Потому что они гибли в кордебалете. Если артист сразу же не заявлял о себе как о сверхталанте и сразу же не обнаруживал какого-то сверхмастерства, он терял себя и терялся в кордебалете. Судьба же тех, кто не пропал и не потерялся, была сказочной судьбой – они завоевали мир, и мы всех их помним.
ГЕРШЕНЗОН: Чудесно – они завоевали мир. Но как они это сделали? Давайте вернемся в мифический Лондон 1956 года. Меня всегда интересовало, что именно произвело на публику такое оглушительное впечатление. Уланова? Безусловно, но в лондонском Королевском балете в тот момент танцевала Марго Фонтейн. Московская «Жизель» в редакции Лавровского? Вряд ли, ведь «Жизель» Королевского балета была гораздо ближе к подлиннику, чем редакция Большого театра[1]. «Ромео и Джульетта» Лавровского, балет, в котором практически нет хореографического текста? Странно, потому что Лондон образца 1956 года был самым продвинутым балетным городом Европы с бывалой публикой и снобистской прессой: там видели и «Хрустальный дворец» Баланчина, и «Этюды» Ландера, «Симфонические вариации», «Scènes de ballet» Аштона и т. д. Согласитесь, уровень этой хореографии несопоставим со скромным балетмейстерским даром Леонида Лавровского. Но все мы видели хроникальные кадры с толпами беснующихся фанатов (в одном из документальных фильмов Нина Тимофеева описывает растрепанных дам с размазанным макияжем и заплаканными лицами, обращенными к сцене, где на поклоны выходит 46-летняя ДжульеттаУланова). Что их так возбудило? То, как устрашающая советская империя на глазах у публики неожиданно обрела «человеческое лицо» (это же 1956 год: Сталин умер всего три года назад, холодная война в апогее, только что прошел XX съезд КПСС, от секретного доклада Хрущева в шоке не только СССР, но и весь мир)? Триумф воссоединения разорванной русской истории, триумф искусства «оставшихся», тех, кто не ушел за Дягилевым и не сбежал в 1917 году (у Лондона, напичканного русской артистической эмиграцией, к этому был особый интерес: все-таки Уланова училась у Вагановой, танцевавшей вместе с Карсавиной, Кшесинской, Егоровой, Седовой и всемивсеми)? Их тронул экзотический «русский Шекспир»? Или то, что на элитной балетной сцене, которая ассоциировалась с дистиллированным модернизмом, показывают повествовательный балетный спектакль? А может, это были первые побеги поп-культуры с ее непременными атрибутами в виде рыдающих фанатов (до появления «Битлз» еще восемь лет)?
ГАЕВСКИЙ: Думаю, все проще. Лондон увидел многоактный сюжетный балет. Вот это и сослужило в дальнейшем дурную службу – именно нам. За них вообще не беспокойтесь, они живут органичной жизнью, чем-то увлекаются, кому-то подчиняются, для них понятие моды существует, но в еще большей степени существует понятие естественного саморазвития: они заболевают всем, чем надо заболевать в театре, и очень быстро выздоравливают. Наши болезни в этом смысле гораздо более тяжелые. Чем отличается русская традиция? У нас бывают взлеты необыкновенные, но и заболевания очень длительные. Заболевание, которое непосредственно возникло из определения «Большой балет», состояло в том, что внутренне для себя было раз и навсегда решено, что наш балет – балет прежде всего многоактный и что только так мы можем противостоять худосочному западному балету, – об этом говорилось всеми нашими теоретиками и практиками: у них нет многоактного балета. Тот же «Хрустальный дворец» длится тридцать минут – ну что это за балет?
ГЕРШЕНЗОН: В кинохронике 1962 года «Гастроли американского балета» кремлевская примадонна Ольга Лепешинская вещает за кадром: «Нью-Йорк Сити Балет – это как бы театр миниатюр, театр фрагментов, ну, что ли, эскизов…». А недавно я видел «Легенду о любви» – огромный трехактный спектакль. Мне показалось, что тот же объем хореографической информации можно было уместить…




