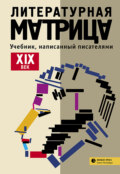Вадим Левенталь
Фотография из Неаполя
Паоло знает ещё со вчерашнего дня, чем он будет сегодня заниматься. Давно уже пришли в негодность пластины с несколькими древностями из Археологического музея – с них тут делают отпечатки, вкладывают в паспарту и продают. Стоит недорого; каждый, у кого есть несколько лишних лир, может приобщиться к искусству и римской древности. Это очень современно и политически правильно. Так вот, Паоло нужно взять фотоаппарат, отправиться в музей и отснять новые пластины: сеньор Боквинкель уже договорился с директором. Для Паоло это ответственное и интересное задание: если он не хочет вечно биться в подмастерьях, он должен доказать, что может снимать и делать это хорошо.
На сборы уходит некоторое время: кофр с фотоаппаратом, штатив, сумка с кассетами, сумка с лампами и стойками и ещё одна – с драпировкой и стойками для неё. Несколько мучительных минут Паоло думает, что делать с папкой, которую ему дал Эудженио: оставить здесь или взять с собой. Она жжёт ему руки, и в то же время он опасается, как бы ей не заинтересовался хозяин. В конце концов папка оказывается в сумке с кассетами: лучше так, чем полдня мучиться неизвестностью.
Ещё немного – и он уже со всем своим грузом в трамвае. Он стоит на задней площадке, чтобы как можно меньше мешать окружающим своим кофром, штативом, двумя сумками – но и для того чтобы не думать о том, кто там стоит и поглядывает на него сзади. Сзади него только мальчишки, повисшие на колбасе, Паоло видит их через стекло, они лыбятся, показывают ему язык, переглядываются и взрываются хохотом – Паоло слышит звонкие перекаты этого хохота, приглушённые стеклом и смешанные с треньканьем трамвайного колокольчика, стуком колёс на стыках рельс, скрипом сидений и людским гомоном.
В другой день Паоло погрозил бы мальчишкам кулаком или отвернулся бы, чтобы они переключились с него на кого-нибудь другого, – но сейчас он тупо застыл, глядя на них, и, кажется, даже приоткрыл рот, что даёт насмешникам новый повод для бешеного хохота. В сумке у его ног лежит папка, которую он представляет себе раскалённой докрасна, так что она просвечивает сквозь сумку, или по меньшей мере старается вылезти из заточения, выползти из сумки и всем раскрыть их с Паоло тайну. Внизу у моря остаётся кафе с девушкой, будто вышедшей из-под резца скульптора, – и вне всякого сомнения, именно в этот самый момент к ней склоняется красавец с золотыми запонками и шепчет ей изящные непристойности, отчего её нежные ушки алеют. А выше, в прохладе и тишине музея, его ждут мраморные скульптуры, которым больше двух тысяч лет, и от того, насколько удачно у него выйдет, играя линзами и светом, поймать их образы на стеклянные пластины, зависит его работа и карьера.
Три эти мысли не могут ни завладеть его душой одновременно, ни разделить её, ни перебороть одна другую – от этого Паоло стоит, не двигаясь и мало на что обращая внимание, всё так же с раскрытым ртом, и, когда он вдруг понимает, что сейчас, у музея, ему выходить, он замечает, что мальчишек, которые висели на колбасе, тыкали в него пальцем и хохотали, обнажая ослепительно белые зубы, давно и след простыл.
Паоло думал, что заметит, кто выходит вместе с ним, но народу много, а сам он путается в сумках, лямках и ремнях, к тому же на глаза течёт пот, – когда он спрыгивает со ступенек трамвая, солнце как раз в зените и жжёт невыносимо, – если за ним и был хвост, то он его не заметил. Трамвай уезжает, потряхивая колбасой.
Под сводами музея прохладно, а шаги, кашель и приглушенные голоса отдаются гулким эхом, как в пустом храме, – Паоло любит бывать здесь. Здесь несуетно, торжественно и благородно; здесь, где течение истории почти остановилось, можно будто бы услышать её собственный фоновый шум – как когда прикладываешь раковину к уху. К тому же за ним никто не юркнул по лестнице внутрь – это, конечно, мало что значит, могут, если что, и снаружи подождать, но всё-таки немного успокаивает.
Потом Паоло работает. Он вешает драпировку, расставляет штатив, закрепляет на нём фотоаппарат, ставит стойки с лампами, подключает их, выставляет свет, прикладывает фокускоп к стеклу, наводится на резкость, настраивает диафрагму, откидывает дверцу с матовым стеклом, вставляет кассету в камеру, поднимает шибер, снимает крышку объектива, ждёт несколько секунд и закрывает крышку. Каждый раз он закрывает шибер, вынимает отснятую кассету, прячет её в сумку, перетаскивает драпировку, штатив с фотоаппаратом и приборы к другому экспонату и бегом возвращается за кофром и, главное, сумкой с кассетами.
Работа увлекает Паоло. Постепенно он как бы половиной своего существа перетекает в мир тускло светящегося мрамора, в мир мраморных рук и бёдер, поворотов шеи и застывших полуулыбок, изгибов длинных пальцев, напряжённых спин, вздутых мышц плеч, круглых задниц, кучерявых причёсок, прямых носов и узких подбородков – половиной своего существа он там и как бы ощупывает тот мир изнутри, а другой половиной здесь, у фотоаппарата, прищурившись, ловит ракурс и свет, крутит колесо фокусировки и, задержав дыхание, снимает крышку объектива.
Иногда мимо него проходят группы школьников в одинаковых чёрных костюмчиках. Экскурсоводы торопят ребят, чтобы не мешать ему, но он ловит на себе взгляды девчонок – они шепчут что-то друг другу, стреляя в него глазками, хихикают – и взгляды мальчишек – восторженные, они жадно поедают глазами его технику, фотоаппарат им явно интереснее, чем Юпитеры, Юноны, сатиры и даже братья Амфион с Зетом.
Паоло снимает, аккуратно убирает отснятую кассету, переносит аппаратуру на новое место, начинает сначала, из раза в раз, и незаметно с ним начинает что-то происходить. Его дыхание ровно, движения спокойны и выверены, он вроде бы даже становится медлительнее, как будто крадётся между лучами света, тенями и формами, будто пробирается тайком, чтобы поймать нужный ему свет и ракурс, – но внутри себя он всё больше распаляется. И потому что чувствует, что у него получается, и потому что мир, в который он попал, воздействует на него – мир бесконечного соблазна, свободной игры желания, непотаённого чувства. Он переносит штатив с камерой к доске, на которой танцуют пьяные Вакх с Фавном в окружении других танцующих, приглядывается к тому, как ложатся тени на их легко изогнувшиеся тела, и ему кажется, что он слышит музыку, под которую они танцуют, которую играют для них две женщины, одна с кимвалами, другая с авлосом, – слышит весёлую плясовую мелодию, под которую, обнявшись, танцуют разгорячённые вином мужчины, – и будто бы сила того желания, которую вложил в этот мрамор скульптор две тысячи лет назад, захватывает его так что и он тоже чувствует пульсацию крови в отплясывающих ногах, нежную гладкость кожи и бьющий через край восторг.
Ему работается легко и весело, так что он не замечает, как проходит несколько часов, и работа окончена. Теперь он чувствует себя как пловец, вышедший из воды, – опустошённым, и его слегка качает. Всё вокруг происходит как будто медленнее, чем должно, а звуки слышны как будто бы из-под воды. Всё так же ходят по залам смотрительницы, гулко доносятся из далёких залов детские голоса, Паоло собирает фотоаппарат, штатив, лампы и драпировку, вдруг его обжигает: а папка? Папка была в сумке с кассетами. А где сумка?
На несколько секунд Паоло кидает в липкий животный страх. Бежать? Но куда и какой смысл. Сказать, что не его? Не поверят. Звонить отцу в контору? Но где тут телефон, и чем он сможет помочь, даже если на месте. Сердце ухает, по лбу течёт пот. Впрочем, вот же она, сумка: из соседнего зала её тащит смотрительница: паренёк, твоё? Паоло с подозрением смотрит на женщину, но потом его отпускает, и он кивает: моё, мол, спасибо.
Только выйдя наружу, Паоло понимает, что страшно проголодался, и вспоминает, что у него есть с собой мамин бутерброд. Он садится в тени на лестнице, составляет кофр и сумки рядом и ест. Под галереей дома напротив снуют прохожие, протяжно кричат лавочники, мимо проезжает автомобиль, из-за поворота слева течёт ручеёк студентов с тубусами и этюдниками.
Потом Паоло снова едет в трамвае, но теперь он почти не думает о бумагах Эудженио. Возможно, он привык к их присутствию, как привыкают к живущему в террариуме тарантулу, а может быть, дело в том, что чем ближе к пьяцца Сан-Фердинандо, тем более властно его сознанием завладевает шальная мысль: снова зайти в «Гамбринус» – ведь хочет же он пить? после бутерброда-то, хочет! – и попробовать всё-таки заговорить с той девушкой. Вероятно, он не отдаёт сам себе в этом отчёта, но в резонаторах его воображения до сих пор гудят авлосы и звенят кимвалы, качаются бёдра, ладони свободно гуляют по задницам, колышутся груди и изгибаются талии. В Паоло как будто просыпается и сучит волосатыми ножками с копытцами озорной бесёнок, подначивает его пританцовывать. Паоло сам не замечает, что отбивает носком ботинка какой-то ритм. Его тело как будто становится легче, через него волна за волной проходят токи свободного желания, как если бы он был антенной и поймал их реликтовое излучение. В его глазах загорается шаловливая искорка, мышцы плеч и шеи расслабляются, а диафрагма начинает ходить вольно и широко, ноздри сами собой раздуваются. Он больше не скромный сын средней руки адвоката, студент-медик, он сам теперь Фавн и Дионис, сатир со стояком, сосуд страсти и страсти стон, о, он больше не скромный фотограф, немой наблюдатель за стеклом, в нём поселяется что-то большее, чем он сам – желание как таковое, и оно властно бьётся в нём, завладевает им, рвётся наружу.
Едва ли Паоло сам мог бы сказать, в чём дело, но когда он заходит в «Гамбринус» – с трудом открыв дверь, простучав по ней своими кофрами и штативом – подходит к стойке – за которой она! никуда не ушла! – просит кофе – и смотрит ей прямо в глаза и спрашивает, как её зовут, – девушка с чёрными, как предвечная ночь, глазами и такими же бровями чувствует идущую от Паоло волну лёгкости, игривости, уверенной в себе силы, эта волна захватывает её, и она называет своё имя – и в этот момент Паоло понимает, что может прямо сейчас назначить ей свидание. И он назначает.
Её зовут Адриана, и они встретятся сегодня в восемь. Паоло в два глотка, не снимая с плеча сумок, выпивает свой кофе, подхватывает штатив и, счастливый, выходит из кафе. Проходя мимо стойки, он подмигивает Адриане, она в ответ улыбается.
Он поднимается по виа Кьяйя окрылённый, не чувствуя веса своих сумок и не чувствуя тяжести собственного тела. И только сейчас ему начинает казаться, что за ним по-настоящему следят. Это совсем не похоже на те сомнения и подозрения, которые мучили его утром, – теперь это почти уверенность: юноша, его ровесник, вышел из «Гамбринуса» сразу вслед за ним, как и он, повернул налево и теперь идёт за ним по пятам. Паоло заметил его, уворачиваясь от машины и случайно взглянув назад. Высокий, чернявый, худой как палка, молодой человек неприметно одет – потёртые туфли, пиджак нараспашку, болтается жиденький галстук и на голове сморщенная серая кепка, – но сразу бросается в глаза усыпанное прыщами лицо. У него нет ни сумки, ни портфеля, он старательно не смотрит на Паоло, но идёт метрах в двадцати от него, никуда не сворачивая и не обгоняя, – Паоло не может заставить себя не оборачиваться, оборачивается всё чаще, сердце колотится и мысли путаются в голове.
Дойдя до Площади мучеников, Паоло сворачивает налево, тут же ныряет в лавку и, тяжело дыша, смотрит сквозь стекло: прыщавый проходит мимо не обернувшись. Даже когда чуть дальше двое бегущих по площади мальчишек, хохоча, врезаются в него, и он пытается раздать обоим подзатыльники – даже теперь не оборачивается, хотя это выглядело бы куда как естественно. Так, по крайней мере, Паоло думает. И, проходя вглубь мастерской, ставя на место штатив, раскрывая сумку с кассетами, нащупывая папку, Паоло понимает, что всё-таки перенервничал, никто за ним не следил, просто парень шёл своей дорогой, мало ли какие бывают совпадения.
Сеньор Боквинкель оглядывает вспотевшего, тяжело дышащего, взбудораженного Паоло, спрашивает ну и жара там, правда? и ещё спрашивает, как всё прошло. Паоло сбивчиво отвечает, что всё хорошо, без сучка без задоринки, всё что нужно отснял, и ещё он очень-очень просит позволить ему проявить пластины и напечатать. Боквинкель смотрит на Паоло и решает, что тот, наверное, где-нибудь только что тискался с какой-нибудь девчонкой, подлец, что делать, возраст, но зато именно в этом возрасте они могут работать по двадцать часов в сутки и всё делать талантливо и с огоньком. Хорошо, он разрешает, но за испорченные пластины вычтет из зарплаты. Паоло согласен – во-первых, ему действительно не терпится проявлять и печатать, а во-вторых, в запертой проявочной ему будет спокойнее наедине с папкой.
Сеньор Боквинкель отправляется за прилавок, чтобы заняться там своей сигарой, а Паоло накидывает на дверь крючок, задвигает занавеску, достаёт кюветы, наливает растворы – проявитель, стоп-ванна, фиксаж, – градусником проверяет температуру проявителя, выкладывает кассеты, заряжает таймер и выключает свет. Теперь он на ощупь достаёт пластину, погружает её в проявитель, включает таймер. Через три минуты, когда таймер срабатывает, он аккуратно двумя пальцами извлекает пластину, окунает в стоп-раствор и перекладывает в фиксаж. Теперь можно включить свет. И тут он задумывается, что ведь именно сейчас, за закрытой дверью, он мог бы заглянуть в папку – никто не узнает. Сначала он отметает эту мысль – Эудженио же просил его не делать этого, – но чем дальше, чем больше его эта мысль мучает, и наконец Паоло понимает, что раз она поселилась в нём, так просто она не уйдёт, она не даст ему работать, нужно посмотреть, что в этой проклятой папке, и только тогда успокоиться и спокойно работать дальше.
Вытерев руки полотенцем, Паоло достаёт папку из кофра, садится на табурет, кладёт папку на колени и развязывает шнурок. Внутри всего несколько листов, все они исписаны аккуратными, хотя и разными почерками и даже разными чернилами – в столбики записаны имена и фамилии, адреса, кое-где телефоны, названия организаций, должности, дополнительные сведения. Паоло понимает, что зря открыл папку, он действительно не хочет ничего этого знать: если он запомнит хоть что-то и не дай бог окажется на допросе…
Он захлопывает папку, завязывает шнурок, убирает папку в сумку и успокаивает дыхание: его ждут пластины. Теперь он, как ни странно, может спокойно работать. Он выключает свет и привычными движениями открывает кассеты, вынимает пластины, опускает их в проявитель, потом по щелчку таймера перекладывает в стоп-раствор, в фиксаж и кладёт сушиться.
Он успевает проявить все пластины, когда раздаётся стук в дверь. Сначала у Паоло подпрыгивает сердце, но нет-нет, это всего лишь хозяин. Пора закрывать лавку, пусть Паоло заканчивает. Паоло просит ещё две минуты, заканчивает с последней пластиной – Венера, обернувшись, оглядывает свою задницу, – включает свет и открывает дверь. Действительно, уже шесть часов, и пора закрывать лавку. Паоло уговаривает хозяина оставить ему ключи – он хочет ещё поработать. Боквинкель немного сомневается – всё же раньше он никогда этого не делал, – но соглашается.
Паоло закрывает за хозяином дверь, выключает свет в торговом зале, проходит в проявочную и выключает свет в ней. Теперь он совсем один во всей лавке, только он, огонёк тусклой красной лампы, увеличитель, кассеты, бумага, бутыли с реактивами, ванночки, пинцеты, воронки для переливания, объективы, резаки для бумаги, карандаши, линейки, кисти и краски для ретуши. Паоло наслаждается моментом – ещё целый час он будет полным хозяином царства теней и света, формы и глубины, образов и их зеркальных отражений. И это только начало. Отныне это его царство. Он надевает фартук.
В этот момент раздаётся стук во входную дверь. Паоло снимает фартук и, не включая света, осторожно выходит в зал. Сердце колотится в горле. Он очень надеется, что это Боквинкель, который что-нибудь забыл. Сигару. Он мог забыть сигару. (Как будто у него нет другой.) Мысли ссыпаются одна на другую и тут же пропадают. Он вглядывается в сторону входной двери, делает несколько шагов по направлению к ней. И видит глаза, которые уже заметили его раньше и смотрят прямо на него. Это он, прыщавый. Паоло с ужасом думает, что делать. Сделать вид, что никого нет, уже не получится. Не открывать будет ещё подозрительнее. Попытаться сбежать – тем более. На самом деле у него нет выбора. Только открыть чернявому. На ватных ногах он идёт к двери и открывает её.
Чернявый мгновенно ужом просачивается в лавку и тут же прячется в тень.
– Извини, – говорит, – пришлось попасти тебя днём, посмотреть, нет ли за тобой хвоста. Я и тут сидел напротив, на площади, чтобы быть уверенным. Ну и хозяину твоему не хотел на глаза показываться, пришлось ждать, пока уйдёт. Я Саша, друг Эудженио.
Он смотрит на Паоло несколько напряжённо, хотя и доброжелательно. Нельзя сказать, чтобы Паоло успокоился. Одно возбуждение сменяется в нём другим. Этот момент он как-то не продумал. А что если это ловушка? А что если за Сашей в свою очередь другой хвост? И вместе с этим: видимо, русский. Ну конечно, русский. И что случилось с Эудженио? Он же говорил, что сам придёт. Последний вопрос он задаёт вслух. Сашино лицо темнеет.
– Арестован.
Действительно, днём в результате масштабной операции ОВРА были арестованы руководитель неаполитанского отделения КПИ Эудженио Реале и одновременно с ним ещё двенадцать членов партии. Главе отдела прессы и пропаганды Алессандро Вигдорчику удалось скрыть бумаги со списками членов и схемой организации – и только это спасло её от окончательного разгрома. (Для итальянцев Вигдорчик русский, но на самом деле, само собой, его родители были белостокскими евреями и бежали из Российской Империи от погромов; кажется, это его папа – зубной врач, частый гость и постоянный собеседник Горького, а двоюродная сестра Роза Раиза (Ривка Бурштейн) – оперная суперзвезда, напарница Карузо, первая исполнительница партии Турандот.) Работу неаполитанского отделения КПИ кое-как удастся восстановить только через месяц. Новым штабом организации станет квартира профессора Джулиано Бонфанте – лингвиста, знаменитого этрусколога и индоевропеиста; надо думать, заседания секретариата отделения проходили под крики новорождённой дочери, которая, когда вырастет, станет ещё более знаменитым этрускологом, профессором Нью-Йоркского университета, и доживёт до 2019 года. Конечно, активность ячейки никогда больше не восстановится полностью. В 1932 году удастся наладить связь с центральным комитетом партии, а в 1933 году организовать демонстрацию, на которую выйдут около ста пятидесяти человек – более шестидесяти будут арестованы, и эта самоубийственная акция станет последней крупной акцией отделения. Некоторые неаполитанские коммунисты будут позже воевать в Испании, некоторые – оказывать юридическую помощь рабочим, но как действующая сила организация восстановится только в 1943 году, когда коммунисты выйдут на свободу и вернутся в Неаполь, – но это будет уже совсем другая история. 24 октября 1945 года произойдёт «раскол Монтесанто», когда часть партийцев обвинят Эудженио Реале в политике соглашательства с буржуазными партиями и потворстве бывшим фашистским лидерам, попытаются перехватить руководство партией и потерпят поражение. Сам Эудженио Реале разочаруется в партии в 1956-м, после Будапешта, выйдет из неё, громко хлопнув дверью, и к концу своей жизни в 1986 году перейдёт на едва ли не антикоммунистические позиции. Что будет с Алессандро Вигдорчиком, мы не знаем.
И тем более не знает этого наш герой Паоло. Паоло выносит Саше папку, закрывает за ним дверь и ещё с минуту глядит ему вслед – Вигдорчик растворяется в вечерних сумерках и сливается с темнотой.
Паоло возвращается в проявочную. Ему бы надо чувствовать облегчение, но то, что он чувствует, скорее похоже на опустошение: как будто за этот длинный день папка стала частью него – проблемной, вроде больной руки или ноги, но всё же полноправной – никто же не согласится спокойно расстаться с рукой или ногой. И вот теперь её нет.
Впрочем, опустевшее место внутри Паоло скоро заполняется. Он выключает свет, только остаётся тускло гореть красная карбидная лампа. Паоло берёт просушенные пластины и начинает печатать. Достает пачку фотобумаги, берёт лист, отрывает от него треть, кладёт на стол под фотоувеличитель, прижимает одной из пластин, включает фотоувеличитель, даёт пробную выдержку на пять секунд. Снимает пластину, пинцетом берёт клочок бумаги, погружает в проявитель, потом в стоп-ванну и переносит в фиксаж. Включает свет и понимает, что выдержка недостаточная – нужно семь. Теперь можно печатать. Теперь всё то же самое, только с целым листом.
Гудит реле времени, мерцает карбидный свет, плавают в воде отпечатки, сладковато пахнет проявителем. Паоло покачивает кювету и наконец расслабляется.
Проявитель бликует в свете фонаря, на бумаге ещё только начинают проступать тени, но Паоло уверен, что всё хорошо, что у него всё получилось. Он успокаивается и ждёт. Нужно только ждать. Он думает о девушке с чёрными, как предвечная ночь, глазами, и такими же бровями. Он встретится с Адрианой у колонны со львами, они дойдут до Вилла Комунале, сядут у воды и будут слушать шум волн и вглядываться в далёкие огоньки. Он возьмёт её за руку, и её пальцы дрогнут у него в ладони. Потом он отодвинет прядь её волос, она будет смеяться и мягко уберёт его руку, но он всё-таки прижмётся губами к её шее и уху, на которых уже успеют осесть мельчайшие брызги морской воды. Она подберёт юбку и, хохоча, поднимется на ноги, как бы убегая, он вскочит вслед за ней, поймает её за локоть и развернёт к себе, чтобы поцеловать. Она ответит на поцелуй, но коротко, как порыв ветра, и тут же вырвется. Они перебегут через дорогу и окажутся у решётки парка. Паоло схватит её за руку и потащит за собой: он знает здесь проход. Он протиснется между прутьев и поможет пролезть ей. В парке будет темно хоть глаз выколи. Паоло потянет её за собой на траву. Она перестанет хохотать и станет серьёзна, даже как будто торжественна. Он будет целовать её нежные налитые ароматные губы, гладить её спину и шею, пробираться ладонями к упругим яблокам грудей, к нежной тёплой большой попе. Она будет расстегивать его рубашку, прижимать ладони к его спине, подрагивать и подаваться вперёд, помогая ему снять с себя трусики. Потом Паоло медленно, постепенно войдёт в неё до конца и остановится на секунду, чтобы поймать блеск её глаз, и они не смогут сдержать стона.
Тем временем на белой бумаге как будто из глубины начинают выплывать и вставать рядом друг с другом тени. Снова качаются бёдра, снова колышутся поднятые вверх предплечья, гуляют ладони и изгибаются станы. Гудят авлосы и звенят кимвалы – размеренно, широко, как набегающие одна за другой морские волны. Пахнет травой, вином, оливами, нагретой на солнце кожей. Поднимаются и опускаются оголённые груди, перекатываются под кожей мышцы спины. Ветер шумит в ветвях пиний, развевает кудри и раздувает рубахи. Пляшущие перебирают ногами то влево, то вправо, то вперёд, то назад, поддерживают друг друга, прижимаются друг к другу разгорячёнными телами. Радостно лают собаки, визжат играющие дети, гудят авлосы и звенят кимвалы. Ветер приносит запах морской воды. Прыгают задницы, в ритме дыхания поднимаются и опускаются животы, гнутся шеи и запрокидываются подбородки. Раздаётся звонкий хохот, журчит льющееся из кувшинов вино. На солнце играют тени. Размеренный танец набегает и отбегает, музыка длится, шуршат о траву пальцы ног. Ладонь гладит упругую круглую попу, раздвигаются в улыбке губы, блестят глаза. Трутся друг о друга бёдра, поднимаются и опускаются руки, качаются головы, гнутся спины, гуляют ветви деревьев, ходят влево и вправо ноги, клонится к земле трава, плещется в чашах вино. Гудят авлосы и звенят кимвалы.
3
У нас нет сведений о том, когда именно барельеф был перевезён в Неаполь. В 1785 году его, ещё в Риме, зарисовывает Давид, а в 1796-м он, уже в Неаполе, попадает в каталог королевской коллекции – впервые под именем Baccanale. Значит, переезд мог случиться в любой момент в этом промежутке. Мы можем назвать любой год и надеяться, что нас не поймают за руку. Вот, например, 1787-й. Почему бы и не 1787-й.
Май. Раннее утро, ослепительно светит солнце. Джеронимо выпрыгивает из коляски и почтительно подаёт руку отцу, помогает ему спуститься. Отец Джеронимо – камергер при дворе Его Величества; женился он поздно, поэтому сейчас он уже старик, а Джеронимо – Джеронимо всего восемнадцать. У юноши чёрные вьющиеся волосы, большие карие глаза с густыми ресницами и правильные черты слегка удлинённого лица – пожилые кузины часто говорят, что из него получилась бы прелестная девица, Джеронимо эти реплики бесят, но он всегда только вежливо улыбается.
Одет Джеронимо неброско: серый камзол с простыми пуговицами, такие же кюлоты и чулки, чёрные башмаки с медными пряжками, на голове непослушные локоны удерживает бежевая треуголка без перьев и лент. Такая аскетичность едва ли не вызов господствующей моде, но они с Аннибале решили, что философам не подобает заботиться о яркости наряда.
Аннибале тоже где-то здесь, но Джеронимо не может найти его взглядом. Они ровесники и дружат уже четыре года, Аннибале – сын придворного лекаря. Бог знает, зачем они все нужны на королевской рыбалке, но сегодня двор провожает короля чуть не в полном составе. Коляски, кареты и фаэтоны подкатывают к набережной, простой народ расступается, экипажи останавливаются, и из них выходят мужчины, выкарабкиваются старухи и выпархивают девушки.
Джеронимо хлопают сзади по плечу. Это Аннибале. Аннибале ниже его ростом, он полноват, у него нос картошкой и близко посаженные маленькие глаза – не красавец, в общем. Зато он умный, энергичный, весёлый и острый на язык. Аннибале взглядом указывает Джеронимо на стоящую рядом со свой бабкой-фрейлиной девицу ди Кассано.
– Клянусь нетленными яйцами святого Януария, она на ярмарке выменяла сиськи на мозги, – говорит он вполголоса с каменным лицом.
Джеронимо хотелось бы сохранить самообладание и ответить что-нибудь столь же едкое, но вместо этого он глупо хихикает и заливается краской. За него шутку продолжает Аннибале.
– Впрочем, нет, не на мозги. На свои мозги она бы большие сиськи не выменяла.
Джеронимо снова давит смех и повторяет про себя «клянусь нетленными яйцами святого Януария», чтобы запомнить, хотя сам он, конечно, никогда не сможет так сказать. То, что в устах Аннибале звучит искромётной шуткой, повтори это Джеронимо? – станет стыдной глупостью.
Тем временем на набережную спускается королевская карета, и из неё выходит король. Народ приветственно кричит, двор стекается к нему, и отец Джеронимо тоже устремляется к толпе. Молодые люди остаются одни. В их кругу короля принято презирать. Король религиозен, говорит с лаццарони на местном диалекте, увлекается лишь охотой да рыбалкой, правит вместо него его постоянно беременная австрийка-жена, и к тому же у него длинный уродливый нос. Всё это можно было бы ему простить, но он не просвещён: не интересуется философией и не знает древней истории – именно это делает его в глазах молодых людей никчёмным болваном, не тянущим даже на деспота. «Никакого Брута у нас не будет, потому что у нас вместо Цезаря трактирщик!» – шутить в подобном духе как бы опасно, но все шутят.
У берега Фердинанда IV ждёт четырёхвесельная лодка, идут последние спешные приготовления, свита провожает короля. Аннибале вполголоса продолжает отпускать похабные шуточки, народ вокруг – рыбаки, моряки, торговцы – машет руками и вразнобой кричит: «Да здравствует король!», дети заливаются хохотом: «Re Nasone!», Фердинанд машет рукой в ответ одним и в шутку грозит кулаком другим и наконец садится в лодку. Залив светится лазурью, утреннее солнце заливает теплом амфитеатр набережной, вдалеке слегка дымится Везувий, в воздухе пахнет морской водой, рыбой и жареными каштанами.
Позднее английская и французская пропаганда сделают из Фердинанда IV чуть ли не идиота, будут многозначительно намекать на его пороки и разврат, хотя, кажется, он был только не самым удачливым продуктом своей эпохи, к тому же в конце концов безнадежно её пережившим. Иосиф не тянул на Фридриха, а Фердинанд не тянул и на Иосифа, но был всё-таки той же породы: пока его не ушибло революцией, в духе времени занимался строительством, организацией утопических коммун, образованием молодёжи. Что касается пороков и разврата, то единственное, что у намекающих, от Дюма до Зонтаг, находится ему предъявить конкретного – это что он ел макароны в театре и иногда торговал рыбой, которую сам же и поймал. В то же время Фридриху простили, что он перетрахал едва ли не всех своих гренадёров. История цинична, не прощает только слабость. Довольный хорошей погодой, предвкушая добрый улов, счастливый король исчезает среди бликов и искр на ряби Неаполитанского залива.
От берега к Джеронимо спешит отец. Заметив это, Аннибале оставляет Джеронимо одного, надевает учтивое, доброжелательное выражение лица и уходит в сторону стайки девиц, которым только что перемыл все косточки.
Отец возбуждён и доволен. Королю сообщили, что из Рима прибыл корабль с доставшейся ему по наследству коллекцией древностей. Отец испросил для Джеронимо чести принять эту коллекцию. Дело несложное: проследить за разгрузкой, сверить по списку, убедиться, что по дороге ничего не пропало, проконтролировать, чтобы всё в целости перенесли во дворец и там аккуратно складировали в специально отведённой зале. Несложное, но очень ответственное и почётное, отец поручился за сына как за самого себя, так что для Джеронимо это возможность, и он должен… Джеронимо не очень понимает, о каких таких древностях идёт речь, почтительно кивает, но слушает вполуха: гораздо больше его занимает, над чем таким хихикают девицы, собравшиеся кружком вокруг Аннибале. Наконец он понимает главное: приступить к делу нужно будет завтра, когда ему выдадут бумаги, а пока он свободен.
Отец отпускает Джеронимо, и он как бы от скуки, как бы не зная, чем заняться, сдерживая нетерпение и бросая нарочито ленивый взгляд то туда то сюда направляется к Аннибале с девицами. Взглядывая по сторонам, он вдруг замечает юношу-моряка, который стоит в тени, прислонившись к стене дома, скрестив руки на груди, и смотрит прямо на него. Моряк чуть постарше Джеронимо, он красивый, у него крепкие руки и жгучий взгляд насмешливых чёрных глаз, искрящихся, как два камушка на дне холодного ручья; он смотрит прямо на Джеронимо, не отводя взгляда. Джеронимо теряется, думает, что это случайность, отворачивается, потом взглядывает снова: нет, смотрит. Он несколько раз проверяет, не померещилось ли. Юноша смотрит прямо на него. Джеронимо волнуется и не понимает, как ему себя вести. Он делает вид, что ничего не происходит. Подходит к Аннибале с девицами, включается в светский диалог, впрочем, отвечает невпопад и слушает, не слыша, но иногда взглядывает в сторону стены: моряк всё там же. Глядит на него чёрными из-под чёрных бровей глазами и насмешливо улыбается. Когда приходит время рассаживаться по экипажам и разъезжаться, моряка уже нет, и Джеронимо чувствует облегчение, смешанное с непонятной досадой.