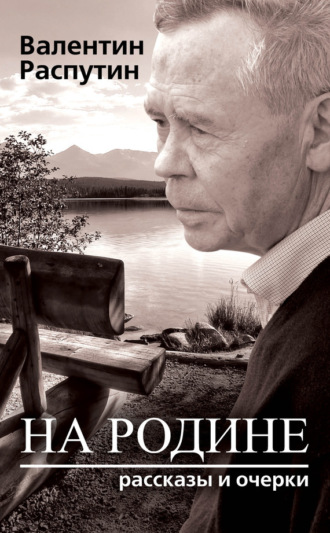
Валентин Распутин
На родине. Рассказы и очерки
2
Орсовские склады располагались буквой «Г», длинный конец которой тянулся вдоль Ангары, или, как теперь правильней говорят, вдоль воды, а короткий выходил с правой стороны в Нижнюю улицу, – словно эта увесистая буква не стояла, а лежала, если смотреть на нее сверху из поселка. Две другие стороны были, разумеется, обнесены глухим забором. В этот товарный острог вело с улицы два пути: широкие въездные ворота для машин и рядом проходная для полномочных людей. Справа от ворот, ближе к складам, стоял аккуратно встроенный и наполовину выходящий из линии забора, весело глядящий в улицу зеленой краской и большими окнами магазин с одним крыльцом на две половины – на продовольственную и промтоварную.
Нижняя улица и вправо и влево от складов застроена была густо: людей всегда тянет ближе к воде. И серьезный огонь, стало быть, мог пойти гулять по избам и в ту и в другую сторону, мог перекинуться и на верхний порядок. Почему-то об этом прежде всего подумал Иван Петрович, выскакивая из дому, а не о том, как отстоять склады. В таких случаях раньше прикидывается самое худшее, и уж потом и мысль, и дело начинают укорачивать размеры возможной беды.
С крыльца Иван Петрович кинул взгляд в сторону складов и не увидел огня. Но крики, которые слышались теперь отовсюду, доносились оттуда отчаянней и серьезней. Чтобы спрямить дорогу, Иван Петрович бросился через огород и там, выскочив на открытое место, убедился: горит. Мутное прерывистое зарево извивалось сбоку и словно бы далеко вправо от складов; Ивану Петровичу на миг показалось, что горят сухие огородные прясла и банька, стоящая на задах, но в ту же минуту зарево выпрямилось и выстрелило вверх, осветив под собой складские постройки. Снова послышались крики и треск отдираемого дерева. Иван Петрович опомнился: и что же, куда он с пустыми руками? Он бегом повернул назад, крича на ходу Алене, но ее уже не было, она, бросив избу, умчалась. Иван Петрович подхватил с поленницы топор и заметался по ограде, не помня, где может быть багор, и не вспомнил, перехваченный другой мыслью: что надо бы закрыть избу. Тут заплясали на стене всполохи огня, заторопили, и Иван Петрович, потеряв всякую память, кинулся тем же путем обратно.
На бегу он успел отметить, что зарево сдвинулось ближе к улице. История, значит, выходила серьезная. И столь серьезного пожара, с тех пор как стоит поселок, еще не бывало.
Иван Петрович обежал забор и от широких, распахнутых сейчас настежь ворот медленно пошел внутрь двора, осматриваясь, что происходит.
3
Загорелось, по всему судя, с угла или где-то возле угла, от которого склады расходились на стороны: продовольственные – в длинный конец и промышленные – в короткий. И те и другие стояли каждая сторона под одной собственной связью. И построено было так, и занялось в таком месте, чтобы, загоревшись, сгореть без остатка. Что до постройки, до того, чтоб с самого начала подумать о возможности огня, – русский человек и всегда-то умен был задним умом, и всегда-то устраивался он так, чтоб удобно было жить и пользоваться, а не как способней и легче уберечься и спастись. А тут, когда ставился поселок наскоро, и тем более много не размышляли: спасаясь от воды, кто думает об огне? Но что касается угла, где загорелось, здесь кто-то или, уж верно, злой случай, если не кто-то, умен был умом далеко не задним.
Сразу на две стороны и запластало. В продовольственный край огонь пошел по крыше, да так скоро и с таким треском, будто там поверху насыпан был порох. Этот край не успели закрыть шифером, который привезли уже по осени и сложили вдоль забора, где он лежал и теперь. А промышленный край стоял под шифером уже года два – одно дело, когда мочит ящики с банками или какие-нибудь там галеты-конфеты, и совсем другое – если под дождь попадут те же японские тряпки, за которыми в эти места приезжают аж из Иркутска и которые имеют какую-то особую цену еще и помимо денег. Но не шифер, конечно, помешал огню и в эту сторону кинуться по крыше, а что-то иное. Тут самое пекло было внутри крайнего склада, отсюда, на здравый взгляд, и могла начаться вся история.
Под шифером же стоял еще один склад – дальний в продовольственном ряду возле забора, тот, в котором держали муку и крупы.
Когда Иван Петрович, как-то кособоко, зигзагами подвигаясь, не зная, куда кинуться, шел по озаренному двору, только в двух местах начали сколачиваться группы: одна скатывала с подтоварника близ правого огня мотоциклы, вторая, мужиков из четырех или пяти, в другом конце разбирала на середине длинного порядка крышу – чтобы прервать верховой огонь. Их уже припекало близким жаром – мужики яростно кричали и яростно отдирали и сталкивали на землю черные от времени, ломающиеся тесины. Иван Петрович вспомнил про топор в руках – с топором к ним ему и следовало на подмогу – и, подбежав, заплясал внизу, отскакивая от обрывающихся досок и не догадываясь, как, с какого боку взбираться наверх. Совсем отказала ему голова, совсем ничего не шло на ум. И только когда увидел он, как кто-то, широко расставляя на два ската ноги, торопливо шагает по крыше от левого забора – туда и побежал, уже и не ругая себя словами, тут не до слов было, а словно бы вдыхаемым отчаянием кляня и опаляя, под стать общему жару, себя за бестолковость. А ведь давно ли мужик как мужик был – одна шкура от мужика осталась.
Там, наверху, командовал Афоня Бронников. Иван Петрович, подбегая, услышал его голос, приказывающий кому-то спуститься поискать лом или, на худой конец, любую железяку под выдергу. И как-то легче сразу стало на душе у Ивана Петровича: хорошо, что Афоня здесь. Тут же был и еще один надежный человек – тракторист Семен Кольцов, мужик, правда, приезжий, но Ивану Петровичу приходилось с ним вместе работать, и он знал: человек надежный.
Афоня, увидев топор в руках у Ивана Петровича, обрадовался:
– Ну вот, хоть один умный человек нашелся! А то на пожар бегут как за стол – с пустыми руками.
Он поставил Ивана Петровича на край, выходящий во двор, и тот, недолго присматриваясь, принялся отбивать доски. С другого конца ската, от конька, стоя на чурке, соскакивая всякий раз с нее и передвигая колотушкой, как кувалдой, бил споднизу в крышу сам Афоня, посередине, и тоже топором, орудовал Семен Кольцов. Он успевал и здесь, и на другой стороне ската, обращенного к Ангаре, и, обычно малоразговорчивый, сдержанный, войдя в раж, круша и кроша доски и слева и справа, что-то дико и беспрестанно кричал. Как ни занят, как ни употреблен был в деле Иван Петрович, он успел подумать, что так вот, вынося, выкрикивая себя из себя, может человек только бросаясь в атаку, бросаясь убивать или вынужденный разрушать, как теперь они, и что не придет же человеку в голову ором орать по-звериному, когда он, к примеру, сеет хлеб или косит траву для скота. А мы еще считаем века, которые миновали от первобытности; века-то миновали, а в душе она совсем рядом.
Когда Иван Петрович подскочил, раскрыто было до него метра на четыре. Вместе с ним стали подвигаться быстрей – и успели: огонь, скорым тропинчатым жором пробежавший по внутреннему скату, запнулся о пустоту, вымахнул вверх, вынудив их от крутого близкого жара присесть, но перекинуться через провал он уже не смог и развернулся и пошел добирать оставшееся в спешке позади сухое и податливое тоньё. Задымились стропила, но не вспыхнули, а там, где пробовали вспыхнуть, накинулся и забил телогрейкой Афоня.
И еще раз убедился Иван Петрович: отчаянная душа этот Афоня, свой, из старой дозатопной деревни парень, теперь уже не парень давно – мужик.
Снова принялись за дело, чаще и опасливей оглядываясь назад. Вернулся посланный за ломом парень и принес вместо лома новость: выкатили обгоревший «Урал». Мотоцикл «Урал» с коляской, за которым в леспромхозе гоняются больше, чем за «Жигулями». Парень был полузнакомый, теперь их много, понаехавших с разных сторон и поживших уже немало, но так и не ставших знакомыми. Возмущаясь, он вскрикивал:
– Ведь был же он, был, «Урал»-то! Для кого вот он был? Для кого его прятали?! Я у Качаева недавно спрашивал. Нету – говорит. А он уж тут стоял!
Афоня понужнул его:
– Ты лом искал – или что?!
– Нету. Ничего нету, – закричал парень. – Вы поглядите: бабы с ведрами понабежали, а водовозку найти не могут. С Ангары на коромысле таскают. На такой ад – на коромысле! Да это ж все одно, что встать в ряд и чихать на него. Ему это все одно.
И парень криком стал рассказывать, как он, прибежав одним из первых, пробовал пользоваться огнетушителями:
– Его ударишь, как надо, а из него один пшик. Пшик – и все. Ни пены, ни гангрены. Они то ли высохли, то ли выдохлись.
Он кричал из-за спин: Афоня заставил его держать позади все той же телогрейкой оборону. От этого прерывистого, прыгающего голоса среди этого без роздыху и разгиба дела было жутковато. Ивану Петровичу казалось, что он звучит и рвется не из человека рядом, давящегося дымом и жаром, а из самих стен. И после, в течение долгого и горячего вечера, перешедшего потом в ночь, когда слышал Иван Петрович голоса, что-то кричащие и сообщающие, чего-то требующие, все чудилось ему, что это стены, земля, небо и берега звучат человечьими словами – чтобы понятно было людям.
Выбив и столкнув вниз последнюю тесину, Иван Петрович оглянулся и огляделся. Пламя позади поднималось высоко, жарко, освещая двор и широкими взмахами отблесков прыгая по крышам ближних домов. По двору молча и ошалело носились ребятишки, у промтоварных складов метались и вскрикивали неузнаваемо озаренные, точно сквозящие фигуры, выплясывающие возле огня какой-то стройный танец. Там огонь тем был страшен, что он выфукивал из-под крыши длинными яркими языками, заставляя людей, и правда, как в танце, отступать и снова наступать: «А мы просо сеяли, сеяли… А мы просо вытопчем, вытопчем».
Но набегало уже и начальство. Рядом с начальником участка посреди двора размахивал руками и все тыкал ими куда-то в сторону поселка главный инженер леспромхоза Козельцов. Борис Тимофеевич, слушая и не слушая его, подавал кому-то знаки, которые могли означать только одно: еще, еще… И вдруг, увидев прущий во двор трактор, кинулся ему навстречу.
Народу было густо, сбежался едва не весь поселок, но не нашлось, похоже, пока никого, кто сумел бы организовать его в одну разумную твердую силу, способную остановить огонь.
Избы и дома поселка, далеко осиянные заревом, по которым оно ходило с пугающим смотром, боязливо вжимались в землю. Иван Петрович, примериваясь, далеко ли, отыскал глазами крышу своей избенки и вспомнил: багор, который мог бы здесь пригодиться, лежит на сенцах, он сам два дня назад, когда вытаял снег, затолкал его туда.
4
Неуютный и неопрятный, и не городского и не деревенского, а бивуачного типа был этот поселок, словно кочевали с места на место, остановились переждать непогоду и отдохнуть, да так и застряли. Но застряли в ожидании – когда же последует команда двигаться дальше, и потому – не пуская глубоко корни, не охорашиваясь и не обустраиваясь с прицелом на детей и внуков, а лишь бы лето перелетовать, а потом и зиму перезимовать. Дети между тем рождались, вырастали и сами к этой поре заводили детей, рядом с живым становищем разрослось и другое, в которое откочевали навеки, а это – все как остановка, все как временное пристанище, откуда не сегодня-завтра сниматься. И, слыша по ночам работу электростанции, круглосуточно постукивающей машины, чудилось Ивану Петровичу, что это поселок, не глуша мотора, держит себя в постоянной готовности.
В поссовете висела схема поселка: прямые улицы, детсад, школа, почта, контора леспромхоза и контора лесхоза, клуб, магазины, гараж, водокачка, пекарня – все, что полагается для нормальной жизни, все, как у людей. Улицы действительно были прямые и широкие, в свое время линию, по которой выстраивались избы, соблюдали строго. Но в том и остался весь порядок: эти широкие не по-деревенски улицы разбиты были тяжелой техникой до какого-то неземного беспорядка, летом лесовозы и трактора намешивали на них в ненастье грязь до черно-сметанной пены, которая тяжелыми волнами расходилась на стороны и волнами потом засыхала, превращаясь в каменные гряды, а для стариков – в неодолимые горы. Каждый год поссовет собирал по рублю со двора на тротуары, каждый год их настилали, но наступала весна, когда надо подвозить дрова, и от тротуаров, по которым волочили и на которые накатывали кряжи, оставались одни щепки. За лето наготовить новые не удосуживались, летом всем не до того, «тротуарная» бригада выходила под зиму, в девственно новом и редко тронутом чьим шагом виде лежали они три-четыре месяца под снегом до февраля, до марта – и опять бессмысленно гибли под гусеницами тракторов и тяжестью неразделанного леса. А часто на них, на остатках этих тротуарчиков в три доски, его и разделывали – и пилили, и кололи. И никакие ни указы, ни наказы не помогали.
И голо, вызывающе открыто, слепо и стыло стоял поселок: редко в каком палисаднике теплила душу и глаз березка или рябинка. Те же самые люди, которые в своих старых деревнях, откуда они сюда съехались, и жизни не могли представить себе без зелени под окнами, здесь и палисадники не выставляли. И улица ревела и смотрела в стекла без всякой запинки. И тоже никакие постановления об озеленении толку не давали. Или уж верно: вырубая каждый год сотни гектаров тайги, распахивая налево и направо огромные просторы, не с руки и не с души прикрываться кустом черемухи от сквозного ветра и сквозного вида. Чем живем…
Одно слово: леспромхоз – промышленные заготовки леса. Этим многое из непорядка и неурядства в устройстве и объяснялось. Лес вырубать – не хлеб сеять, когда одни и те же работы и заботы из сезона в сезон повторяются, и сколько ни живи, все будет для хлеборобного дела мало. А лес выбрали – до нового десятки и десятки лет. Выбирают же его при нынешней технике в годы. А потом что? А потом собирайся и кочуй. Оставив домишки, стайки и баньки, оставив могилы с отцами и матерями и собственные прожитые лета, на лесовозах и тракторах туда, где он еще остался. А там начинай все сызнова. Проплывая летом по воде и проезжая зимой по льду мимо Березовки, Иван Петрович всякий раз с невольной тоской и растерянностью смотрел в ее сторону, на заколоченные и оставленные избы: стоял вот так же леспромхоз, отработал и ушел – и ни одной живой души в покинутом поселке, лишь осатаневшие туристы, пуская дым в двери, разжигают в домах костры.
Та же судьба рано или поздно ждала и их. Ее, как могли, оттягивали, но не бесконечно же… Свою древесину – со своих наделов они сняли еще семь лет назад. Отвели участок за Ангарой. Через пять лет, что только можно было, выбрали и там. После этого вплотную встал вопрос: быть или не быть поселку? Решали в районе, в области, в управлении и вырешили – быть. Снова пошли по своим старым наделам, по вырубкам, но если прежде брали только деловую древесину, только сосну и лиственницу (было время – травили березу и осину ядохимикатами, чтоб не засоряли леса), то теперь вычищали под гребенку. И техника пошла такая, что никакого подроста после себя не оставит. Тот же самовал, чтобы подобраться к кубатуристой лесине, вытопчет и выдавит вокруг все подчистую.
И этой работы «под гребенку» хватит года на три, на четыре. А дальше? А дальше, говорят, как на отхожий промысел в старину, будут уезжать бригады за десятки километров на долгие смены и, отработав, наведываться домой на отдых. Производственную и домашнюю жизнь разделят на вахты: неделю ты принадлежишь леспромхозу и неделю – семье. Строго по графику. Никаких взаимопроникновений, как ныне, одной жизни в другую.
И быть тому.
Да и как не быть, если другого дела здесь нет. Поля и луга, которыми когда-то жил народ, со строительством гидростанции затопили – и остались леса.
И вот на схеме в поссовете клуб, а клуб этот уже двадцать лет размещается в общественной бане, вывезенной из одного из старых поселков. Надо бы строить новый, но как строить, если наперед до самого последнего времени ничего не было видно. На схеме – детсад, а он не действует: неизвестно было, стоит или не стоит его ремонтировать. И стало известно – не торопятся. За эти планы никто ни с кого не спрашивает.
И как тут выглядеть поселку красивым – да еще в зареве пожара?!
5
Иван Петрович спрыгнул вниз и побежал к тому месту, где он только что видел начальника участка. С Борисом Тимофеичем пять дней назад они разругались вдрызг, когда начальник участка отказался подписывать его заявление об увольнении, но Иван Петрович знал, что если и может кто сделать тут теперь что-то, так это лишь он, начальник участка. Ни главный инженер, взятый полгода назад из соседнего леспромхоза с должности инженера по технике безопасности, ни директор леспромхоза, окажись он здесь (но его не было, он уехал на совещание), ни его заместители – никто, кроме Бориса Тимофеича, иссволочившегося на этой работенке, горячего пожилого человека, считающего оставшиеся до пенсии дни. Мало с кем жил он в ладах, как и с ним мало кто ладил, бегал злой, мог без разбору накричать, без разбору же мог похвалить кого попадя, но все это было в нем как дымовая завеса, которая сбивала с толку лишь новичков, не знающих хорошо Бориса Тимофеича. А кто знал, тот на минутные несправедливости и крики его не очень обращал внимание, помня, что Борис Тимофеич Водников – мужик свой, внутри себя твердо разбирающийся, кто есть кто и что есть почем, и дело свое по возможности правящий как следует. С первого дня, только построился поселок, был он, не прибавляя и не убавляя в должности, начальником участка, и уже одно это о нем, человеке, далеко не высшего образования, говорит, что без него обойтись не могли. А управляться с центральным участком, на глазах леспромхозовского руководства, которое во все встревает и ни в чем себе не отказывает, ох как непросто!..
Иван Петрович видел, что, завернув трактор с нетрезвым трактористом, Борис Тимофеич пошел к куче посреди двора, куда стаскивали спасенное от огня добро из складов. Но теперь его там не было. Иван Петрович тупо смотрел на кучу: широко разбросанные валенки, словно второпях поскидывали их те, кто прибежал на пожар, школьные портфели и связанная тюками школьная форма, шерстяные платки, ватные брюки, коробки с чем-то, чуть поодаль – наваленные друг на друга мотоциклы «Ява» и действительно «Урал» с обгоревшей люлькой. Да, спросят мужики с начальника ОРСа за этот «Урал», крику будет. Что вообще будет с начальником ОРСа после пожара? И, ничуть не сомневаясь, Иван Петрович вскользь усмехнулся своей наивности: выкрутится. Эти нигде не пропадут, им любое море по колено.
– Иван! Иван! – услышал он вдруг голос Алены. Она подбежала с коробками в охапке, подбежала бегом, но коробки опустила на землю осторожно, выбирая, где почище и посуше. – Иван, это че ж делается-то, а?! – голос ее был возбужден и поднят до какой-то запальчивой веселости, неестественно округленные, ошалевшие глаза казались дикими. – Этак все сгорит! А там чего только нет! Мы почему, Иван, такие-то?!
И, не дожидаясь ответа, он и не нужен ей был, развернулась и, мелконько, немолодо переваливаясь с боку на бок, словно соступаясь с каждого шага и на каждом следующем шаге быстро подхватываясь, заторопилась обратно. Иван Петрович с минутным вниманием посмотрел ей вслед, но настолько все смешалось в голове, настолько шарики зашли в нем за ролики, что он чуть было не подумал: «Кто это? знакомая какая-то!» – но успел оборвать себя, заставил себя узнать Алену, заметить, что не надо бы бабе носиться как угорелой, и тут же забыл о ней.
Он увидел Бориса Тимофеича. Но прежде услышал, как тот кричит, и по крику отыскал его в освещенной и странно, почти неподвижно застывшей толпе возле первого от угла продовольственного склада. К подскакивающему то и дело голосу начальника привыкли, но это был крик сумасшедший и потому неразборчивый. По ответу, отчетливому, хоть и тоже на парах – всех разогрел огонь, – Иван Петрович понял, что перед начальником Валя-кладовщица.
– Не буду! – запальчиво отвечала она. – Тушите. А открывать не буду.
– Сгори-и-ит! – мать-перемать.
– Тушите. Я маленькая, что ли, не вижу, что ли, как тащат у Клавки! Все тащат. А у меня там больше чем на сто тысяч. Я где их потом брать буду?! Где?! Где?!
– Сгори-ит! – надрывался начальник.
– Тушите. А открывать, чтоб растащили, я не обязана. Тушите.
Она зарыдала.
Иван Петрович кинулся было к начальнику, но тот сам повернул к нему. Не к нему, а к вороху из промтоварных складов, возле которого по-прежнему кружил Иван Петрович. За начальником, предчувствуя приказание, держалось несколько фигур из архаровцев, как называли в поселке бригаду оргнабора. И верно, не дойдя до вороха шагов пять, Борис Тимофеич крикнул, не оборачиваясь, зная, что его услышат и поймут:
– Ломайте!
Архаровцы кинулись обратно: эта работенка была по ним.
– Где Качаев? – в сторону Ивана Петровича закричал Водников. – Какого черта-дьявола?! – мать-перемать. – Это его склады. Где его носит?!
Качаев – начальник ОРСа. Борис Тимофеич лучше любого другого знал, что Качаев два дня назад вместе с директором леспромхоза уехал в город на очередное заседание. Да, растерялся и он, Борис Тимофеич, иначе не кидался бы с горлом да с кулаками на тень. И растеряешься, себя не сыщешь, не то что Качаева: такого еще не бывало.
И, взглянув на его черное и сухое, как обожженное, лицо с сильно обострившимся носом и вжатыми внутрь щеками, Иван Петрович напрочь забыл, зачем ему нужен был начальник участка, для чего он его разыскивал, и сказал то, что требовалось сейчас прежде всего:
– Ты, Тимофеич, поставь дядю Мишу Хампо в воротах. И сторож пускай встанет, это его дело. Но Хампо обязательно. Он здесь. Я его только что вон там, справа, видал.
Водников кинулся в ту сторону, куда показал Иван Петрович, даже не обернувшись к нему, даже и не поняв, быть может, что действует он по совету, а не по собственному решению. Иван Петрович видел, как он отыскал Хампо и, на ходу объясняя, что от того требуется, торопливо повел его к воротам. Дядя Миша Хампо с высоким запрокидом и низким поклоном размашисто закивал в ответ крупной седой головой, уже вглядываясь в толпу возле огня и отмечая людей, за которыми потребуется особый надзор. Конечно, там дядя Миша будет на своем месте, на Хампо положиться можно. Валя-кладовщица знает, что говорит. А сейчас, когда откроют продовольственные склады…
И точно – со скрежетом загремели выдираемые засовы, отчаянно запричитала Валя, совершенно обезумевшая от свалившейся беды, не видящая спасения ни в чем – ни в том, разумеется, чтобы ее хозяйство сгорело под замками, ни в том, чтобы оно было вынесено. Открыли одни двери, другие, с третьих, где засов не поддавался, сбивали огромный замок топором. Архаровцы действовали быстро и ловко – будто всю жизнь только тем и занимались, что ломали запоры. Иван Петрович, подбегая, столкнулся в распахнутых дверях крайнего правого помещения с одним из них, с Сашкой Девятым (Девятый фамилия, а не прозвище, у архаровцев, у которых все вверх ногами, и людские фамилии через одну), и Сашка, веселый, вдохновенно распаренный, хлопнул его с хитрым подвертом по плечу, так что Ивана Петровича на ходу развернуло к нему, и лихо, почти дружелюбно прокричал прямо в лицо:
– Не сюда. Не сюда, гражданин законник. Сгоришь – кто нам будет права качать?!
Они, познавшие режимную жизнь или подражавшие тем, кто познал ее, звали его гражданином законником. Он и к этому привык. Время, что ли, такое: ко всякому приходится привыкать, о чем еще недавно нельзя было и помыслить.
К тому, например, что и сама земля уходит из-под ног. Как это в буквальном виде случилось у них и с ними.







