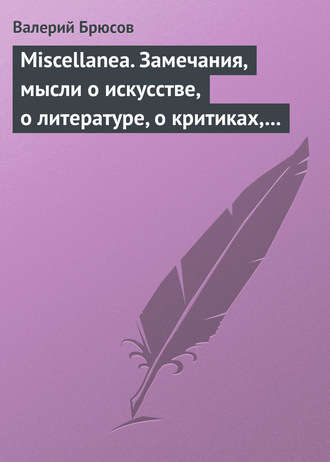
Валерий Брюсов
Miscellanea. Замечания, мысли о искусстве, о литературе, о критиках, о самом себе
VIII
1
«Непонятность» поэтического произведения может (для данного читателя) происходить от разных причин.
1) Поэт может говорить о «малоизвестном». Понятие «мало» – растяжимое. Что для одного «малоизвестно», другой знает чуть не с пеленок. Человеку совершенно необразованному будут непонятны стихи Пушкина, в которых есть намеки на факты исторические. Человеку мало культурному будут непонятны стихи Тютчева, потому что нужен известный навык, известная школа, чтобы понимать утонченную лирику. Нашим критикам непонятны намеки Вяч. Иванова на некоторые античные мифы.
Кто установит границы, что именно поэт должен считать за известное читателям? Правильнее считать, что одни создания поэзии доступны широким кругам читателей, другие – более узким, но о художественной ценности этих созданий судить по этому признаку нельзя никак.
2) Поэт может говорить о фактах, известных лишь небольшому кругу лиц или даже ему одному: это встречаем мы в созданиях узко интимных. Таковы, например, иные стихи Мюссе, Фета, Верлена. Такие стихи непонятны без биографического комментария. Но, в сущности, почти каждое лирическое стихотворение такого комментария требует. Мы гораздо больше понимаем, например, любовную лирику Пушкина, когда знаем обстоятельства, вызвавшие то или другое стихотворение. Эта непонятность опять не имеет никакого отношения к художественной ценности поэтического произведения. Дело поэта – лишь обсудить, какие стихи стоит печатать, не давая к ним нужного комментария. Да и то, почему он должен заботиться об том, чтобы его все поняли теперь же? Он отдает свои стихи читателям, и уже дело критиков (истинных) и биографов (будущего) сделать их «понятными» читателям.
2
В моей повести XVI века «Огненный ангел» появляются Фауст и Мефистофель. Все, что они делают и говорят, совпадает с тем, что рассказывает о Мефистофеле и докторе Фаусте Иоганн Шпис, написавший об них книжку в 1557 г. Довольно естественно, что Шпис, живший в XVI веке, изобразил своих героев людьми XVI века, со всеми особенностями мышления и понятий того времени. Нашелся, однако, такой критик (Георгий Чулков), который стал упрекать Мефистофеля «Огненного ангела» в том, что речи его недостаточно умны, что Мефистофель Гете – умнее. Неужели критик был не осведомлен, что Гете писал «Фауста» в конце XVIII и начале XIX века?
3
В одном из своих стихотворений я говорю:
Я долго жизнь рассматривал и присматривался к ней…
Из этих наблюдений над жизнью меня особенно интересовало изменение отношений ко мне различных лиц в зависимости от изменения моего положения в «свете» как человека и в особенности как писателя. Случалось, что лица, прежде относившиеся ко мне с высокомерной снисходительностью, а то и с явным пренебрежением, начинали заискивать передо мной, и те, кто когда-то презрительно высмеивали мои стихи, потом уверяли меня в своей особенной любви к моей поэзии. Бывало и наоборот: мои «поклонники» от похвал (иногда и печатных), от которых мне порой делалось не то что неловко, но прямо совестно, – с переменой обстоятельств обращались в лютых критиков моих стихов. Тот, кто писал, что я «должен быть признан первым русским поэтом наших дней», спустя три года заявлял, что я «а-поэт», совсем не поэт, не только не первый, но даже не из последних, менее поэт, чем они… Конечно, убеждения меняются, но, во-первых, такие скачки похожи не на смену убеждений, а на выворачивание перчаток, а во-вторых, любопытно, что смены эти всегда совпадают с моим отношением к какому-либо литературному предприятию. Для иных я перестаю быть «первым поэтом» и становлюсь «а-поэтом», когда перестаю редактировать журнал или прекращаю ежемесячные критические обозрения в каком-либо издании…
4
Борис Садовской спросил меня однажды:
– В. Я., что значит «вопинсоманий»?
– Как? что?
– Что значит «вопинсоманий»?
– Откуда вы взяли такое слово?
– Из ваших стихов.
– Что вы говорите! В моих стихах нет ничего подобного.
Оказалось, что в первом издании «Urbi et Orbi» в стихотворении «Лесная дева» есть опечатка. Набор случайно рассыпался уж после того, как листы были «подписаны к печати»; наборщик вставил буквы кое-как и получился стих:
Дыша в бреду огнем вопинсоманий.
В следующем издании книги – в собрании «Пути и перепутья», я, разумеется, исправил этот стих, и в нем стоит, как должно: «огнем воспоминаний», но до сих пор я со стыдом и горем вспоминаю эту опечатку. Неужели меня считали таким «декадентом», который способен сочинять какие-то безобразные «вопинсоманий»! Неужели до сих пор какие-либо мои читатели искренне думают, что я когда-нибудь говорил об «огне вопинсоманий». Стыдно и горько.
Мораль: прочитывай «чистые листы» печатаемой книги.
5
Когда мне становится слишком тяжело от слишком явной глупости моих современников, я беру книгу одного из «великих», Гете, или Монтеня, или Данте, или одного из древних, читаю, вижу такие высоты духа, до которых едва мечтаешь достигнуть, и я утешен.
6
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь…
Я этот последний стих Пушкина принимаю буквально. Я верю, что Пушкин реально плакал, плакал слезами «над вымыслом». Ибо я сам слишком хорошо знаю эти слезы над книгой… о, конечно, наедине, в своем кабинете, когда дверь хорошо заперта.







