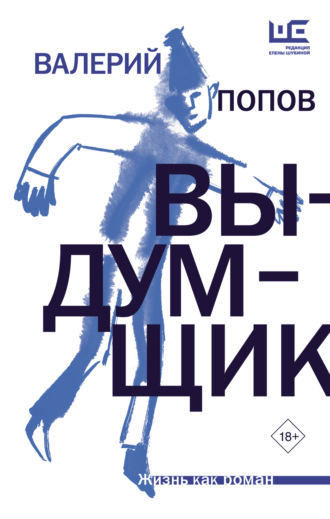
Валерий Попов
Выдумщик
Жадно пихаем лоскуты под рубаху.
– Атас! – у кого-то первого не выдерживают нервы, и мы бежим. И последним в щель почему-то всегда вылезаю я. Пропускаю других? А я как же?.. Горестная зарубка на всю жизнь.
В своем дворе стремительно расходимся, закрываемся дома и только тут с колотящимся сердцем озираем добычу. Это – куски мягкой технической байки, порезанной на полоски, но главное, что пьянит, они – совершенно невероятных, недопустимых в наше время расцветок – и это страшно волнует! Нежно-лимонный (никогда не видел такого), слегка даже постыдный розовый, недопустимого оттенка бледно-зеленый. Не может быть такого в нашей стране! И вот – мы собираемся в таких «шарфиках» выйти! Страх – и неодолимое желание сделать это. Вытаскиваю их с нижней полки шкафа. Чувствую, что это не только против порядка, но и разума: голова идет кругом! Спускаюсь. Молча объединяемся во дворе, но идем по темным улицам как бы каждый сам по себе. «Стяги» наши еще за пазухой, не на шее – на шею рано! По этим улицам так не ходят. Но – Невский! На Невском можно, чего нигде больше нельзя, – и хотя здесь легче всего и получить наказание за свою дерзость, «на миру и смерть красна»! Сколько диких фигур отразилось тогда в тусклых зеркалах на углу Невского и Литейного – фигур страусиной походки и павлиньей окраски. Откуда бралось? Тоже со свалок. А вот и мы! В ближайшей к Невскому подворотне наматываем на шеи свои стяги-кашне, выходим на Невский, идем дерзко, неуверенно, развязной, но робкой стаей. Косимся на встречных… Никто даже не смотрит на нас! Отчаяние!
Помню, как я уже один (видно, азарт оказался сильнее, чем у других) иду через Аничков мост. Ветер вышибает слезы… Но зато – я запомнил этот миг навсегда. Потом, через много лет, я прочел стихотворение Бунина, то же самое состояние, то же место:
И на мосту, с дыбящего коня
И с бронзового юноши нагого,
Повисшего у диких конских ног,
Дымились клочья праха снегового…
Я молод был, безвестен, одинок…[1]
Бунин, будущий нобелевский лауреат, уже видящий и чувствующий все так остро, уже знающий о своей исключительности, никем не оцененной, был вот здесь так безвестен и одинок. Как ты!
В ранних (послевоенных) классах сначала все были одеты кто во что, и вдруг откуда-то пришла первая мода – вельветки. Откуда? Почему? Никаких рулонов вельвета в магазинах не наблюдалось. Но понятие утвердилось. «Бабушка, сшей мне вельветку!» – звучало тогда во многих коммуналках. «А что это?» Ну, как объяснить?!.. Вельвет вовсе не обязателен. Главное – это должна быть куртка на молнии, чтобы можно было, играя, приспускать молнию, потом снова подтягивать – и снова, когда захочется, приспускать… Свобода! И еще пожелание – не тот черный тяжелый материал, из которого тогда шили все… Легкость – вот что манило. Нечто подобное и нашла моя бабушка на рынке. Смотрю фотографию третьего класса – все в курточках на молнии! Мода была всегда!
Государство наводило порядок: в старших классах ввели обязательную серо-голубую форму. И жизнь разделила нас на шерстяных и фланелевых. Шерстяная форма сохраняла свои очертания долго, фланелевая быстро превращалась в мятую тряпку, увы! Я сочувствовал фланелевым, но… Помню момент в классе за партой: шерсть натерла нежную шею сзади, но я этим наслаждаюсь, горжусь и даже как-то усугубляю то ощущение, провожу шеей по колючему воротнику снова и снова, смакуя свою принадлежность к «шерстяной элите», диктующую еще и успешную учебу (уж нам ли не справиться с учебой, когда мы так отлично одеты!).
Помню, как мы ехали нашей компанией по Невскому на троллейбусе и говорили о польском кино. И сидевшая напротив благообразная старушка вдруг воскликнула, всплеснув руками:
– Откуда вы, ребята? Я просто любуюсь вами! Настоящие гимназисты, как раньше!
– Спасибо! Вы тоже замечательны! – сказал я.
Жить, не пытаясь улучшить мир, – жить зря. Такие мысли – и пропадают! Мы толпились в школьном дворе после торжественной линейки по случаю окончания учебного года, освободившись непривычно рано. Мысль можно и реализовать! И я подошел к группе самых отпетых одноклассников, которые уже что-то соображали в углу двора.
– А пойдем в Летний сад! – предложил я.
Они офонарели. Уставились на меня. Увидели, наконец! Закончился девятый класс, а дальше – меня переводят в другую школу… Но уйти так, чтобы потом никто и не вспомнил, я не хотел.
– Там лебеди на пруду! – вдруг сказал я, вовсе не будучи в этом уверен.
– Отвечаешь?
– Да!
– Ну, пошли!
Мне кажется, я их отвлек от чего-то важного и идут они только за тем, чтобы потом мне накидать, но уже на законных основаниях. Вот и отпразднуют окончание учебного года!
От Моховой до Летнего сада путь недолог. Но – мучителен. Не я создал этот мир! Почему же я отвечаю за него? Ответишь! А кто же еще? Дураков больше нет.
Конечно, никаких лебедей на пруду не оказалось.
– И где?!
Мне хана. А также и жизни, которую я им обещал. «Так сделай ее! Или хоть – попытайся!» Я нащупал в кармане бутерброд, выданный мне на весь день. Бутерброд плюхнулся посередине пруда – и из крохотного домика на берегу, где и уточке, казалось, не поместиться, выпорхнули вдруг два чуда, два лебедя, и поплыли, отражаясь. Я сглотнул слюну. Прощай, бутерброд. Но я сделал что мог! Миг торжества! И – всё? Конечно, они хлопали меня по плечам, по правому и по левому (ребята они неплохие), но ведь эполеты Преображенского полка от этого на плечах не выросли.
Ну что, кудесник, любимец богов? Доволен? И так теперь – каждый день? Бутербродов не напасешься! Волнение почему-то нарастало.
Я свернул к себе на Саперный и вошел в другой мир. Стало вдруг очень жарко, возник нежный туман, и все стало необычным. Звуки доходили глухо, словно издалека. Я попал в какое-то волшебное царство! Жара нарастала, жгло мочки ушей. На лестнице показалось холодно, меня колотило. Что это? Где я? Горький вкус во рту. В прихожей стояла женщина, похожая на маму. Она положила мне на лоб ледяную руку.
– Э-э-э! Да у тебя температура! – глухо, словно сквозь воду, донеслось.
«Может, из-за температуры я так и начудил?» – подумал я.
2
– Да не так это делается!
От такой фразы я очнулся. Я ничего еще не делал – и уже что-то «не так»! Усмехаться, оказывается, больно. Губы, видимо, воспалены и потрескались и, кажется, кровоточат. Больница! Отсюда и голоса. Неприятные. Осторожно открыл глаза. Унылое однообразие, ряды стриженых голов. Обладатель ближней головы в каких-то шрамах и струпьях, видимо, и есть тот, кто знает, как это делается, причем – всё! Мудрейший! Голован!
– Дай! – он взял у соседа банку сгущенки, которую тот пытался расковырять тупым ножом, и поставил себе на тумбочку. – …Жди! – он нагло захохотал. – К нам на Шкапина придешь – голым уйдешь!
«Какой же идиот к тебе на Шкапина пойдет?» – еще подумал.
Но оказалось – я. Зачем? Об этом и речь! Шестнадцать лет – и надо куда-то двигаться.
В палате был странный обычай. Часть ужина – два ломтя хлеба и два кубика масла – все приносили сюда и, сделав бутерброды, пировали здесь. Я бы сказал, «бездуховно общались». Я, увы, не принимал в этой «масленице» участия. Мама не положила в котомку нож, и я, отвернувшись к стене, глотал хлеб отдельно, а масло отдельно. Оно казалось соленым. Слезы? Давно я не плакал. Сильно ослаб. Долго не поворачивался: пусть слезы высохнут. И так продолжалось неделю! Но однажды (силы, видимо, появились) я, повернувшись к публике, положил два куска масла на ломоть хлеба, придавил другим и нацелил это двухэтажное сооружение в рот. И был наконец-то замечен.
– Гляньте! В двойном размере жрет! Во буржуй!
– Эй! «В двойном размере»! Куда пошел! Дай укусить!
– Стой, двухэтажный! Не уйдешь! – мне перегородили дорогу.
Вот он, миг славы, а точней – позора!
– Ша! – рявкнул голован, и все застыли. – Геть отсюда!
Сатрапы, отталкивая друг друга в дверях, исчезли. Пришло, значит, и мое время. Что покажет?
– Наблюдаю тебя, – заговорил он (худой парень лет шестнадцати). – Удавишься, но не попросишь! На!
Он протянул мне символ власти – финку с наборной ручкой из плексигласа разных цветов. «На зоне делают!» – слышал уже его хвастовство.
– Спасибо. Я люблю так! – теперь я уже принципиально пытался запихнуть свое двухэтажное сооружение в горло.
Не воспользовался возможностями. Зато воспользовался он.
– В центре живешь?
– Да, – отложив в сторону свой суперброд (говорить с набитым ртом невежливо), сказал я.
Ну, не совсем в центре, но это неважно. Не будем нарушать ход его мысли. Мыслит – стало быть, существует!
– И все там культурные, вроде тебя?
– Да.
Ну, далеко не все… но возражать снова не стал.
– Проблем больше у тебя не будет! – царственно произнес он.
– Спасибо, – откликнулся я.
«На время болезни? Или – навсегда?» – этот иронический вопрос я, конечно, не озвучил.
– Заметано? Фека! Феоктист! – он протянул мне костлявую руку, и я ее пожал. – Между нами, пацанами, – доверительно произнес он.
– Валерий, – сказал я. – Со своей стороны… что смогу! – я растрогался.
– …Какие погоны к нам зашли! – вдруг восхищенно воскликнул он.
Чтобы все услышали? И они услышали.
Я действительно кудесник! Возле двери стояла мама, озираясь, и с ней – какой-то уютно-кругленький, сияющий улыбкой и лысиной военный, сияющий еще и погонами.
– Так вот же Валерка! – воскликнул он, и они с мамой кинулись ко мне.
– Помнишь меня? – сиятельный гость тряс мне руку. – Вася Чупахин.
– А, вспомнил: вы в командировку к нам приезжали!
– Ну вот, а теперь уезжаю. Хочу забрать отсюда тебя.
– Мы вместе, нет? – Фека трагично посмотрел на меня.
Чупахин перевел взгляд на Феку.
– Шашерин Феоктист! – солидно отрекомендовался он.
– Мой друг! – произнес я.
Честность тогда зашкаливала. Он мне помог, вернее – собирался. Уже хорошо! Нельзя такое отбрасывать.
– Друга – берем? – спросил Вася.
Я, помедлив, кивнул. Мерить в граммах, кто кому больше сделал добра?
– Да.
– Тогда пошли.
И высокий гость маленького роста зашел в высокую стеклянную дверь, к главному врачу, и оттуда слышались то веселый разговор, то хохот. Так он, видимо, всех и покорял.
– Приезжайте к нам – примем лучшим образом! – доносилось до нас.
Хозяин кабинета проговорил что-то тихо, и Чупахин захохотал.
– Ты узнаешь его? – с гордостью произнесла мама. – Васька Чупахин – мой старый друг. Он сейчас главный врач крупного военного санатория в Сочи. Он хочет тебя… – но, глянув на моего друга, она осеклась, заговорила о другом: – Инфекционный период уже прошел. Но тебе собираются рвать гланды. А гланды, как недавно открыли, рвать нельзя. Гланды – фильтр, на них микробы оседают. А тут – по старинке!
– Кровью захлебываемся! – с блатным надрывом произнес Фека.
– Ну… не преувеличивай! – засмеялась мама.
– Ну вот, орлы, все в порядке! Уходим! – появился Чупахин. – И тебя выписали! – сказал Феке.
– Куда? – дерзко произнес Фека.
– На кудыкину гору! – засмеялась мама. – А тебя, – повернулась ко мне, – Вася хочет забрать…
Остановилась.
– Домой иди! – скомандовала Феке мама.
– Не… – развалился он на скамье. – Я друга подожду!
Мертвой хваткой вцепился. Чупахин, весело прищурясь, смотрел на него.
– Ты тоже, что ли, хочешь с нами поехать?
– Не пожалеешь! – изрек Фека, уже панибратски.
– Ну тогда… – продолжал размышлять Чупахин. – Если на билеты до Сочи наберешь…
– Решаемо! – произнес Фека.
Как он «решит», я догадывался. Да и мама с Чупахиным раскусили его… Так что же происходит?
– Тогда давай! Жалко, что ты, Алевтина, с нами не едешь! – обратился Василий к маме.
– Так ты и не зовешь! – произнесла мама кокетливо.
И долго еще была весела и оживлена, как бы вернувшись в молодость.
– Ты решил, я не поняла, кто твой друг? Но ты думаешь, я их боюсь? Да у нас в Казани вся улица блатная была. Молодежь этим даже щеголяла. А я уже была вожаком комсомольской ячейки и помогала им как могла. Комсомольцы тогда смелые были, сразу на помощь бросались, не боялись ничего!
Глянула на меня со вздохом: мол, ты не такой, неизвестно какой… Сделал что мог!
– Васька Чупахин, кстати, тоже из них! – нежно улыбнулась она. – Так что – продолжай, сын, благородное дело!
– Есть!
Проблем не будет! Точнее – начинаются.
Если бы сейчас спросили, где я хочу жить, я бы ответил: там. И – тогда. Тенистое место (что так ценно на Юге!) возле административного корпуса военного санатория в Сочи. Просторная прохладная комната во флигеле на втором этаже, тоже темноватая из-за нависших ветвей. Утром я просыпался, видя прямо перед собой за окном цветок олеандра среди блестящих и крепких темно-зеленых листьев, похожий на разрезанное на четыре части крутое яйцо – дольки желтка, окруженные «лепестками» белка. Но если разрезанное крутое яйцо бьет сероводородом, то тут запах был сладчайший, я бы сказал – томный. Позавтракав внизу, в кухне, я выбегал на площадку перед домом. Фека и Лёня-курсант, племянник Чупахина, играли в шахматы огромными фигурами. В каждом советском санатории тогда почему-то были шахматы-гиганты. И, бодро крикнув что-нибудь вроде: «Ходи конем!» – я убегал по «темным аллеям». И только возле больных на костылях вежливо притормаживал.
Штормило всегда! Огромные прозрачные горы сжирали длинный бетонный мол, потом, разлившись по берегу, отступали, с грохотом катя с собой гальку. Пауза… и опять – оглушающий грохот! Какие-то акробаты прыгали с мола прямо в надвигающуюся волну, потом их выбрасывало, кувыркая, и они, хохоча и вытирая одной рукой лицо, а другой упираясь в склон, съезжали с грохочущей галькой в море. И это было не слабо – пока я не нашел свое.
За мысом было райское местечко! Ветер туда не доставал, и волны – тоже. Буйство тут было задавлено бетонными глыбами, белыми, но с ржавыми крюками, цепляя за которые их и кидали сюда… И теперь тут была сладкая тишь. Ароматы цветов долетали с крутого берега. Между глыбами были лишь небольшие пространства ярко-синей, прозрачной, тихой воды. Вот где можно было ею насладиться, медленно плавая, видя красивое дно с подвижной солнечной сетью на нем. И, главное, на одной из нагретых солнцем, наклонно уходящей в прозрачную воду глыб сидела она – загорелая, длинноногая, стройная, с волной волос, сбегающих по спине, и голубыми глазами, скромно опущенными. Иногда она падала и плыла – в метре от меня! Ноги божественно преломлялись в воде… А я тут плюхнусь, как бегемот! Нет… Хотя, казалось, не было ничего естественнее. Жизнь бы могла иначе пойти! Я уже мысленно прожил нашу сладкую жизнь, на солнечной террасе…
«Ход конем» сделал Чупахин. Однажды, когда я выбежал с кухни, он оказался рядом, словно ждал. И покатился, как колобок, рядом. «Купаться?» – «Да!» – «А эти, гляди, не идут!» – усмехнулся он. Движения их уже были замедленными. Его племянник Лёнька стоял, держась за корону белого шахматного короля, направив на нас счастливый, но неподвижный взгляд.
– Разрешите доложить! Всё путем! – язык у Феки заплетался, но – плел.
Чупахин вдруг схватил высокую королеву за горло и поднял. Фигуры оказались полыми и без дна – иначе бы их было и не поднять. Но королева была не совсем полая. Под ней стояла наполовину пустая бутылка портвейна. Чупахин весело глянул на Феку и поставил королеву обратно.
– Ну что, старый фармазонщик? – усмехнулся он. – Все в «куклы» играешь? Боишься квалификацию потерять? Вы бы хоть на пляски сходили!
И укатился. Я, честно говоря, остолбенел. Куклы? Лихорадочно соображал. «Кукла» – воровской термин: когда снаружи одно, а внутри – другое. Королева – «кукла»!
Фека вцепился в меня.
– Сдал, да?
Надо парировать удар.
– Ты сам прокололся, чудила! Не просек! – я кивнул в сторону Чупахина, который удалялся по аллее, попадая то в свет, то в тень. Фека застыл.
– То-то я гляжу, ботает грамотно! – произнес восхищенно.
У каждого радость – своя.
– Тогда кумекай – зачем пригласили тебя!
– На пляски, что ли, Лёньку отвести? – произнес друг деловито.
– Точно! – и я умчался.
Именно в этот, последний день, я назначил, наконец, ей свидание. Специально просчитал так, чтобы глубоко не влипать. Я все же бултыхнулся рядом с ней, и мы договорились. Свидание, честно, прошло так себе: мы полночи боролись с ней на осыпающемся глиняном склоне. Меня отвлекали, видимо, угрызения совести, лишая уверенности. Я все представлял, как Фека, один, тащит тяжелого, словно памятник, Лёньку. Душой был там. И телом, видимо, тоже. Лучше было бы Лёньку волочить! Расстались с ней сухо. Но зато – только мой физический (и, видимо, моральный) облик Чупахин одобрил:
– Вот ты, Валерка, отлично отдохнул, молодец! А вы, шахматисты… – Чупахин насмешливо глянул на них. – Словно и не отдыхали.
Лёня виновато вздохнул.
– Работали! – хмуро проговорил Фека.
3
Батя мой, как-то не особо заморачиваясь неинтересными проблемами, «творил свои сорта» в Суйде под Гатчиной – и вдруг до него донеслось, и он примчался.
– Алевтина! Валерка что – больной?
– Спохватился! – усмехнулась мать.
– Давай в Суйду его возьму, отдохнет!
– После Сочи – что ему твоя Суйда? Картошку окучивать? Внуку академика?
Я смутился.
– Я готов.
Хоть в тундру – лишь бы не обидеть никого. Тем более – родителей. И батя мне сразу же, в день приезда в Суйду, заявил (любил яркие идеи), что именно здесь, в старом здании, единственном сохранившемся из имения Ганнибала, где находился теперь отцовский кабинет, был зачат Пушкин! По датам все сходится! «Шутоломный» – как говорила о нем бабушка. Решил батя заняться просвещением сына. Шестнадцать! Уже пора. Фантазер еще тот. Весь в меня. Но с того ли начал? Я был полон иронии.
Однако он уже забыл про меня и жадно поглядывал на стол свой с бумагами.
– Чего делать тебе? – приостановившись, спросил. – Ну… в кино сходи!
И зарылся в очередную статью.
Кино? Тут он обмишурился как педагог. Кино никто не смотрел. «Кина не надо! Ты свет гаси!» И темный зал прерывисто задышал. Считают, видимо, что раз они трудятся, имеют право и отдохнуть. С размахом! Рук! И ног. Шорохи, шепоты: «Не надо!» – «Да подожди ты! Дай я сама!» Кто-нибудь, интересно, смотрел на экран? Совсем теряли стыд – к моему восторгу… Интересное кино!
Вернулся я оживленный. Батя на минуту переключился на меня:
– Ну что? Поживешь?
– Да!
– Тогда, может, и поработаешь тут? – обрадовался он.
– Можно, – согласился я.
Кто работает, тот – живет!
И вот я в конюшне. И ароматы – пьянят! Как будто я тут родился! Или, во всяком случае, был зачат. Как бередят организм запахи прелой упряжи, навоза – словно это было первое, что я вдохнул. Советовал бы парфюмерам сюда заглянуть. Кони гулко бьют копытами в стенки, косятся глазом, тяжко вздыхают: запрягать пришел? Едкий запах их пота, сладкий аромат сена… Рай!
Конюх устроил себе ложе в крайнем стойле – седла, чересседельники, хомуты и прочая мягкая кожаная утварь, брошенная на сено. Одно из уютнейших виденных мной помещений. Живут люди! Разумеется, хозяин лежал, развалясь, одна нога (в кожаном сапоге) привольно вытянута, другая поджата. Кнутом (кожей обмотана и ручка) он похлопывал по ладони. Властелин!
– Чего тебе? А-а. Директоров сынок. Запрягать, что ли?
– Да! – глаза мои, видимо, сияли.
Он надел на плечо хомут, взял чересседельник и остальную упряжь.
– Нравится тебе тут?
– Да!
Он кивнул удовлетворенно. Подошел к высокой белой кобыле с таинственной кличкой Инкакая. Такая вот Инкакая. Белая и могучая. Кося взглядом, попятилась.
– Стоять! – он надел ей через уши кожаную уздечку. – Подури тут мне! – вставил между желтых ее зубов в нежный рот с большим языком цилиндрическую железку, прищелкнул и, не оборачиваясь, повел кобылу за собой. Та послушно шла, стуча копытами по мягкому дереву и шумно вздыхая. Директорский тарантас стоял, выкинув вперед оглобли. Конюх, покрикивая, впятил кобылу между оглобель, хвостом к тарантасу, кинул на ее хребет чересседельник.
– Ну – запрягай! – он с усмешкой протянул мне хомут.
– А… – я застыл.
– Ну, тогда смотри!
Теперь я умею запрягать лошадь (и, надеюсь, не только лошадь, но и саму жизнь). Хомут, оказывается, напяливается на голову лошади, а потом и на шею, низом вверх, и только потом переворачивается в рабочее состояние.
Отец, хоть и директор селекционной станции, запросто вышел к не запряженному еще экипажу (такой человек) и азартно поучаствовал в процессе, затянув подпругу, упершись в хомут ногой, что сделало вдруг все сооружение, включая оглобли, натянутым как надо, похожим на планер – сейчас полетим! И даже кобыла, словно приобретя крылья, зацокала нетерпеливо копытами и заржала. Отец сел в тарантас (он слегка накренился), протянул руку мне.
– Ну! Давай!
– Какой сын у вас! – восторженно проговорил конюх, подсаживая на ступеньку тарантаса меня.
– Какой? – отец живо заинтересовался.
– Нравится ему тут! – проговорил конюх-карьерист. Хотя какая карьера могла сравниться с его работой? Даже мое бурное воображение отказывало!
Я восторженно кивнул. Отец ласково пошебуршил мне прическу. Я смутился – и он, кстати, тоже. Стеснялись чувств.
– Н-но! – произнес отец с явным удовольствием, и сооружение тронулось.
Мы поехали по полям. Отец держал вожжи, иногда давал их мне.
– Нравится?
Я кивнул. Прекрасные виды на работающих в полях!
Но пришлось слезть с этой высоты. На следующий день в шесть утра отец привел меня «на наряды» – распределение работ – и ушел к себе!
Ко мне подошел бригадир с острым облупленным носом (ну, конечно же, предупрежденный), поглядел, вздохнул.
– Ручной труд предпочитаешь… или на кобыле?
– …Второе! – пробормотал я.
– Второе тебе будет на обед! – усмехнулся он. – Но я тебя понял.
Восторг переполнял меня. Ожидание чего-то. Ловил хмурые взгляды: «Тебя бы сюда на всю жизнь – не лыбился бы!»
В воскресенье я, как прилежный мальчик, директорский сынок, стоял на берегу, над розовой гладью пруда, не отводя глаз от поплавка. В этом пруду (как уверял отец, вырытом еще пленными шведами) ловились даже лини – тонкие, матовые и без чешуи. Самые древние рыбы.
Пахнуло алкоголем. Но я уловил не только алкоголь… что-то из ароматов кинозала. Она! Обычно она была не одна. И очень даже не одна! Но сейчас – с подружкой. Встали вплотную за мной, едва не касаясь сосками моей спины. Даже тепло ее дыхания на шее! Перехихикивались… Но этого мне было мало, чтобы к ним обернуться. Или – слишком много? Все внимание – поплавку.
– Вот с этим пареньком я бы пошла прогуляться, – насмешливо проговорила ударница труда.
– Да ты что? – прошептала подруга. И зашептала совсем тихо, наверное: «Это директорский сынок».
– Ну и что? – грудным своим голосом, во всем его диапазоне, произнесла ударница порока. – Уволят? – добавила вызывающе.
Ей хотелось действий, а я стоял как пень. «Трудный клиент!» – как говорили мы с приятелями несколько позже.
– Встретиться бы с ним на этом самом месте… часиков в шесть! – произнесла она достаточно громко.
И они, хихикая, ушли. Уши мои раскалились. Я еще долго не двигался – вдруг они рядом. Наконец, расслабился, но не настолько, чтобы обрести здравый смысл… Долго, тщательно сматывал удочку – иначе нельзя! Но как ни мотай – от главной темы не отмотаться: «Что это было? В шесть часов? Через час?.. Не может этого быть!» И какова же была у меня сила воображения (при отсутствии воли), что я доказал себе: «Ну конечно же, она назначила в шесть утра! Можно много успеть!»
И я пришел в шесть утра! Хорошо, что она не начертала чего-нибудь на песке! Отправился «на наряды» с чистой совестью.
…Ось катка то и дело забивается грязью, каток (бревно) не крутится, и лошадь сразу же останавливается. Тяжелее тащить. Надо сгрести с бревен лишнее. Бока лошади «ходят». Устала. И вот – демарш: она поднимает хвост, маленькое отверстие под хвостом наполняется, растягивается, и «золотые яблоки», чуть дымящиеся, с торчащими соломинками, шлепаются на землю. Наматывать это на каток мы не будем, иначе этот аромат – и само «вещество» тоже – будут с нами всегда. Уберем вручную с пути. Ну что, утонченный любитель навоза? Счастлив? Да! Можно катиться дальше.
«А у меня есть выносливость!» – понял я.
Тут я дал слабину: съехал с лошадью к ручью – поплескать подмышки, умыть лицо. Ну, и побрызгать на лошадь. Кожа ее, где попадали капли, вздрагивала, она пряла ушами и вдруг заржала. Надеюсь, радостно. Но бревно впялить обратно на бугор долго не удавалось, вспотели с моей кобылой, хоть снова мойся. «Сладкий пот труда. Но двигаюсь не туда!» Этот каламбур я, решившись, сказал вечером отцу.
– И куда ж ты стремишься? – усмехнулся он.
И обнял за плечи. Для него это – максимум. Но я был счастлив. Хоть в грусти сошлись.
– Слушай! – он вскочил. Опять его гениальная идея стукнула. – Смотри!
Он выставил вперед два пальца – средний и указательный, один над другим.
– Вот это – ты! – он провел по среднему пальцу, торчащему горизонтально.
– Ну? – нетерпеливо произнес я.
Не нравится никому, когда его с пальцем сравнивают.
– А вот это, – он провел по указательному, задирающемуся вверх. – Твой друг!
– Какой это друг? – ревниво воскликнул я.
– Ну, неважно. Сначала вы вместе, рядом. Неразлучные вроде бы. Но он уже, – провел по указательному, – постепенно, сначала еле заметно, задирается вверх, поднимается! А ты… – он с гримасой отвращения провел по среднему, который не только шел ровно, а даже свисал – …нет! – безжалостно произнес.
И закончил любимой веселой присказкой:
– Видал миндал?
Веселится!
– А почему это я внизу?
– Хочешь наверху быть? Так поднимайся!
Новая школа! Ближе к дому… И – всё? Или это жизнь дарит подсказки? Ведь последний год. Наблюдая школьную жизнь, сообразил: новому ученику легче преуспеть. Пока есть еще к тебе интерес – и среди учителей тоже… Кто ты? Ответь! Отличник. Оживление в зале. И остается только уроки выучить, делов-то. Батя привел отличный пример: телегу трудно только с места столкнуть, а дальше она катится вроде сама! И ее скорее подтолкнут, нежели остановят: катится весело, глядеть приятно! Поэтому отличникам скорее добавят балл, а двоечнику урежут, если рыпнется. Все должны быть на своих местах. Иначе учителя с ума сойдут! Пока тебя не знают – можно стать любым. Телега жизни катится с веселым грохотом!
Иногда, конечно, тянуло назад. Хулиганы («с прежней школы», как сказали бы они) оказались с нежной душой! Были тронуты, что я именно их вспомнил из всех… но отличников и в новой школе хватало. А у этих… душа! Чуть не начал читать им свои стихи… но некогда было! Мы деловито шныряли в душном зале, освещенном лишь крутящимся шаром с блестками, в тесной толпе танцующих. Клуб фабрики «Лентрублит»! Только для избранных! «Смотри – эта годится?» – «Эта? Полы мыть!» Высокомерно уходим. Дела.
Спускаемся по черной лестнице вниз. «Тут без шухера!» – «Спокойно! – говорю я. – Водка прозрачная, и стаканы прозрачные. Никто и не увидит, что мы пьем!» Усмехаются. Настоящие друзья! Ценят! Не то что эти отличники (взять того же меня, но это – тайна), которые любят только себя. Но здесь я – другой! «Певец в стане воинов». Поэтому должен быть цел.
Что губит некоторых? Мне кажется, завышенные надежды на воздействие алкоголя. Выпил… и ничего. Разочарование. Деньги потрачены. И приходится добирать буйством. Впрочем – кто чем. Неформальный лидер наш, Костюченко, стойкий второгодник, пренебрегший знаниями ради свободы, выпив стакан, тут же окаменел на лестничной клетке. А его верный оруженосец Трошкин продемонстрировал, наоборот, необыкновенную подвижность: выпив стакан, пулей вылетел на улицу (может, подташнивало?) и, описав абсолютно правильный полукруг, влетел в сквер и упал на скамейку. «Подходяще!» – как говорил мой отец.
Убедившись, что с Трошкиным все в порядке, я вернулся к Костюченко. Стоит! И будет стоять! А я, похоже, – свободен!
Выпил ли я мой стакан, хотя ничто вроде бы к этому не принуждало? Да. Иначе все это выглядело бы не спортивно. Вдумчиво выпил. Ну, да. Омерзительно. Но не более того. Ничего трагического (лично для меня) тут не вижу. Мне кажется, большинство людей просто наигрывают, потому как надеются, выпивая, на нечто большее, чем есть.
Я огляделся окрест. Танцы, видимо, на сегодня отменяются. И я пошел домой. Умно, что я учусь в другой школе! А друзей моих буду навещать. Изредка. Прихоть эксцентричного миллиардера. Восторг! Может быть, он частично связан с употреблением алкоголя? Не исключено. Рассмотрим.
– Ты где был? – спросила мама, но не трагически.
Наверное, потому, что никакой трагедии не увидела.
И что-то мне подсказало, что говорить ей правду не стоит.
– В планетарии, – четко ответил я.
– Разве он ночью работает? – усмехнулась мама.
И добавила добродушно:
– Ладно. Иди спи.
И я почувствовал: какую-то проверку прошел успешно. И время от времени ходил к ним и, как ни странно, не стеснялся именно им читать свои первые стихи, простодушно одобряемые.
И все устроилось, жизнь пошла. И вдруг – сверхдлинный звонок в дверь. Но вроде бы зачет по алкоголизму я уже сдал? Пересдача? Открыл. Фека! Зачем? Еще один гость из прошлого? Но он же давал мне подержать свою финку… в трудный момент? Но тот момент уже миновал. Стоп! Он и сейчас может сгодиться… Кстати пришел. Не могу вспомнить, из какого писателя: «Привычно и целеустремленно пьян»? «Не столько приехамши, сколько выпимши!» – как шутили мы с друзьями-отличниками в новой школе. «Не в замше, но зато поддамши». Работа с Лёнькой, видимо, доконала его.
– Я должен… поблаго… дарить… Алеф-фтину Васильевну!
– О! Давай! – я втолкнул его в мамину комнату. – Вот, мама. Пришел поблагодарить.
Фека, уже только кивком, подтвердил свое намерение. Мама, как я и думал, обрадовалась.
– А, Фека! Садись.
И он сел. Кстати – на мой стул. Для меня – табуретка.
Мама сидела за столом в сиянье настольной лампы. В круг света попадала и младшая моя сестра Оля, тоже за столом, а далее – мы. Исчадия тьмы.
– …Тогда я продолжу? – строго сказала мама.
– Конечно, мама! – сказала добрая Оля.
Мама у себя в институте, будучи председателем профкома, писала стихи к праздникам и ко дням рождения и лучшие помещала в стенгазете, которую рисовала сама. Но жизнь привела ее к прозе. Мама старалась читать ровным голосом, без нажима – как бы это сочинение не про нас. Но нажим все равно был!
«В круг света от настольной лампы вошла девочка с волевым лицом и упрямым лбом.
– Мама! – взволнованно проговорила она. – Я не понимаю, как образованный человек, доктор наук, член партии может бросить семью, в которой дети еще не кончили школу и не определили свою судьбу!»
Наверное, я должен спиться по этому сюжету? Не обещаю! А вдруг сейчас пойдет текст про меня? Перетерплю. Рассказ уверенно клонился к тому, что заблудший отец в конце вернется и покается… и слышать это было невыносимо. Не вернется он!
– Пардон! На секунду! – я вскочил, выбежал.







