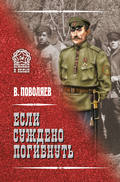Валерий Поволяев
Бросок на Прагу (сборник)
В Берлине грохотала канонада, на улицах рвались снаряды, обваливая, превращая в груды мусора целые кварталы, дома, причастные к всемирной истории, а в Бад-Шандау было тихо, даже пистолетные хлопки уже не слышались – люди привыкали к мирной жизни. Горшков послал Мустафу в «глубокую разведку», как он сам выразился:
– Узнай-ка, друг, где, в каком банке или в конторе мы можем разжиться дойчмарками.
– Зачем они нам, товарищ капитан?
– Пока других денег в Германии нет, только дойчмарки… Изнасилованную немку помнишь?
– Еще бы!
– Если бы у нас не было марок, мы вряд ли справились с этой историей. Шум пошел бы на весь фронт.
Мустафа озадаченно поскреб пальцами затылок.
– А ведь верно, товарищ капитан.
– Действуй, Мустафа.
Капитан собрал группу разведки, молча оглядел каждого, качнул головой удовлетворенно: хоть и небольшая у него была группа – всего двенадцать человек, с ним тринадцать, а стоила много, народ в ней собрался штучный (как, собственно, и во всякой разведке), а штучными бывают не только товары и производства, но и люди. Полковая разведка капитана Горшкова собрала, наверное, лучшее, что удалось отыскать в полку, в пополнениях, даже в других частях.
– Поступила новая вводная, друзья, – проговорил капитан неожиданно мягко, совершенно по-штатски, – ну совсем «штрюцким» он вернулся на этот раз из штаба (штатский народ, который не носил на плечах погон, «штрюцким» называл писатель Куприн Александр Иванович), – нам велено выполнять в городе комендантские функции. Я, значит, назначен комендантом, а вы – вся разведка, вся, до единого человека – комендантским взводом. Будем сообща наводить порядок в городе.
– Надолго это, товарищ капитан? – спросил ефрейтор Дик, плотный плечистый здоровяк с красным обожженным лицом.
– Не знаю, – честно признался капитан.
– Вот напасть-то. – Дик огорченно крякнул.
Шахматный ход насчет денег был сделан Горшковым правильно – дойчмарки потом помогли заткнуть немало дыр и уладить кое-какие скандальные дела. Ведь что ни день, то в Бад-Шандау обязательно чего-нибудь случалось. Случалось и уже знакомое: на немок – посмазливее разъяренной тетки, густо измазанной губной помадой, – нападали наши солдатики, на ходу задирали подолы и старались побыстрее добраться до сладкой бабьей начинки, стонали от страсти… Но это все ерунда по сравнению с тем, что произошло на второй день горшковского комендантства, так некстати свалившегося…
А на второй день к коменданту пришла делегация жителей Бад-Шандау – полтора десятка пожилых мужиков и женщин с пустыми кружками и ложками, проворно застучали ложами по доньям кружек:
– Брот, гepp комендант! Брот!
Что такое «брот», Горшков знал очень хорошо и раз уж терпеливые немцы начали разевать рты, как голодные птенцы, значит, приперло. Надо было что-то делать.
Капитан кинулся к подполковнику в штаб – помогите хоть чем-нибудь!
Тот раздвинул складки на пухнущем животе, сгреб их к бокам – к одному боку и к другому, – и произнес недовольным тоном:
– Вы комендант, вы эту проблему и решайте. Проявите инициативу. Ко мне больше не приходите. Кру-гом!
Делать было нечего. Горшков сел за руль доджа, посадил рядом с собою переводчика Петрониса, младшего лейтенанта, перешедшего к артиллеристам из пехоты, в кузов запрыгнули четыре разведчика с автоматами – Коняхин, Мустафа, Дик и Юзбеков, и капитан вывел машину на плохо расчищенную от обломков и разрубленных взрывами камней улицу.
Стоило проехать немного, как в окнах домов начали возникать любопытные детские мордахи, были видны и лица взрослых, но их было много меньше, чем детских, но они были, вот ведь как, – всем было интересно посмотреть на русских солдат: какие они?
Действительно ли на голове у русских растут рога, как вещал доктор Геббельс – у-умный человек, а из галифе, из прорех сзади, высовывается длинный гибкий хвост? Удивительная штука, но ни рогов, ни хвостов у разведчиков капитана Горшкова не было.
В воздух висела маслянистая копоть – кто-то поджег два крытых пропитанным жирной смолой рубероидом цеха, где производили люки для подводных лодок. На заводе том были еще два цеха, но они не работали, и их не тронули. Кто подпалил промышленное предприятие, свои или чужие, было неведомо. В этом надо бы разобраться…
Впрочем, Горшков на три четверти был уверен, что это сделали наши: они находились на территории врага, поэтому и считали, что им сам бог велел уничтожать все, что у врага есть, и в первую очередь – разные заводы, фабричонки и фабрики, мастерские, цеха, потоки, дававшие военную продукцию.
На выезде из города, около одного из домов, Горшков остановился, выпрыгнул из доджа.
– Пока все оставайтесь в машине, – скомандовал он, – со мной – Петронис. Мы скоро вернемся.
Улица эта была тихая и почти целая, снаряды ее тронули мало, несколько воронок, испортивших асфальт, были заделаны камешником, привезенным с реки, затем засыпаны песком и плотно утрамбованы. Война ведь почти закончилась, по Бад-Шандау уже вряд ли будут бить пушки, можно начинать ремонт, а потом, поднатужившись, собравшись с духом и начать отстраиваться. Заново. Уже без Гитлера.
Капитан вошел во двор небольшого кирпичного дома, обнесенного железной оградой, на крыше дома красовались свежие заплаты – несколько листов железа были сорваны взрывной волной, посечены осколками, скручены в рогульки, и хозяин, не имея под руками никакого другого материала, взял пару пустых металлических бочек, расклепал их, выпрямил листы и пустил на крышу. Горшков постучал костяшками пальцев в дверь.
– Хозяи-ин! – Снова постучал в дверь.
Занавеска за одним из окон шевельнулась, в раздвиг двух половинок кто-то выглянул, и дверь отворилась.
Ефрейтор Дик, сидя в додже, удивленно распахнул рот:
– Прямо сказка какая-то. Капитан уже и тут заимел знакомства.
– Не замай капитана, иначе дело будешь иметь со мной, – предупредил Мустафа. Ефрейтор покраснел еще больше, сквозь ожоги, казалось, вот-вот проступит кровь и не произнес больше ни слова. – Вот это правильно, – оценил его молчание Мустафа.
А капитан знал, куда и к кому пришел, потому так смело и стучал в дверь. Все дело в том, что вчера утром к нему заявился необычный посетитель – местный столяр с руками, изуродованными в гестапо: у столяра были расплющены два пальца, а с нескольких с корнем содраны ногти.
– Ты комендант? – колюче глядя на Горшкова, спросил столяр.
– Я. Временно, – ответил Горшков, попросил Петрониса: – Пранас, переведи!
– Нет ничего более постоянного, чем временные назначения на должность, – ворчливо произнес гость, оглянулся привычно и, пошарив искалеченными пальцами в кармане пиджака, достал удостоверение – книжицу в красном матерчатой переплете, аккуратно развернул ее. – Я – член Коммунистической партии Германии, – произнес он торжественно, голос его, глуховатый, с простудными трещинами, неожиданно обрел звонкость, морщины на лице разгладились.
– Очень приятно, – ответил Горшков удивленно – не думал он, что в Германии еще сохранились коммунисты, гестапо в последние годы жестоко вылавливало их, вырубало под корень, взял рукою под козырек, назвался сам.
– Сохранились коммунисты, – прежним ворчливым тоном произнес гость, – я не один в городе, нас целая ячейка… Подпольная.
– Ячейка большая?
– По нынешним временам большая. Четыре человека.
– А где остальные? – спросил Горшков почти машинально, понял запоздало: вопрос этот – неуместный.
Столяр засипел простуженно и выдохнул шепотом, едва слышно:
– Остальные казнены.
Как всякий комендант – пусть даже временный, – Горшков обладал властью, поэтому он поразмышлял немного и назначил столяра бургомистром Бад-Шандау.
К бургомистру он сейчас и приехал. Столяр, сидя на табуретке с мягким верхом и поставив на стол таз с горячей водой, отпаривал искалеченные руки, постанывал и ерзал задницей по верху табуретки – ему было больно.
Увидев капитана, он привстал и произнес каким-то измученным и одновременно очень спокойным, почти угасшим голосом:
– Сегодня в Берлине не стало Гитлера.
Горшков не выдержал, повел головою в сторону, словно бы горло ему сдавил тугой воротник, выплюнул зло:
– Надеюсь, у собаки была собачья смерть! Тьфу!
– Вместо себя Гитлер оставил гросс-адмирала Деница. По радио объявили, что Гитлер пал на боевом посту.
Капитан отплюнулся еще раз:
– Тьфу!
Столяр вытащил из таза одну руку, потом другую и, кряхтя, потянулся к приемнику, ухватился пальцами за пластмассовую бобышку, включил. Послышались звуки музыки – протяжные, навевающие уныние, капитан этой музыки никогда не слышал. Столяр пояснил:
– Седьмая симфония Брукнера. Ее очень любил покойный фюрер. – Губы столяра презрительно сдвинулись в сторону.
Симфония неожиданно прервалась, и послышался голос диктора:
– Наш фюрер Адольф Гитлер, сражаясь до последнего дыхания против большевизма, сегодня пал за Германию в своем оперативном штабе в рейсхканцелярии.
Презрительная улыбка на лице столяра расширилась.
– Пал за Германию, – хмыкнул он. – Пристрелили небось, как шелудивoго пса, и бросили в канаву. Еще, может быть, облили бензином из канистры и подожгли.
– Откуда такие сведения? – спросил капитан.
– Это не сведения, это – предположение.
– Тридцатого апреля фюрер назначил своим преемником гросс-адмирала Деница, – продолжал вещать диктор.
– Вот, – сказал столяр.
– Сегодня слушайте обращение к немецкому народу гросс-адмирала и преемника фюрера, – произнес диктор напоследок, в приемнике что-то щелкнуло, и послышались заунывные звуки симфонии, сочиненной неведомым Брукнером.
– Собирайтесь, – подогнал капитан столяра, – надо проехать по здешним хозяйствам, узнать, кто какие продукты может дать городу.
– Хорошее дело, – одобрил столяр.
– Иначе горожане от голода и вас и меня вздернут на каком-нибудь крепком суку.
– Я знаю несколько хороших фермеров, – сказал столяр, – они помогут. А я тут вот что сочинил. – Выдвинув ящик стола, он порылся в нем, извлек лист бумаги, протянул капитану. – Вот.
Горшков взял лист, повертел его и передал переводчику.
– Пранас, посмотри, что это?
Тот прочитал бумагу и, с трудом сдерживая улыбку, прижал к губам пальцы. Наклонил пониже голову, чтобы столяр не засек улыбку, если она вдруг прорвется и он не сдержит ее.
– Это документ. Наши немецкие товарищи провели первое открытое партсобрание и вынесли постановление… – Петронис покашлял в кулак.
– Ну!
– В постановлении написано: «Запрещается всем бывшим членам нацистской партии ловить в Эльбе рыбу».
Капитан также покашлял в кулак. Невольно.
– Ну и ну! Судьбоносное постановление, ничего не скажешь. Значит, поступим так, Пранас… Ты переведи поточнее. Если партийная ячейка сможет снабжать рыбой население Бад-Шандау, беженцев, госпиталь и всех остальных, я готов утвердить это постановление. Если нет, то и суда нет.
Столяр замялся, губы у него неожиданно приняли обиженное выражение, он развел руки в стороны.
– Ага, – сказал капитан. – Вижу, что партийная ячейка не готова кормить город рыбой. Постановление временно замораживается. Поехали, бургомистр, к фермерам.
Столяр закряхтел досадливо, ткнулся в один угол, в другой – искал свою выходную одежду. Что-то нашел, чего-то не нашел, закропотал недовольно, замахал руками на жену – та также заметалась по дому…
Через пять минут выехали.
Следов войны за городом было втрое больше, чем в самом Бад-Шандау. В городе люди хоть и не очень старались по этой части, но все же пытались убрать скорбные следы, засыпали воронки, растаскивали крюками горелые дома, спиливали изувеченные деревья, пускали их на корм для печей, обогревались сырыми ночами и варили еду, а в полях и в лесах изуродованная земля так и оставалась изуродованной землей, никто ее не лечил, не обихаживал.
Сидя в машине, среди автоматчиков, столяр затих, сжался, превращаясь в этакого старого мыша, боящегося кота, щурился подслеповато – он не узнавал землю, по которой так много ходил и ездил, рот у него сомкнулся в печальную скобку, отвердел, и сам он сделался печальным, здорово одряхлевшим.
Неуютно он чувствовал себя. Мотор доджа гудел натужно, разведчики держали автоматы наготове – из-за любого куста ведь могла выплеснуться свинцовая струя.
Но пока не выплескивалась, было тихо – доджу везло. Птиц тоже не было слышно – вернувшись, они старались найти себе места поспокойнее, без стрельбы и взрывов, – и переселялись туда. Таким местом у них, похоже, считался и городок Бад-Шандау, там птичьи голоса все-таки звучали.
Поездка не была удачной, проку от нее оказалось ноль: разведчики побывали в трех хозяйствах, и во всех трех им отказали – продуктов, дескать, нет, коровы, напуганные войной, перестали доиться, а куры нести яйца… «Самим бы выжить», – дружно хныкали фермеры.
Столяр был обескуражен. Даже его старый приятель, с которым он выдул не менее трех цистерн пива, – толстый, с бородавчатым лицом Курт Цигель, – и тот развел в стороны полные конопатые руки.
– Извини, Эрих, – сказал он столяру, – сам не знаю, как буду выкручиваться… Ничем не могу тебе помочь.
Маленькие заплывшие глазки его при этом ускользали в сторону, на своего пивного приятеля Цигель старался не смотреть. Все было понятно.
– Ах ты, старый куриный желудок, – сказал столяр фермеру, – обожравшийся сосискоед, павиан облезлый. – Голос у столяра сделался расстроенным, дрогнул, он махнул рукой слабо и полез в додж.
Уже в кузове доджа пробормотал угрюмо:
– Только о своем пупке и думает. Сопля бородавчатая, индюк вареный, сарделька, набитая салом… Тьфу! Тухлая задница!
– Мы в эту задницу можем вставить клизму, – сказал Горшков.
– Не надо. Хозяин он неплохой, и человек неплохой. – Столяр поправил пальцами подбородок, будто получил прямой удар в челюсть, глаза у него покраснели. – И заначка у него имеется, это совершенно точно. Надо только Курта раскочегарить. А вот как раскочегарить, пока не знаю, – столяр вопросительно приподнял одно плечо.
– Ладно, поищем способ, – пообещал ему капитан. Он сейчас думал о том, что придется вновь пойти к подполковнику в штаб и после того, как прозвучит унизительная нотация, попросить продукты… Хотя бы немного. Но даст ли подполковник что-то – это большой вопрос.
Горшков озабоченно хмыкнул и уселся за руль доджа, надавил носком сапога на столбик стартера, похожий на огрызок детской пустышки.
Мотор завелся мигом, будто машина соскучилась по дороге, по езде, по песне собственного мотора.
– Ну Курт, ну Курт, – столяр осуждающе покачал головой, – не ожидал я…
– Еще не вечер, господин бургомистр. – Горшков аккуратно обогнул две кучи навоза, приготовленные к вывозу в поле, и выехал с фермерского двора.
Ровно через сутки фермер Курт Цигель был замечен со своей одноколкой на небольшом стихийном рынке, образовавшемся неподалеку от городской ратуши – робком, тихом, на рынок совсем не похожем…
К Горшкову явился ефрейтор Дик, неуклюже козырнул:
– Товарищ капитан, там этот самый явился… Ну… – Дик иногда заикался, это было следствием контузии, произошло замыкание и сейчас, он умолк, жалобно моргая глазами, замахал протестующе ладонью, через несколько секунд одолел себя. – Ну у которого бородавки на толстой физиономии. Глаза у него еще мыльные, на подшипниках.
– Кто это? – Капитан не сразу понял, о ком идет речь.
– Ну, этот самый… Фермер.
– И что он делает?
– Продает продукты.
– Вот гад. – Капитан удивленно покачал головой: не думал, что ушлый хозяин так скоро проявится… Невооруженным глазом виден капиталист проклятый. Горшков неожиданно весело улыбнулся. – Ладно! Я же говорил, что еще не вечер – значит, еще не вечер.
– Совершенно верно, – поддакнул Дик, скосил глаза в окно. При канцелярии хозяйственной роты Горшкову выделили комнатенку с разбитыми окнами, рамы полковые умельцы заделали с помощью осколков стекла – получились не окошки, а некая разнотоновая мозаика, художественное полотно, сквозь которое была видна улица, вернее, часть ее с кучами битого кирпича и мусором, также собранным в кучи. Что интересного там увидел Дик – неведомо. Да и не до этого было Горшкову.
– Дик, возьми с собою Юзбекова и, как только этот бородавочный собственник распродаст свой товар, арестуй его, – приказал капитан, – и сюда этого Бородавкина, в комендатуру.
– А кутузка для арестанта найдется, товарищ капитан?
– Я за это время организую роскошную арестантскую. Такой во всей Германии не было. Даже у гестапо. – Горшков не выдержал, хохотнул коротко: неподалеку он нашел пустой винный подвал, который хоть и пропах духом сладкого портвейна, но вполне годился под кутузку. Осталось только заселить подвал клиентами. Похоже, дело за этим долго не задержится.
Через час Лик доставил к капитану растерянного, с трясущимися щеками Цигеля. Следом Юзбеков привел под узцы лошадь фермера, запряженную в просторный справный тарантас, снабженный, чтобы не растрясло, металлическими рессорами.
– Старый знакомый, – иронично сощурил взгляд капитан, увидев фермера, постучал торцом толстого начальнического карандаша о поверхность стола. Карандаш ему подарил столяр – он уже почувствовал вкус власти и кресло бургомистра обживал довольно успешно.
Фермер растерянно распахнул рот, пустил, словно ребенок, пузырь и сомкнул губы. Переводчик Петронис находился здесь же, в комнатке коменданта.
– Пранас, переведи этому деятелю, что мы его задерживаем до выяснения обстоятельств продажи продуктов в городе Бад-Шандау по спекулятивным ценам.
Петронис понимающе кивнул.
Бедняга фермер после такого обвинения задрожал как осиновый лист, у него даже щеки затряслись, зубы тоже затряслись и мелко застучали друг о дружку.
Дик ухватил фермера рукой за воротник, просипел сердито:
– Вперед, милейший!
К ефрейтору присоединился Мустафа: он знал, где находится облюбованный капитаном винный подвал.
– Льошадь, льошадь, пожалуста! – заполошно проревел фермер, на глазах у него появились тусклые мокрые блестки, зубы начали стучать сильнее. – Льошадь…
– Не бойся, «льошадь» твоя жива останется, – благодушно проговорил капитан, прощально махнул рукой. – Вперед!
Когда фермера увели, капитан выглянул в окошко, зацепился глазами за мусорные кучи, вызывавшие у него головную боль – надо бы убрать их, но никто из жителей на уборку не выходит, считает ниже своего достоинства, – покачал головой удрученно: охо-хо! Позвал переводчика:
– Пранас! – И когда тот наклонился на его столом, сказал: – Через полтора часа фермера надо выпустить. Пойдешь, переговоришь с ним и, независимо от того, что он скажет, вытуришь из каталажки.
На сей раз фермер был более гибким, и вообще он оказался человеком довольно понятливым, либо же его просто проняло до костей, глаза примерного труженика сельского хозяйства Германии продолжали мокро поблескивать. Увидев Петрониса, он проворно вскочил со старого скрипучего ящика, который кинул ему Мустафа.
– О-о, я все понял, все понял! – прокричал фермер, молитвенно сомкнув на груди ладони.
– А я не понял, – жестко обрезал его переводчик, – не понял совершенно, зачем вам надо было ссориться с комендантом. Ведь вам капитан заплатил бы такие же деньги, что и те, кто купил продукты у вас в городе.
– Я осознал свою вину. – Фермер отер кулаком глаза.
– Раз осознали – это хорошо. – Петронис был вежлив, на «вы», отстегнул от пояса трофейную фляжку, обтянутую тонкой, защитного цвета тканью. Отвернул колпачок. Несмотря на скромные размеры, колпачок вмещал в себя пятьдесят граммов алкоголя. Петронис налил в колпачок водки, протянул несостоявшемуся арестанту. – Нате, выпейте. Согреетесь.
– Благодарю вас, благодарю, – зашлепал губами фермер, схватил колпачок, легко выплеснул его в себя и зашлепал губами сильнее. – Зер гут! Очень хороший напиток. Гораздо лучше шнапса.
– Русская водка, – сказал Петронис и снова наполнил колпачок. – Посуда – дрек, конечно, трофейная, но зато водка своя, качественная.
Фермер перестал шлепать губами и поцеловал колпачок в тонкий серебряный бочок.
– Ах, какой божественный напиток! – умиленным тоном произнес он. – С вами следует дружить, герр офицер!
Когда фермер плеснул в рот, как в топку, вторую стопку и снова подставил колпачок под фляжку, Петронис хмыкнул весело, налил еще и проговорил недоверчивым тоном:
– Не знал, что у немцев, как и у русских, Бог Троицу любит.
Фермер, сладостно зажмурясь, выпил третью стопку и довольно крякнул.
Петронис, понимая, что так вообще можно остаться без «горючего», отнял у него колпачок и нахлобучил на горлышко фляжки.
– Приказ коменданта Горшкова таков, – произнес он строгим тоном, – каждый фермер должен доставить в город подводу хлеба. Иначе – арест и сидение в подвале.
– Если после подвала будут угощать такой водкой, я готов сидеть сколько угодно, – громоподобно хохотнув, заявил Курт Цигель. Бородавки на его лице налились свекольной краской.
– Водки не будет, – прежним строгим голосом проговорил Петронис, – а хлеб быть должен. Понятно, господин хороший?
– Понятно, – покладисто произнес фермер, после трех стопок водки сделавшийся очень словоохотливым, – чего ж тут не понять? Но водка все-таки нужна. У моих коллег должен быть стимул.
– Стимулом будут деньги, – сказал на это переводчик, потом, помедлив, добавил: – Впрочем, для отдельных выдающихся личностей будет и водка.
– Это хорошо, – благодушно пророкотал фермер, – я завтра же привезу вам две телеги зерна.
Фермер не обманул Петрониса: назавтра, в час дня, у окошек комендатуры остановились две одноколки с высокими бортами, доверху наполненные хлебом. Петронис подарил фермеру бутылку русской водки, ну а Горшков… Горшков рассчитался с ним за зерно гитлеровскими дойчмарками.
Другой валюты в Германии пока не было.
Мародерам и насильникам временный комендант Бад-Шандау пригрозил, сцепив зубы:
– Если кого-то застукаю на месте преступления – расстреляю без суда и следствия.
Но истосковавшимся по женской ласке солдатам было плевать на это предупреждение – они слышали (и видывали) и не такое… На войне случались вещи и пострашнее предупреждения временного коменданта. Немок насиловали регулярно, в том числе и бойцы из родного для Горшкова артиллерийского полка, – только вот жалоб не было ни одной.
Немки то ли боялись жаловаться, то ли также соскучились по общению – ведь от стариков, остававшихся в годы войны в Бад-Шандау, проку было немного. Что мог сделать седой бюргер с иной могучей дамой? Только сыграть на губах что-нибудь из Вагнера или Мендельсона, еще снять с себя штаны и предъявить в качестве оправдания свои вялые причиндалы, и все. Еще со старым немцем можно было обсудить последние новости, пришедшие с фронта.
Когда Горшкову сообщили о том, что изнасилованные немки предпочитают молчать, он махнул рукой:
– Раз молчат – значит, и изнасилования не было, и я ни о чем не знаю. Но ежели натолкнусь… – Капитан красноречиво показал кулак.
Подумал о том, что самое паршивое дело – быть на войне комендантом, лучше пятнадцать раз сходить в разведку, чем один день побыть комендантом такого муторного городка, как Бад-Шандау.
Погода стояла прежняя, не теряла своих «мокрых» позиций – часто сыпали противные холодные дожди, с Эльбы наползали едкие густые туманы, явно давно должно было наступить тепло, но оно не наступало.
В ночь со второго на третье мая погиб лейтенант Кнорре. В туманной вечерней темноте он возвращался к своим саперам – получил в штабе приказ о разминировании моста – предстояли торжественные объятия с американцами на генеральском уровне, – и неожиданно услышал резкий женский вскрик.
Крик повторился, но был придавлен чьей-то крепкой рукой. Лейтенант поспешно кинулся к двери дома, где раздавались крики, рванул ее на себя, распахивая, очутился в небольшом, слабо освещенной коридоре, очень чистом – немцы вообще были очень чистоплотными людьми, Кнорре отмечал это не раз, – рванул одну дверь, оказавшуюся на пути, увидел темную, бедно убранную комнату, в которой никого не было, с силой захлопнул дверь, рванул следующую.
Эта комната оказалась посветлее – на стене висела керосиновая лампа, электричества не было, лампа была старинная, с темным стеклянным корпусом и высоким чистым стеклом. В комнате Кнорре увидел троих.
Все трое были наши. Двое держали немку за ноги и за руки, чтобы не дергалась, один попутно зажимал ей рот, третий насиловал. Делал это азартно, сладостно, со стонами.
– Что вы творите, сволочи? – закричал Кнорре, зашарил правой рукой по поясу, нащупывая кобуру с пистолетом. – Что творите? А ну, прекратить!
Он лапал пальцами пояс, искал кобуру и не мог ее найти. С ним что-то происходило, а что именно, он не мог понять. Ну словно бы ослеп, сделался немощным лейтенант…
– Прекратить немедленно! – выкрикнул он яростно, удивляясь тому, что с ним происходит.
Тот, который дергался, прыгал на несчастной женщине, лейтенанта даже не услышал, а вот дюжий сержант, зажимавший немке рот, услышал и выстрелил в Кнорре прежде, чем тот достал свой пистолет. Выстрел отбил лейтенанта в коридор, на пол он свалился уже мертвым – пуля пробила ему сердце.
Растерявшиеся насильники, пригибаясь низко, будто нашкодившие псы, толкаясь и сопя, выскочили из дома – за убийство офицера им грозил не штрафной батальон – грозил расстрел.
Горшков, услышав о гибели Кнорре, сжал кулаки, на щеках его заходили желваки, глаза блеснули жестко.
– Я найду того, кто застрелил лейтенанта, – пообещал он, разжал кулаки и снова сжал. – Клянусь, найду! – Он замолчал, крепко стиснул зубы: вспомнил, как маленький лейтенант со своими ребятами недавно минировал мост.
А сегодня мост этот уже надо разминировать, Москва салютовала американцам, с которыми надлежит повидаться и обняться, столькими-то там залпами и собирается салютовать еще… Солдаты, находящиеся на Эльбе, не должны отставать от Москвы…
Ночью грузовики взяли семидесятишестимиллиметровые пушки на жесткую сцепку и оттащили от моста на разрушенную окраину Бад-Шандау, в почерневший от огня лесок – там расположились две батареи артиллерийского полка.
На рассвете на рычащем, с оторванной выхлопной трубой «студебеккере» прибыли саперы, возглавляемые нервным старшим лейтенантом-грузином, и принялись за разминирование моста.
На разминирование потребовалось времени больше, чем на минирование, – старший лейтенант, несмотря на нервную дрожь, пробегавшую по его загорелому лицу и карту минного поля, которую он держал в руках, действовал очень осторожно, медленно, с оглядкой, снимал заряды по одному и грузил их в кузов «студебеккера».
На берег Эльбы высыпала целая толпа солдат-зевак, действия саперов, поскольку ночь уже прошла и наступило утро, было светло, громко обсуждались.
– Ты глянь, как он тащит мину! Вспотел парень так, что даже яйца к взрывателю приклеились.
– Ага. Перепутал мину с бабой. Как бы не оторвало достоинство.
– А вон, смотри, второй ковыляет… Будто телятница на сносях, живот в беремя обхватил, не мычит только.
– Как бы он не родил на мосту.
Шутки были благодушными, тон голосов – свойский, война для этих людей кончилась – так считали они, но считает ли так их командование – вот вопрос…
В тылу ведь остался мощный кулак немцев, сколоченный из пятидесяти полнокровных дивизий и шести штурмовых групп – полмиллиона человек. Сдаваться немцы не собирались, сопротивлялись ожесточенно 1-му, 2-му и 4-му Украинским фронтам. Бои шли такие, что делалось тошно и небу и земле. Руководил обреченными гитлеровскими дивизиями генерал-фельдмаршал Шернер.
Дениц настаивал, чтобы Шернер немедленно начал отвод дивизий на запад, разрезал войска русских, будто ножом, смял их, достиг Эльбы и там сдался американцам – те с немцами воевать не будут; Кейтель и Йодль были против этого плана, они считали, что как только группировка Шернера отойдет со своих позиций, так будет тут же разбита русскими, других вариантов нет – исход будет один.
Столкнулись две точки зрения, два взгляда, но оба они не предусматривали капитуляцию, прекращение бойни. Это означало – кровь будет литься еще, и много крови – захлебнуться в ней можно будет. Перемолоть полмиллиона хорошо вооруженных немцев – на это придется положить столько же своих или почти столько. В руках у гитлеровцев продолжала находиться едва ли не вся Чехословакия, в Праге против фрицев поднялся город, целиком восстал, улицы перекрыли траншеи и баррикады, если Прагу сейчас не выручить, она будет уничтожена вместе с людьми. А выручать Прагу придется тем, кто, обойдя Берлин, прорвался на запад и находился сейчас на Эльбе.
Придется идти на Прагу и капитану Горшкову со своими людьми. Впрочем, Горшкова это устраивало – очень уж обрыдли комендантские обязанности, хлебнул он достаточно, на всю оставшуюся жизнь. Горшков жалел, что у него не хватило решимости отвергнуть предложение подполковника, не хватило, наверное, потому, что фрукт был очень уж неведомый – скрипучий стул коменданта, если бы он знал, что это за пряник, то пошел бы к генералу Егорову и отбился.
А пока надо было отыскать того, кто застрелил маленького лейтенанта-сапера. Память о нем требовала того.
Для начала надо было понять, какие части стоят в Бад-Шандау. Крупных частей было две – два полка, артиллерийский и стрелковый, все остальное – по мелочи: передвижная мастерская по ремонту танков, неведомо как тут очутившаяся, рота связи фронтового подчинения и небольшая группа разведки, прибывшая из штаба армии – вот и все бойцы.
Рота связи отпадала сразу – это была женская рота, командовала девушками пожилая женщина в звании старшего лейтенанта, группа армейской разведки также отпадала, ее Горшков знал, да и в тот момент, когда погиб лейтенант Кнорре, она ходила на тот берег Эльбе.
Оставались два полка и танковая мастерская. Оказалось, что мастерская эта состояла сплошь из стариков, очень умелых, которые могли приклепать палец к носу так прочно, что хрен оторвешь, а главное – боли не почувствуешь. Руководил мастерской подслеповатый инженер-капитан, в несколько раз лучше разбирающийся в многомудрых механизмах, чем в человеческих отношениях. Он встретил Горшкова, будто большого начальника, стоя, через десять минут выстроил во фрунт своих подопечных – седых и лысых, очень усталых людей, которые были рады передышке, которую получили в Бад-Шандау.
– Вот, – сказал начальник мастерской и обвел шеренгу заскорузлой рукой, в которую, кажется, навсегда въелось машинное масло, – все мои люди налицо. – Добавил с некоей нежностью в голосе: – Очень даже хорошие люди. Опытные ремонтники.
В строю стояло восемнадцать человек, кое-как одетых, кое-как подпоясанных, держать строй неспособных, но очень ценных, ценность их Горшков представлял очень хорошо, каждый из этих стариков стоил целого взвода танков.
– Вольно, – сказал им Горшков, притиснул ладонь к пилотке, – извините, что побеспокоил вас.