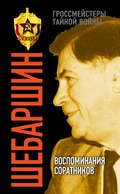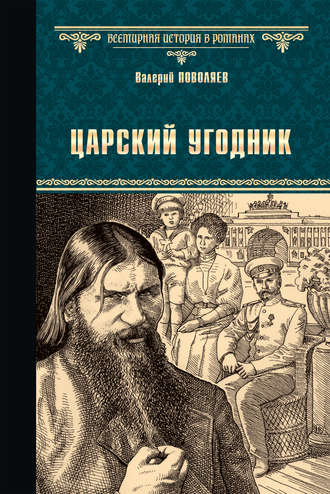
Валерий Поволяев
Царский угодник
Поздно вечером Феония все-таки раскрыла рот и сказала следователю несколько слов – всего несколько. Вот они, их запечатлели и полицейские протоколы, и перья журналистов: «Так надо! Он – антихрист!»
Когда ее увели на ночь в камеру, – если, конечно, помещение временной сельской тюрьмы можно назвать камерой, – это было мрачное деревянное, темное, пахнущее сеном и мышами помещение, – она, став на чурбак, подтянулась к оконцу, врезанному в толстое бревно под самой крышей, попыталась раскачать стекло и вытащить его, но стекло было плотно прижато планками, вытащить его можно было только с помощью стамески и клещей. Феонии оставалось одно – бить стекло.
Она обмотала куском шали руку, надавила на стекло – то было словно железное, не подалось, давить сильнее Феония побоялась – звук разбитого стекла мог привлечь стражников.
Надо было ждать. Обычно Покровское по вечерам было селом тихим и темным – в темноте себя обозначали лишь собаки. Люди предпочитали пораньше лечь спать – в домах свет не горел, да и слава у здешних мест была не самой лучшей, – но сейчас Покровское не было похоже на знакомое всем Покровское, в нем снова начал шуметь-волноваться народ.
Толпа, в которой теперь были уже не только пришлые, но и местные, в основном молодежь, перемещалась с места на место, бурлила, галдела, готова была растерзать кого угодно, не только Феонию Гусеву – в воздухе противно попахивало кровью, пеплом, лекарствами, болью.
Когда толпа приблизилась к застенку Феонии, она, затаив в себе дыхание, держа его буквально зубами, решительно ткнула в стекло кулаком, стекло треснуло, вывалилось наружу, в рамке остался лишь один осколок, Феония поспешно выдернула ею, прислушалась, стараясь понять, услышал ее стражник или нет?
Хоть и галдела толпа, и шум стоял такой, что люди не слышали друг друга, ревели, матерились, проклинали кого-то – все смешалось, а нечеткий звон разбитого стекла охранник все же услышал – у него оказался тонкий слух, – затопал ногами, забряцал тяжелым замком, и Феония, торопясь, полоснула себя осколком по руке, потом провела по шее, сбоку, там, где сквозь кожу проступала очень важная, по ее мнению, для жизни жила, потом снова провела по руке, закричала от боли и повалилась на пол.
Охранник быстро справился с замком и распахнул дверь.
– Эй! – позвал он.
Керосиновым фонарем осветил лежавшую на полу Феонию.
Человек он был опытный, все сразу понял, позвал напарника, вдвоем они не дали Феонии умереть. Отняли у нее осколок, который она намертво зажала в ладони, припрятали его, чтобы утром с ним познакомился следователь, и для профилактики – чтоб и впредь было неповадно – основательно отругали Феонию. Хотели было на ночь связать ей руки, но не стали.
А Распутин все продолжал хрипеть в своем доме – он никак не хотел умирать и этим очень удивлял врачей – маститый профессор из Тобольска сидел на лавке с таким видом, будто ему в сердце выстрелили из дробовика, дырку сделали; тюменские врачи ощущали себя ущербными – стало ясно, что операцию делать надо было: Распутин выдержал бы любую операцию, даже если бы у него остановилось сердце или рассыпался позвоночник, и что операцию делать не поздно даже сейчас – Распутин и ее выдержит.
Почти все запросы о Феонии были пустые, у полиции сведений на нее имелось мало – она не проходила ни по одному делу.
В тот же день полиция стала искать одного журналиста, который ехал вместе с Распутиным в поезде, – о нем сообщили дамы из свиты «старца». Кстати, по поводу распутинских дам полиция получила приказ: собрать всех в одну кошелку, доставить в Тюмень и посадить в поезд, идущий в Санкт-Петербург, – нечего им шуршать юбками в Покровском! Допрашивать дам полиция опасалась – слишком уж высокие семьи они представляли, всей России были известны их фамилии.
Утром бледная, как мел, после бессонной ночи и переживаний, перевязанная обрывками бинтов, Феония призналась дотошному молодому следователю, что действовала она по указке Илиодора, а еще мстила за поруганную Распутиным подругу – монахиню Ксению. Несколько месяцев она следила за Распутиным, раньше держала при себе сапожный нож, но в Ялте ей подвернулся тесак, она его купила и хотела там же, в Ялте, расправиться со «старцем», но ей ни разу не удалось приблизиться к нему: Распутин все время находился в окружении людей, в Петербурге тоже не удалось, и тогда она приехала следом за ним в Покровское.
Наконец Распутину сделали операцию, почистили кишечник, заштопали несколько порезов, осмотрели и подлечили мочевой пузырь. Операция прошла успешно. Но Распутин пока не приходил в себя. Через день температура пошла на убыль. Это был хороший знак.
Судьба Илиодора сложилась неудачно, вроде бы он был на коне – вместе с Гермогеном брал верх над Распутиным, но нет – Распутин рассчитал позицию куда вернее, чем они с Гермогеном, и сумел обезножить коня, на котором они скакали. Илиодор впал в немилость. Вообще, фигура Илиодора представляет интерес для всякого пытливого человека. В архиве сохранилось несколько папок Департамента полиции с пометками «Бывший иеромонах Илиодор». В молодости он баловался революционной деятельностью – именно баловался, хотя сам относился к этому очень серьезно и, несмотря на монашеский постриг и отвращение к оружию, пробовал даже стрелять из тяжелого, намертво отшибающего руку револьвера, учился разбирать и собирать мосинскую винтовку-трехлинейку, был знаком с устройством самодельной бомбы.
«Иеромонах Почаевской лавры Илиодор в начале 1908 года ввиду несоответствия проповеднической деятельности был переведен по распоряжению духовного начальства на жительство в город Царицын, – следовало из полицейского досье, – а затем ввиду неисправимости и обострившихся на этой почве отношений с гражданскими властями – переведен из Саратовской епархии в Минскую».
Но жители Царицына обратились к государю-императору, и тот 3 апреля написал на прошении: «Жалея духовных детей иеромонаха Илиодора, разрешаю ему возвратиться в Царицын на испытание, и в последний раз».
Из досье следовало, что 5 ноября 1909 года Илиодор произнес проповедь, в которой говорил об угнетении богатыми неимущего класса. Предупреждение, сделанное полицией, на иеромонаха не подействовало: революционная борьба была для него как сладостная чесотка – чем больше чешешь, тем лучше. Он считал себя привязанным к революции на всю жизнь. 29 ноября 1909 года Илиодор выехал из Царицына в Тобольск, 21 декабря вернулся. После приезда из Сибири выступал перед рабочими с зажигательными речами, о чем существуют рапорты начальника жандармского управления и саратовского губернатора графа Татищева российскому премьеру П.А. Столыпину.
На бумагах той поры стояли грифы «доверительно», «секретно» и «конфиденциально». Из бумаги под грифом «доверительно» следовало, что у Илиодора был «громкий, крикливый, немного режущий ухо голос с нервною хрипотой. Черная ряса, такой же клобук, бледное, худое, изможденное лицо с небольшою черной внушительной бородой».
Чтобы понять этого «революционера», его надо процитировать – и тогда все встанет на места… В одной из проповедей в Царицыне, записанной полицейским агентом, Илиодор, например, говорил:
– Попал я в Почаев. Там – хохлы, народ тоже крепкий, сильный, в плечах косая сажень, кулак вот какой! – Надо полагать, хилый Илиодор пудовым кулаком похвастаться не мог, поэтому он сложил вместе два своих кулака, добавил к ним для увесистости еще что-то и показал народу. – Стал с ними, с хохлами, значит, беседовать. Когда они узнали, что такое конституция и революция, глаза у них налились кровью. Подняли они кулаки и говорят мне: «Скажи, батюшка, где эта самая конституция находится? Мы ее так пришибем, что только мокренько останется!»
– В Петербурге! – сказал хохлам Илиодор. Те даже взвыли от ненависти к столице России.
На той же показательной проповеди Илиодора спросили:
– Батюшка, что с жидами нужно делать?
Илиодор не колебался ни секунды:
– На виселицу их!
Большой был, в общем, демократ и человеколюб.
Из Царицына он был выслан вторично – не оправдал доверия царя и прихожан, некоторое время сидел в монастыре, замаливал грехи, потом Илиодора сослали во Флорищеву пустынь. У Илиодора, как и у Распутина, были свои последователи, поклонницы и поклонники, богомольцы, хранившие книги Илиодора, его одежду, а иногда и вовсе какой-нибудь жалкий лоскуток – остаток его одежды, карман либо часть воротника, и к этим людям нельзя было относиться легковесно, с улыбкой, абы как эти люди могли пойти на все, даже на убийство, если кто-то вздумал бы обидеть их избранника.
Поскольку было непонятно, чем больше увлекался Илиодор – революционными делами или богослужением, полиция на всякий случай причислила его к разряду тихих бунтовщиков и установила наблюдение.
Жил Илиодор в сухой келье, состоявшей из двух половин, одна половина была мирская, другая духовная. Пахло в келье землей и пауками, и сколько Илиодор ни подкладывал пахучей травы, сколько ни пристраивал на стенах мелиссы и злого, ядреного чабреца, духа этого никак не мог изгнать из кельи, дух давил, мутил голову, и сосланный в пустынь Илиодор мечтал о свободе, о Боге, о поклонниках, о собственном монастыре.
Людей к себе в келью Илиодор не пускал – даже послушника, который приносил миски с едой и питьем, и того держал на пороге, лишь приотворял малость дверь, и послушник ставил посуду на пол, затем, недобро поджимая губы – слишком уж нелюдимо живет монах, – забирал грязные миски и уходил.
Но свобода манила Илиодора, ой как манила. По ночам он до крови кусал губы, желая полной грудью вдохнуть сладкого воздуха свободы, ворочался, потом, запалив свечу, гонял по стенам клопов и думал о том, что надо бы на зиму запастись чернобыльником либо серебристой полынью, и полынь и чернобыльник своим духом распугают всех клопов.
Случалось, Илиодор в отчаянии выходил из себя – с силой бил кулаком об пол, потом тер его – ушибленное место долго болело – и удрученно шептал:
– Ну, Гришка, ну, мразь! Ты еще пожалеешь, что так со мною поступил. Погоди! Погоди-и-и. Ошибочку ты сделал, что со мною так… Отольются тебе мои слезы!
Он ненавидел Распутина, придумывал разные планы мести, но отомстить пока не мог: Распутин в схватке взял верх, подмял всех под себя, загнал Гермогена с Илиодором в Тмутаракань, в кельи, а сам остался на свободе. Для того чтобы отомстить Распутину, нужна была свобода.
– Ну, мразь! – вздыхал по ночам Илиодор. – Ну, Гришка! Будет и на нашей улице праздник!
Однажды, в первых числах мая, филеры, присматривавшие за пустынью, за Илиодором, по поводу которого получили прямое распоряжение министра внутренних дел не церемониться и, если что, цеплять на запястье наручники, заметили, что около монастырских стен бродит какой-то странный человек и делает замеры. Чаще всего человек останавливался напротив окон Илиодоровой кельи.
Подозрительного человека задержали. Задержали поздним вечером, уже в темноте, когда светили только звезды, на опушке недалекого леса. Им оказался царицынский мещанин Иван Синицын. За сутки до Синицына была задержана повозка, направлявшаяся в пустынь. Извозчик подозрений не вызвал – это был местный человек, занимавшийся извозом с малолетства, его знали и в управе, знали и филеры. Иван Синицын нанял извозчика специально. С собою он вез два баула и меховой сверток. По дороге попросил остановиться у колодца, где босая богомолка пила воду из ведра, спросил у нее:
– Скажи, много ли стражников в монастыре?
– Нет, – ответила та, – человека три. Больше никого не видно.
Пассажир отдал извозчику пальто и серебряный рубль – плату за работу, деньги по тем временам большие, – сказал, что через некоторое время поедет с ним обратно на станцию. Около пустыни, в лесочке, он слез, махнул рукой, отправляя извозчика обратно.
Дома извозчик осмотрел пальто – оно оказалось поношенным, зеленоватого цвета, годилось больше на выброс, чем на что-то другое, и извозчик, хотевший было взять пальто себе, решил, что оно ему не подойдет – от такого пальто больше хлопот, чем радости.
Полицейские поинтересовались у Синицына, куда тот идет?
– Из Гороховца в Пурех, – ответил Синицын, – только вот дороги не знаю, боюсь в темноте заплутать… Решил заночевать.
– В лесу? Не страшно?
– А кого бояться-то?
Утром в траве напротив кельи Илиодора был найден узел с одеждой. Когда привели извозчика, он узнал в Синицыне своего седока. Распотрошили узел. В нем оказались – привожу по полицейской описи – пара сапог с галошами, новая круглая войлочная шапочка, наподобие той, которые носят горные люди сваны, два парика – рыжеватый и черный, с общепринятой крестьянской прической – пробор посредине, две накладных бороды с усами, флакон клея, кисточка, зеркало, гребенка, коробка с пудрой и пуховка – круглый перьевой комок, очень мягкий, которыми заезжие артисты обычно пудрят лицо.
Через несколько часов Синицын признался, что прибыл из Нижнего Новгорода с одной целью – освободить Илиодора и доставить его в Царицын.
Когда об этом сообщили Илиодору, тот воскликнул тонким, испуганным, как у зайца, голосом:
– Провокация!
В келье у Илиодора было пусто – людей к себе он по-прежнему не пускал. Пришел протоиерей Беляев, проверил келью и сообщил жандармам:
– Никого нет!
Но жандармы не удалились – у этих людей нюх был собачий, они что-то чувствовали. Чувствовали в монашеской келье немонашеский дух.
– Мы сами проверим келью, – заявили они протоиерею.
Илиодор попробовал закрыть своим телом вход, но не тут-то было – его просто переставили в другое место, как мешавшую вещь. Очень быстро полицейские нашли жильца, от которого исходил немонашеский дух, – патлатого, босого, в кальсонах и в нижней рубахе.
– Кто таков?
Оказалось, Дмитрий Романенко, крестьянин из Саратовской губернии.
– Почему разделся?
– А жарко!
– Это в келье-то?!
В каменной келье Илиодора никогда не бывало жарко, скорее, всегда было холодно – камень выделял холод, тут если побыть подальше, зубы начнут выстукивать чечетку.
– В келье! – подтвердил саратовец.
– Жарко, значит?
– Ага, жарко.
Пока продолжался этот непритязательный разговор, обыск не прекращался. За дверью был обнаружен еще один человек.
– Кто таков?
На сей раз мещанин Степан Дорофеев.
Были обнаружены и вещи: пиджак, брюки, ватная тужурка, барашковая шапка, сапоги. Судя по размерам, одежда принадлежала Романенко.
– Твоя?
Тот не стал отнекиваться – понял, что делать это бесполезно.
Жилет и ватная поддевка принадлежали Дорофееву. Жандармы отыскали еще две котомки, две пары новеньких лаптей и две пары теплых, крупной вязки крестьянских чулок.
Все стало ясно – Илиодор собрался бежать. Жандармы дознались, что в похищении должна была участвовать и женщина – некая Сана, дама большого роста, страдающая зубами. В день побега у нее должны быть подвязаны зубы, подвязка – это опознавательный знак.
Двух жильцов-немонахов жандармы арестовали – настоятель отказался признать их своими и содержать в пустыни – и, посмеиваясь, усадили на телегу; через некоторое время на станции Гороховец обнаружили и даму высокого роста, в башмаках сорок второго размера, повязанную марлевой скруткой, – Сану, это была она – Александра Мерзликина, астраханская крестьянка, жительница Енотаевского уезда.
Побег из Флорищевой пустыни был сорван, и сквитаться Илиодору с Распутиным не удалось.
А план побега был прост. В апреле и в мае в монастырь обычно приходит много паломников – только в первые два майских теплых дня их было триста с лишним человек, в этой разномастной гурьбе к Илиодору прибыло двое гостей – Дорофеев и Романенко. Илиодор укрыл их в своей келье.
Синицын и Сана страховали побег за монастырскими стенами, на воле. Вечером шестого мая Синицын должен был подойти к окну кельи, которое он высчитал точно, и в траве спрятал сверток с одеждой, чтобы потом не путаться, не суетиться – все должно находиться под руками, – а Романенко с Дорофеевым спустить Илиодора на веревке вниз. Сами же они должны были остаться в келье на две недели, до двадцатого, изображая Илиодора, принимать от послушника миски с едой – келья не должна была оставаться пустой.
По плану предполагалось, что Синицын довезет на телеге Илиодора, притворяющегося больным, до Балахны. В Балахне, на реке, была припрятана лодка, на которой предстояло сплавиться до Казани, в Казани – совершить пересадку на буксирный пароход и по Волге приплыть в Царицын, точнее, в Саретский затон, откуда лошади должны были доставить Илиодора в монастырь.
Конечная дата этого путешествия, по плану, приходилась как раз на двадцатое мая. К этой поре Романенко с Дорофеевым должны были выйти из кельи – Илиодора вряд ли уже могла поймать полиция.
А в Царицыне сторонники Илиодора уже собирали подписи под петицией к царю, в которой просили дать «добро» на основание нового монастыря. Настоятелем монастыря должен был стать Илиодор.
В конце июня загримированный под старика Синицын, имея при себе документы на имя Федота Болотина, попытался проникнуть в келью Илиодора. В мешке этого неряшливо одетого странника были обнаружены лапти, костюм, грим, кое-что по мелочи. Странника арестовали, но Синицын полиции уже не боялся – устал бояться, переболел всякими страхами и понял, что это – пустое: он знал, что дня три его продержат на казенных харчах, а потом выпустят – чего на него зря расходовать деньги? Начальник Владимирского губернского жандармского управления полковник Эрнст так и сделал – не стал тратить на Синицына казенные харчи, но о случившемся сообщил в Петербург. Соответственная бумага нашла свое место в пухлой папке Илиодора.
В начале августа в пустынь снова зачастили поклонники Илиодора, перед кельей монаха они падали на пол, дружно колотили лбами землю, подвывали жалобно – то ли что-то пели, то ли сочинили свою собственную молитву и теперь исполняли ее – не понять. Илиодору они подарили дорогой белый посох с золоченым крестом, вкрученным в шишак. Монах принял посох со слезами, поклонился богомольцам и просил передать рабочим, которые обеспечивали паломничество своими рублями, не тратить больше денег на поездки в пустынь, а копить средства, копить, собирать рубль к рублю, пятиалтынный к пятиалтынному, копейку к копейке и вести им жесткий счет.
– Деньги скоро понадобятся, – предупредил Илиодор, – много денег понадобится!
Был разработан еще один план побега, который вскоре стал известен полиции, – там прислушивались к каждому звуку, доносящемуся из обители, да кое-кто из монахов был не прочь подработать на стукачестве, лишний рубль еще никогда не оттягивал рясу, а полиция на рубли не скупилась. План был ошеломляюще примитивен: несколько человек должны были затеять шумную драку в лесу и выманить из монастыря стражников. Пока те будут утихомиривать дерущихся, Илиодор выскользнет из пустыни, на извозчике доедет до деревни, там пересядет на нанятый за шестьдесят рублей автомобиль. Автомобиль довезет Илиодора до Нижнего Новгорода…
Драка в лесу была устроена шумная – с криками «Убивают!» и стрельбой из пугачей, с матом и звоном разбиваемых бутылок, с большим костром, и стражники действительно метнулись в лес, чтобы врезать дерущимся по шее, а зачинщикам вообще свернуть набок скулы и носы – все было продумано верно, – только в лес помчались не те стражники, которые охраняли Илиодора, а совсем другие. Те, которые охраняли Илиодора, остались на своих местах.
Стражники так быстро разметали дерущихся, что кое-кто оставил на поляне даже обувь. Кстати, агент полиции наткнулся в лесу на шалаш, в котором находилась влюбленная парочка, эта парочка скрылась настолько стремительно, что женщина даже забыла у шалаша свои ботинки.
Все провалилось и на этот раз.
Побегом руководил брат Илиодора, Аполлон Труфанов.
В октябре – это было вечером шестого числа – отчаявшийся Илиодор остриг себе голову и попросил настоятеля, чтобы тот разрешил ему обменять монашескую рясу на светский костюм. Илиодор был подавлен: глаза воспалены, лицо запаршивело, руки тряслись – с одного взгляда было понятно, что этому человеку надо чинить свои нервы. Илиодор решил, что нужно уходить из монастыря, пока он находится здесь, до Распутина ему не добраться. Никаким обманом. Месть откладывалась, а она была все равно что горящие уголья в груди, она требовала выхода, действий, немедленного присутствия в Петербурге!
Настоятель отказал Илиодору, и тогда тот решился на крайнюю меру – написал письмо в Синод, в котором отрекся от веры и Бога. Несколько дней Илиодор проплакал, ожидая ответа.
Священный синод лишил Илиодора сана. Илиодор собрал свои вещи, которых у него, как, собственно, у всякого монаха, было очень немного, и уехал. Перед отъездом отправил письмо своим приверженцам в Царицын. «Ваш батюшка умер, – со скорбью начертал он на бумаге. – Отречение я подписал собственной кровью, взятой из руки. Вечная истина повелела мне сделать это».
Уехать в Петербург и сквитаться с Распутиным Илиодору – в миру Сергею Труфанову, Илиодор остался уже в прошлом – также не удалось: он был сослан на Дон, в один из пристаничных хуторов, ближе к отцу и брату – Илиодор был из донских, – где поселился у старообрядческого священника.
Полиция тщательно присматривала за ним – избежать этой опеки Илиодору не удалось.
Поместье свое Илиодор прозвал Новой Галилеей, дом укрепил, огородил высоким забором, женился на молодой зубастой казачке, развел кур, взял в аренду землю – выращивал картофель и арбузы и томился. Так худо и скучно было Илиодору в Новой Галилее, что он начал пить.
Несколько раз Илиодор засек стражников у своего забора и послал в полицейское управление письмо, в котором просил не мозолить ему глаза. «Если вам необходимо следить за мною, то вы должны сидеть под забором», – подчеркнул он.
В запоях Илиодор часто вспоминал свое прошлое, Царицын, проповеди и преданных прихожан, перед ним возникали лица – скорбные, укоризненные, жесткие, самые разные лица, и все знакомые. Илиодор водил рукою по воздуху, пробуя смазать их, убрать, но лица возникали вновь, и Илиодору становилось не по себе. Водку, говорят, он гнал сам – и очень умело – из картошки и зерна, из груш; случалось, что готовил особый коктейль: брал арбуз посочнее, шилом прокалывал у него бок и закачивал туда пол-литра водки, заклеивал. Потом давал арбузу полежать пару дней где-нибудь в прохладном месте.
Получался напиток необыкновенной вкусноты – мягкий, хмельной, розовый – Илиодор одолевал целый арбуз разом, заедал зелье мякотью, а потом, когда мякоть кончалась, ел арбузные корки.
Полиция, видя, что Илиодор ведет себя как нормальный мужик – пьет, но не буянит, перестала трогать его, взяла подписку о невыезде и убрала стражников, от которых у Илиодора была изжога – когда он их видел, то обязательно хватался за бутылку либо за арбуз. Наливаясь, Илиодор ложился на пол и бормотал:
– Я отрекся от Церкви и Христа, как Бога Духа Святого. Я признаю единого первичного Бога, непостижимо родившего чудодейственное семя прекрасного видимого мира – Язык у него заплетался, едва ворочался во рту, прилипал к нёбу, губы делались алыми, будто он красил их женской помадой, но мысль работала ясно, и вообще в голове светлело от выпивки – Илиодора сбить было трудно, он шел по накатанному пути, часто повторял эти слова, написанные им в отречении. – В жизнь мира Бог не вмешивается. Отречение я подписал собственной кровью. Вы поняли, гады? – Илиодор приподнимался на полу, оглядывал голые, давно уже не беленные известкой стены, кричал: – А ты понял, Гришка? – Взметывал над собою кулак. – Доберусь я до тебя, Гришка, обязательно доберу-усь! Ремней ведь из тебя нарежу! Отречение я подписал своей кровью, кровью отсюда вот, – он тыкал пальцем в запястье левой руки, – отсюда вот брал!
Однажды из Царицына прибыла группа поклонниц Илиодора – очень боевых, горластых, совсем не похожих на обычных прихожанок, их было человек пятьдесят. Полные сил прихожанки, увидев стражников, лежавших в тени забора – это было до того, как полиция помягчела к Илиодору, – решили освободить своего кумира.
Но в драку с полицией не полезешь, полиция все равно окажется сильнее, поэтому они купили два десятка лопат и попытались прорыть к дому Илиодора подземный ход.
Об этом узнал Иван Синицын, заметно похолодевший к бывшему иеромонаху, и донес полиции. Поклонниц Илиодора накрыли вместе с лопатами, ход засыпали.
Но и Синицын вскоре тоже был наказан – Бог наказал, как говорили люди: сытно поужинав, он вдруг схватился за живот и повалился на землю. Долго катался по ней, кричал, потом изо рта у него полезла пена, и Синицына не стало. Почил в Бозе. В медицинском заключении было указано: отравился дохлой рыбой.
А в остальном к Илиодору не было претензий – даже в связи с подкопом, в полиции решили, что влюбленные в красивого Илиодора прихожанки сделали это по собственному разумению, Илиодор здесь ни при чем, – и удивились, когда из Петербурга поступило распоряжение произвести у Илиодора обыск. И не только у Илиодора – у его сторонников тоже.
– Мда-а. Это, видать, в связи с убийством Распутина, – догадались полицейские чины.
Обыски ничего не дали – у Илиодора, кроме пустых бутылок, запаса картошки и арбузов, дареного белого посоха и тряпок жены, ничего не нашли, у его сторонников – тоже.
Распутин стонал, бредил, пытался перевернуться на бок, и тогда его приходилось держать – у Распутина могло остановиться сердце, хотя и крепкое оно было, но работать беспредельно не могло, оно должно было надсечься. Пульс дрожал, температура почти не опускалась – точнее, опускалась чуть, но тут же ползла вверх, к той критической отметке, когда кровь начинает густеть, врачи провели у постели старца несколько ночей.
Если раньше брал верх осторожный тоболец – он боялся принять грех на свою душу, то теперь тюменцы оттеснили врача с «Владимиром» на шее и энергично боролись за жизнь «старца».
Была сделана операция. Операция прошла при свете лампдесятилинеек, наполнивших комнату печным жаром, дышать стало нечем, зажгли все лампы, что были в распутинском доме, еще три лампы взяли у соседей. Завершилась операция успешно. Теперь из Распутина надо было постоянно выгребать гной. Неприятное это дело, но тюменцы не морщились, орудовали слаженно и четко.
Были минуты, когда Распутин с хрипом выбивал из себя знакомые имена: «Пуришкевич… Саблер… Маклаков… Илиодор», потом вдруг всхлипывал со слезою и звал к себе дочь.
– Матреша! – дрожал в воздухе слабый распутинский оклик, и, отзываясь на него, в глубине огромной избы билась, полувоя-полуплача, любимая дочь, рвалась в дверь комнаты, в которой лежал отец, мячиком отлетала обратно и снова на полном бегу врубалась в дверь.
– Папанечка!
Врачи дверь Матрене не открывали: прежде чем ее допустить к отцу, надо было основательно обработать, убрать микробы, проспиртовать – дочка Распутина чистотой не отличалась, но зато отличалась другим – любовью к отцу.
– Пуришкевич, Пуришкевич, – стонал Распутин, облизывая языком сухие, твердые губы, – что же ты, а?
– Государственная дума в полном составе, – усмехался тобольский профессор, – Пуришкевич, Маклаков… Глядишь, и тайну какую-нибудь узнаем. А зачем она нам?
Тюменские врачи молчали, их коллега, прискакавший в Покровское первым, не выдержал, гневно выпрямился. Но говорить тоже ничего не говорил.
А Распутин в бреду действительно часто видел Пуришкевича – лысого, лобастого, с аккуратной бородой, намазанной духовитым маслом, наряженного в военный мундир, с орденом под подбородком, гневного. Распутин и так пробовал приладиться к Пуришкевичу – не хотелось с ним ссориться – и эдак, но все бесполезно, и тогда Распутин в сердцах высказался в одном интервью:
– Пуришкевич ненавидит меня за то, что мне приходится заступаться за евреев и, между прочим, просить о допущении купцов-евреев на Нижегородскую ярмарку. Он не может мне простить, что я помогал многим беднякам-евреям в Сибири и не скрывал этого.
Утром Распутин открыл глаза.
– Где я?
– Дома, у себя дома, батюшка, – ласково произнес тобольский профессор, – в селе Покровском.
– А-а, – произнес Распутин, как показалось собравшимся, разочарованно, шевельнулся и охнул от боли, проколовшей его, недоуменно поглядел на врачей, словно бы спрашивая их замутненным взглядом: «А чего так много вас тут?» Подвигал немного непослушными губами и снова закрыл глаза.
– Спасли мы вас, Григорий Ефимыч, уже в горячке вы были, отчаливали от нашего берега, а мы все силы приложили, чтобы вернуть вас, – громко и четко говорил тобольский профессор, стараясь, чтобы Распутин услышал каждое его слово. – Коллеги из Тюмени особенно постарались, отличились. – Он с добродушным видом покосился на тюменских врачей, подмигнул, тюменцы отвернулись от тобольца, им все больше не нравился профессор с «Владимиром» на шее. – Отличились, можно сказать… Все отличились!
Распутин никак не отозвался на слова тобольца, они, похоже, вообще не дошли до него, у «старца» вновь поползла вверх температура, он начал гореть, снова завскрикивал что-то бессвязно, задергался, пытаясь освободиться от железного жала, воткнувшегося ему в живот, на губах вспухали и лопались розовые пузыри, лоб был потным, розовым, страшным – кровь на лице Распутина смешалась с потом.
Первым сообщение о нападении на Распутина опубликовала газета «День» – та самая, в которой работал Александр Иванович, – прибывший из этой газеты корреспондент оказался самым проворным. Но он уступил место корреспонденту «Петербургского курьера». «Курьер» не жалел денег на новости, и его представитель не вылезал из местного телеграфа. Эта газета дала сразу несколько телеграмм подряд:
«Неизвестная женщина, прибывшая из Астрахани, напала на проходившего по селу Гр. Распутина и огромным солдатским кинжалом нанесла удар в область живота. Оружием задеты кишки». Под телеграммой стояла дата: 28 июня, и время: 14 часов 11 минут.
Надо отдать должное этому корреспонденту. Чтобы повысить интерес к событию и оправдать трату денег на телеграммы, он привирал. У специалистов более позднего периода такие натяжки проходили под видом «художественных обобщений» либо «обобщений сюжетных во имя правды», «реалистических осмыслений» и тому подобного. Корреспондент был грешен, грешил он специально – знал, что в «Курьере» его не накажут.
Вторая телеграмма была более короткая: «Распутин в агонии. Раненый говорит: “Выживу, только страсть как больно”. Священник причастил его. 29 июня, 1 час 55 минут».
Под третьей телеграммой время не было указано: «По распоряжению губернатора у всех в селе отобраны паспорта».
Новость о покушении подняла на ноги Петербург. Другие газеты не смогли ничего дать о происшедшем – только «День», и то в большей степени предваряя события. Статья Александра Ивановича оказалась очень к месту и «Петербургский курьер», взбудораживший светские салоны фразой из второй телеграммы о том, что священник причастил «старца».