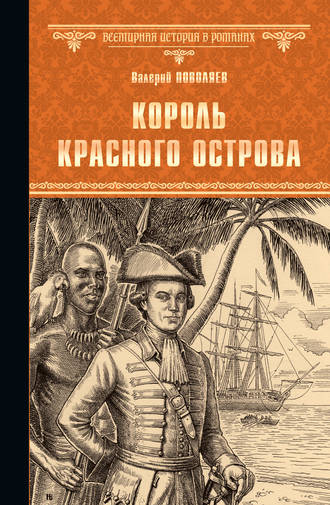
Валерий Поволяев
Король Красного острова
О кузнецовском долге он и подумал сейчас.
Окинув острекающим взором шахматные фигуры, купец азартно потер руки и сделал первый ход. Беневский, совершенно не думая, – машинально, – также сделал первый ход, ответный.
– Однако, – привычно молвил Холодилов и задумался над вторым ходом.
Через пятнадцать минут Беневский объявил ему мат. Купец неверяще потряс головой, фыркнул громко и разрезал ладонью воздух – будто тесаком.
– Давай вторую партейку, – потребовал он.
Молча, не говоря ни слова, Беневский вновь расставил на доске фигурки.
– Не может быть, чтобы я тебя не обыграл, чужеземец, – воскликнул Холодилов и опять азартно потер руки. – В этот раз обыграю!
Беневский продолжал молчать, только на лице его появилась далекая, едва приметная улыбка, – появилась и тут же исчезла.
Во второй партии он разбил купца в несколько раз быстрее, чем в первой – поставил мат в четыре минуты, Холодилов лишь изумленно воздел над головой руки да застонал от бессилия: против чужеземца он не тянул.
– Еще партеечку! – воскликнул купец, сорвал с пояса кожаный кошель, сшитый из шкуры лахтака, потряс им. Послышался глухой серебряный звон. – Денег у меня много, играть будем долго.
Беневский вновь молча расставил фигуры на доске и стремительно, невесомым движением двинул вперед одну из пешек. Холодилов сделал то же самое. В то же мгновение, перешагнув через строй пешек, конь Беневского сделал свой сложный Г-образный ход: Морис, кажется, совсем не раздумывал, какой ход сделать в следующее мгновение, все совершал автоматически.
Купец также не стал задумываться, ухватился пальцами за коня и повторил ход Беневского – решил сыграть зеркальную партию, хотя должен был понимать, что в зеркальных партиях обычно выигрывает тот, кто сделал первый ход, это закон. Беневский укоризненно покачал головой.
Холодилов этого не заметил, был увлечен игрой, внимательно следил за руками Беневского – какую фигуру тот схватит? Маурицы в образовавшийся проход продвинул офицера. Купец сделал то же самое. Через полминуты Беневский объявил ему мат.
– Тьфу! – громко отплюнулся Холодилов. – Вот шельма! – Он ожесточенно потряс лохматой головой. – Шельма!
Что такое шельма, Беневский не знал, но догадывался, что слово это не самое хорошее. На лице его ничего не отразилось, оно было очень спокойным, почти неподвижным. Купец вновь встряхнул свой кошель, привычно притиснул ухо к гладкому шерстистому боку.
– Давай еще!
Еще так еще. Беневский привычно расставил на доске фигуры. Он по-прежнему продолжал молчать, словно бы всякая речь, даже несколько коротких слов были для него непосильной нагрузкой. Холодилов потряс головой, потер руки, вытянул их перед собой, проверяя, дрожат пальцы или нет – пальцы дрожали, как у заурядного выпивохи, и он постарался поскорее ухватиться ими за шахматную фигурку.
Игра продолжалась.
Окончилась игра, когда на востоке, рвано повиснув над горизонтом, зажглась красная полоска – занималось тяжелое позднее утро. Всего Беневский выиграл у купца Холодилова пятьдесят с лишним рублей.
Днем эти деньги Беневский отнес в канцелярию Нилова, вручил их изумленному Спиридону Судейкину, заправлявшему вместе с разжалованным казаком Иваном Рюминым большерецким делопроизводством. Такой крупной суммы денег Судейкин, похоже, никогда не держал в руках.
– Выпустите из «холодной» человека, который задолжал деньги своему помещику, – проговорил Беневский суровым тоном. Вытащил из кармана матерчатый кулек, набитый серебряными монетами. Со звоном высыпал содержимое на стол.
Канцелярист мигом сообразил, что к чему, осуждающе покачал головой.
– Ты бы лучше, мил человек, эти деньги для себя сохранил, – сказал он, – пригодятся ведь.
На длинном, с ложбиной носу Судейкина висела мутная простудная капля, глаза слезились – он не понимал поступка, который совершал ссыльный, это просто не укладывалось в его, с годами здорово облезшей голове.
Лицо Беневского напряглось, взгляд сделался жестким.
– Освободите из «холодной» человека, – проговорил он негромко, но очень твердо. – Вот его долг, – Беневский ткнул пальцем в горку денег, выложенных на стол.
– Освободим, освободим, – суетливо закивал головой Судейкин, – не сомневайся.
– И расписку мне выпишите, – потребовал Беневский, – на имя этого человека, чтобы впоследствии к нему не было никаких претензий. Понятно?
– Понятно, понятно, – вновь по-голубиному закивал лысеющей головой Судейкин. Капля сорвалась с его длинного носа и шлепнулась на стол.
Беневский невольно поморщился. Спиридон сорвавшейся с носа капли просто не заметил. Несмотря, что день еще только начинался, от него уже попахивало водкой.
Запас водки был у капитана Нилова практически неисчерпаемый: вместительный подвал комендантского дома, занимали бочки с водкой. Там даже места для сладкой брюквы и репы, без которых тогда не обходился ни один российский стол, не оставалось. Всюду стояла водка – бочки, бочки, бочки… Писарчук Судейкин, считавший себя ближайшим помощником коменданта, имел туда свободный доступ.
– Расписочку, говорите, – Судейкин ухватил скибку брюквы, которая нарезанной горкой лежала на деревянном блюдце, кинул ее в рот. У глаз Спиридона, в уголках, собрались довольные морщинки.
– Расписочку, – подтвердил Беневский.
– Как его фамилия, говорите? – протянул Судейкин и, наткнувшись на жесткий непонимающий взгляд Беневского, засмущался, замахал одной рукой. – Знаю, знаю… Кузнецов его фамилия.
– Вот и начертайте бумажку на имя Кузнецова, – смягчаясь, велел Беневский.
– Чичаз, – Судейкин ухватил пальцами еще одну скибку брюквы и, распахнув рот пошире, издали запузырил в него скибкой. Стрелял он метко, без промаха. Да и уж очень сочной и сладкой была брюква.
Когда расписка была готова, Беневский ухватил канцеляриста за ухо и заставил того оторвать зад от скамьи.
– А теперь, сударь, берите ключ и идите отпирать «холодную».
Судейкин взвизгнул:
– Как вы смеете?
– Смею, – спокойно произнес Беневский, скомандовал: – Вперед! – рука у него хоть и была небольшой, но очень крепкой.
Через десять минут Кузнецов вышел из «холодной», подслеповато щурясь, огляделся – слишком ярким, режущим был свет на улице после сумеречного, как поздний вечер, помещения для нарушителей большерецких устоев, потом с хрустом расправил чресла и направился к себе домой. Жила в маленькой утепленной хате, сколоченной из плавника – деревьев, вынесенных на берег морским течением. Шел и горевал по дороге – в доме оставался кот Прошка, жив он сейчас или нет? Ведь Прошку в отсутствие хозяина никто не кормил.
С другой стороны, Прошка принадлежал к породе котов, которых кормить не надо – он сам себе добудет еду: Прошка умел и рыбу ловить, и лесного зверя преследовать, а что касается еды, то мог отнять ее у любой собаки – большерецкие псы боялись с ним связываться.
Хата кузнецовская, стоявшая на самом краю поселения, двумя окошками на темную воду реки, была закрыта на щепочку, – как ушел хозяин из нее, сунув в петли замка прочный сосновый сучок, так закрытой на сучок она и осталась, вокруг дома – кошачьи следы, густая топанина… Значит, Прошка жив, находится здесь.
Крыльца у хаты не было, стояла без крыльца, на фундаменте, сложенном из легких пузырчатых камней, – как подозревал Кузнецов, такие камни выплевывали из себя горы, над которыми всегда курится дым, горы эти были сердитыми, живыми, иногда внутри у них раздавалось рычание, а под ногами начинала дрожать земля – что-то таинственное происходило там, и люди невольно задумывались: а что это за горы? Не опасно ли жить с ними по соседству?
Сейчас мы знаем, что горы эти называются вулканами, и тогда это знали, только не все. Кузнецов вздохнул, оглядывая пространство подле дома – вдруг где-нибудь неподалеку находится Прошка, кота не засек и выдернул сучок из дужек замка.
Из глубины дома, из темного, пахнущего дымом и травой нутра, на него дохнул холод – всякое жилье обладает способностью делаться не только мерзлым, но и совсем нежилым, стоит только не ночевать в нем пару дней, присутствие кота, правда, обычно продлевало этот срок, но ненадолго – еще на пару дней.
– Эх, Прошка, Прошка, – Кузнецов невольно вздохнул, – где ж ты есть, Прошка? и жив ли?
В тот же миг за дверью, на улице, раздалось радостное мяуканье. Кузнецов резко вскинулся, чуть головой не всадился в низкий потолок, отер кулаком глаза:
– Прошка! Жи-ив!
Прошка был жив. И здоров. Только шерсть на нем висела извалявшимися лохмотьями, да физиономия была исхудалая, лишь скулы да усы торчали в разные стороны. Но желтые крупные глаза горели светом ясным и задорным. Кузнецов распахнул дверь, и Прошка прыгнул ему прямо на руки.
– Прошка! – Кузнецов вновь отер кулаком глаза и прижал Прошку к себе.
Низенькая изба Кузнецова имела вместительный чердак – без чердаков и крутых, с резкими взлетами крыш, над которыми торчали пеньки труб, на Камчатке было нельзя жить, – могло запечатать снегом в избе так, что люди потом не сумеют обнаружить до самой весны. А высокая крыша и труба были гарантией того, что человек, находящийся в хате, не пропадет.
Правда, всякая труба, имевшаяся в Российской империи, здорово терла хозяину карман – за нее приходилось выкладывать деньги, налог на трубы был высок, и капитан Нилов за взиманием денег следил строго.
На чердаке у Кузнецова, на длинных веревках висели снизки вяленой рыбы – жирной чавычи, чавыча считалась самой крупной рыбой в камчатских водах, отдельные особи доходили до ста фунтов весом, а это по нынешним меркам – сорок с лишним килограммов, – и Кузнецов ловил такую чавычу.
Кроме чердака у Кузнецова имелся еще сарай, там тоже вялилась рыба. Но та, которая на чердаке, была нежнее, слаще, жирнее рыбы, вялившейся в сарае.
– Жди, Прошенька, – пробормотал Кузнецов растроганно и полез на чердак, чтобы достать коту сладкий хвост.
Прошка от такой перспективы замурлыкал громко – так, что мурлыканье было слышно на том берегу реки Большой, начал тереться боком о лестницу, приставленную к стенке и чуть не сбил ее вместе с хозяином. Но Кузнецов не дал себя сбить, секанул ножом по рыбьему хвосту, легко отпластал кусок килограмма в полтора, порезал его на куски помельче и выложил коту на деревянной плошке: ешь!
В доме было холодно, холоднее, чем на улице, нужно было срочно топить печь, чтобы иней убрался изнутри, со стен, но Кузнецов не стал этого делать, – потом, все потом, – переоделся в новую рубаху, подпоясал ее шелковым шнурком и, выбрав самую крупную чавычу из всех, что висели на чердаке, взвалил ее, как бревно, на плечо и понес к хате Хрущева, где жил благодетель, вызволивший его из «казенного дома».
Войдя в хату, поклонился в пояс Беневскому, сидевшему в одиночестве над шахматной доской, проговорил тихо, неожиданно дрогнувшим голосом:
– Благодарствую, Морис Августович, – Кузнецов назвал Беневского на российский лад по имени-отчеству, как, собственно, и должно быть у уважающих друг друга людей. Потом, помолчав немного – никак не мог справиться с собой, – добавил: – Век этого не забуду, за все отплачу добром.
Беневский улыбнулся, махнул рукой ответно:
– Не стоит благодарности… Все так и должно быть.
Кузнецов положил на лавку чавычу, завернутую в чистую холстину – даже тряпку для этого не пожалел, так был благодарен Беневскому, а всякий клок материи в хозяйстве на Камчатке был дорогим и стоил немало, – вновь поклонился в пояс и вышел за дверь, на улицу.
Серое небо раздернулось, в нем, прямо посередине образовалась прореха и в прореху эту выглянуло любопытное солнце, похожее на круг мороженого коровьего молока: по белому холодному полю разбросаны желтоватые масляные пятна, в центре круга застыло такое же желтоватое неровное пятно.
Мир разом посветлел, на душе тоже сделалось светлее, Кузнецов не выдержал – на крепком, основательно обработанном здешними ветрами лице его возникла улыбка.
Это ведь здорово, когда на небе появляется солнце, здорово, когда в жизни встречаются такие люди, как этот ссыльный господин…
Иногда у капитана Нилова тоже возникали просветления в сознании, много повидавшая седая голова его начинала рождать что-нибудь толковое. Если пройтись по большерецким, то можно отыскать человек пятнадцать-восемнадцать детишек, имевших справных грамотных отцов, в основном, казачьего звания, которые и лавки держат, и амбары, и пушнину добывают, и самородное золото; люди эти, благодаря грамоте и хватке своей выбились в люди, а вот дети их из-за того, что неграмотные, не смогут преуспеть в жизни, как родители…
Дело это надо обязательно поправить и научить детишек грамоте. Что для этого нужно? Нужно открыть в Большерецком остроге школу. Мысль об этом крепко засела в голову коменданта.
Тем более, что у него самого подрастал сын Гришка, неграмотный оболтус, гонявшийся по берегам реки за чайками и от нечего делать связывавший самцов горбуши друг с другом за хвосты и потом пускавший их плавать в реку Большую. Звонкий Гришкин хохот был слышен, наверное, не только на Камчатке, но и дальше…
Пока жив сам Нилов, он, конечно, Гришке не даст пропасть, но что будет, когда Нилова не станет? Такое будущее – очень туманное, лишенное света, тревожное, беспокоило большерецкого коменданта, и он решил открыть в остроге школу.
Недостатка в учителях у него не будет, это Нилов знал хорошо: любой ссыльный из полутора десятков бедолаг, находившихся в Большерецке, мог дать солидную фору любому профессору – здесь, на краю краев земли, собрались выдающиеся люди…
Подумав немного – не без сомнения, естественно, – Нилов с кряхтеньем поскреб пальцами затылок и послал канцеляриста Судейкина к Беневскому.
– Приведи ко мне этого строптивого поляка, – велел он.
Судейкин бегом, почти вприпрыжку, будто мальчишка, помчался исполнять приказание коменданта. Вскоре он привел Беневского – недоумевающего, с насмешливым лицом и улыбкой, прочно припечатавшейся к губам. Нилов, увидев его, тоже расплылся в улыбке.
«С чего бы это? – невольно мелькнуло в голове Беневского. – Прошлый раз он выглядел зверь зверем, а сейчас – сама доброта. Не человек, а Масленица – праздник, популярный у русских».
– Господин Беневский, предлагаю вам принять участие в добром деле, – сказал комендант, задышал часто.
– Всегда готов! – веселым тоном отозвался Беневский.
– Мы тут подумали и решили… – комендант покашлял в кулак, о себе он говорил во множественном числе и в уважительной форме, совмещая «ты» и «вы» – решили, что на Камчатке должна быть школа.
– Хорошее дело, – одобрил намерение коменданта Беневский.
– И я так полагаю, – расцвел комендант, нос у него засветился и он выкрикнул: – Судейкин! Ну-ка, порежь нам рыбы-красницы и икры подай! Мы с господином Беневским должны закрепить одно хорошее начинание.
– Сей минут! – вскричал канцелярист и привычно затопал ногами по полу.
Он действительно уложился в минуту: и икры принес, и рыбы, и хлеба, нарезанного крупными ломтями, и две очищенные, располовиненные луковицы. Нилов поднялся, достал из самодельного буфета глиняный кувшин, заткнутый деревянной пробкой с вбитым в нее железным крючком, чтобы было удобно извлекать из горлышка. Водрузил кувшин на стол.
– Это водка, – важно проговорил Нилов, – привезена к нам аж из самого Иркутска.
Водку Нилов разлил по глиняным плошкам: культурный был капитан, политес знал, понимал, что водку пить из кружек неудобно – ошпариться можно, хотя в империи Российской нет такого мужика, который умудрился бы ошпариться водкой.
От водки Беневский отказываться не стал, выпил охотно. Нилов проглотил свою порцию едва ли не с плошкой, в последний миг выдернул эту глиняную фиговину у себя из глотки, крякнул довольно.
– После первой, не прерываясь, надо выпить вторую, – поучающе произнес он.
– Это почему же?
– Кончики пальцев могут посинеть, – пояснил Нилов совершенно неожиданно и захохотал, – а потом слезут ногти, господин Беневский.
Беневский посмотрел на него удивленно – не ожидал столь плоской шутки от почтенного человека, командовавшего целым континентом.
– Занятия будем проводить в помещении, примыкающем к канцелярии, – сказал Нилов, наливая по третьей плошке. – Когда сможете приступить к урокам, господин Беневский?
– Да хоть завтра.
– Вот завтра и начнем. Не будем откладывать на послезавтра.
Слух о том, что комендант открыл в Большерецке школу для ребятишек, облетел всю Камчатку, об этом узнали даже коряки, кочующие по Дальнему Северу. В Большерецк с сыном торгового казака Никиты Черных приехал любимый отпрыск попа из Ичинска – а это ни много ни мало, четыреста с лишним верст, – отпрыска звали Алехой и он очень хотел познать грамоту.
Поселился Алеха – он же Алексей Устюжанинов – там же, где жил Маурицы Беневский, в доме ссыльного поручика Петра Хрущева. Домик, казалось, был небольшой, но вот ведь как – очень вместительный, воздуха хватало всем, а главное – жизнь в нем была интересная. Беневский и Хрущев рассказывали такие штуки, что у Алеши даже дух перехватывало – оказывается, их Камчаткой, Ичинском да Большерецком мир не ограничивался, жизнь кипела и на других землях.
Беневский говорил с акцентом, иногда путался в словах и переходил на немецкий либо французский язык, затем, словно бы спохватившись, вставлял фразу по-польски и снова возвращался на круги своя, начинал говорить по-русски. Русский язык был для него труден, да не только для него – длинный сумрачный швед Винблад вообще предпочитал молчать, а не говорить: тяжелый язык не давался ему совершенно. Кроме слов «спасибо» и «здравствуйте» он так ничего и не выучил.
– Далеко-далеко отсюда, примерно в двух месяцах пути морем лежит некая теплая земля, – рассказывал Беневский бывшему гвардейскому поручику, – разные народы зовут ее по-разному. Там нет зимы, нет холодов, как нет и жары, круглый год на деревьях растут сладкие плоды, а на полях вызревает пшеница, в лесах полно оленей и косуль, в реках очень много рыбы… Рыбы примерно столько же, что и здесь, на Камчатке. Вино делают из фруктов, а из пальмового сока получают водку. В языке народа, живущего в тех краях, нет ругательных слов, люди все равны, не существует ни богатых, ни бедных – повторяю, люди там равны, все имеют золотую посуду, из которой они едят не только по праздникам, но и по будням, стада коров, овец, коней невероятно тучны. На деревьях с утра до вечера поют птицы, в домах играет музыка, люди и природа на той земле представляют из себя единое целое. Там не бывает пасмурных дней, только солнечные, солнце и обилие воды позволяют выращивать богатые урожаи и жить в вечном лете…
Тут Беневский неожиданно замолчал, на лице его появилось расслабленное мечтательное выражение.
– А дальше что? – не вытерпев, спросил Хрущев.
– Что дальше? – Беневский вскинул голову. – Дальше – жизнь, дорогой друг, хорошая сытая жизнь, которой можно только позавидовать.
– Как называется та земля?
– Я же сказал: разные люди называют по-разному. Одни называют рапобаной, другие Эоном, третьи Сативией, четвертые Чаруком, я же называю по-своему, – Беневский вздохнул и опять замолчал. Что-то он сегодня совсем не был похож на себя – это был другой Беневский.
– Как? – нетерпеливо спросил Хрущев.
– Государством Солнца.
– Государство Солнца, – эхом повторил за ним Хрущев. – Красиво звучит. – Государство Солнца… Как в сказке. Правда?
Беневский согласно наклонил голову – как и все люди, он любил слышать приятные вещи.
– Кто знает, может быть, когда-нибудь и нам удастся побывать там, – произнес он тихо, прислушался к вою ветра, столбом взвинтившемуся под окном их избенки, такой ветер всегда навевает на человека тоску, – по лицу Беневского проползла и тут же исчезла прозрачная тень. – Если, конечно, мы будем живы, – добавил он.
Алешу Устюжанинова его рассказ ошеломил: неужели такие земли и впрямь есть на белом свете? Он неверяще завозился на топчане, покрытом медвежьей шкурой.
– А что, Морис Августович, – голос Хрущева неожиданно наполнился молодым звоном, – на этом свете все может быть.
Глаза у бывшего поручика загорелись, был он человеком увлекающимся, вспыхивал мгновенно, – хлопнул ладонью о ладонь.
– Готов обсудить любой план, любое предложение, – тихо, каким-то бесстрастным, лишенным выражения голосом произнес Беневский…
Но разговор, к сожалению, на этом и закончился.
В крохотной школе, где насчитывалось всего семнадцать учеников, Беневский вел два предмета: географию и французский язык. Из бумаги и тонких тростинок он склеил глобус, по памяти свинцовым карандашом нанес континенты, разделил их на страны, провел границы… Именно от Беневского Алеша Устюжанинов впервые узнал, что земля, оказывается, не плоская, а круглая и все рассказы о том, что она держится на трех китах, на огромных спинах их – обычные бабушкины побасенки.
Впрочем, насчет китов Алеша сомневался и раньше, еще до того, как он услышал от Беневского удивительную новость о том, что земля круглая. Это какие же должны быть киты, чтобы держать на себе такой груз? Они же ни в какое море не влезут.
Уроки французского были еще более удивительны, чем уроки географии. Французская речь показалась Устюжанинову похожей на птичью – короткие р-р-рокочущие звуки сменялись напевными, долгими, «р», похожее на стук свинцовой дроби, упавшей на каменную плитку, внезапно переходило в раскатистое «ё» – ну будто лахтак игрался с неркой…
– Надо же! – удивлялся он и пробовал родить глухое, очень симпатичное «р», это ему не удавалось и Алексей удивленно щелкал языком: – Надо же!
А ведь кроме французского, как слышал Устюжанинов, есть еще и немецкий язык, и английский… И кое-что еще. Вон долговязый швед Винблад тоже поет, щебечет по-своему, и так забавно это делает, что даже всезнающий Беневский не всегда понимает его.
Удивительные все-таки вещи можно услышать в школе. Устюжанинов удивлялся тому, что видел и узнавал, Беневский же, в свою очередь, тоже был полон удивления – открывал для себя некие штуки, а порою и целые явления, с которыми не был знаком.
Он никогда не видел, чтобы в реках было так много рыбы – она даже не помещается в воде, ее целыми косяками выдавливает на берега, такого нет нигде в мире, даже на Трапобане, скорее всего, нет, а здесь есть…
Беневский выходил на берег Большой реки, либо шел на Быструю, – и удивленно наблюдал, как в воде, у самых ног, цепляясь плавниками за камни, шли тучные рыбины, окрашенные в яркий брусничный цвет, бились яростно, когда их пытались выдавить на берег, на землю, – все происходило в оглушающем безмолвии и давило на виски, затылок, грудь, заставляло учащенно биться сердце.
Интересная все-таки жизнь была на Камчатке.
Что еще удивило Беневского, так факт, что в здешнем море, даже в мутном заливе, куда заходили и где отстаивались, отдыхали, ремонтировались корабли, водились голубые акулы. Он думал, что эти чудища водятся много южнее, в теплых водах, а оказалось, нет – водятся и в холодном море, окружающем большерецкую землю и, вполне возможно, даже зимуют подо льдом.
Мясо акул было несъедобным, от него даже собаки отворачивали морды, повизгивали жалобно, – и вкусом и запахом мясо это напоминало гниль, посыпанную золой и пеплом, но плавники у акул были съедобные, и суп из них, как знал Беневский, в Европе считался лакомством. Еще у акулы была съедобна печень, она у гурманов также считалась лакомством. Важно только, чтобы печень эта была чистая, лишь в этом разе ее можно есть, во всех остальных нельзя.
Однажды Беневский видел, как двое туземцев-камчадалов выволокли на берег акулу, вспороли ей брюхо ножом, вывернули печень и поморщились брезгливо – в печени шевелились крупные белые черви.
В результате камчадалы подхватили акулу и швырнули в воду, отказались даже от плавников.
Ловить акул было несложно, они сами насаживались на любую дохлятину, лишь бы кусок был пожирнее да повонючее, и крючок попрочнее, за таким куском они сами выпрыгивали из воды и подвешивались на крюк. Ловили же акул в большинстве своем ради баловства да забавы.
Зубы у голубых акул были кривые, опасные, и камчадалы их побаивались – даже случайно оцарапанный о зуб палец вспухал тугим нарывом и долго не заживал – челюсти у голубых акул были грязными.
Иногда люди, балуясь, привязывали к акулам кухтыли – надутые воздухом рыбьи пузыри и бросали в залив, акулы долго носились по поверхности воды, не в состоянии уйти в глубину – их не пускали кухтыли, – взбивали буруны, изгибались в опасные дуги, потом, усталые, исчезали.
Долгими темными вечерами Беневский и Хрущев начали засиживаться за столом, чертили какие-то схемы, рисовали, делали расчеты, которые Устюжанинов не мог понять и очень жалел, что не может стать помощником этим серьезным интересным людям.
Перед тем как море окончательно покрылось льдом, уже в морозы, в Большерецкую бухту, кренясь на один борт, вошел военный галиот «Святой Петр». Корабль был основательно облеплен льдом, потерял поворотливость, отяжелел и с трудом встал на якорь недалеко от берега.
Но будь глубина малость позначительнее, он вообще бы прижался к берегу, только вот штурман Максим Чурин, командовавший боевым судном, сделал промеры воды и велел близко не подходить – опасно. А береженого, как известно, Бог бережет.
В Большерецкой бухте галиоту надлежало зазимовать. Поблизости находились люди, целое поселение, ежели что, они не дадут команде пропасть, это Чурин понимал хорошо и на этом строил расчет зимовки.
Вскоре рядом со «Святым Петром» оказался второй галиот, еще более потрепанный, помятый подступающей зимой – «Святая Екатерина». Зимовать двумя экипажами было веселее. И вообще в компании все беды переносятся легче.
На следующий день после прибытия «Святой Екатерины» от берега к боевым кораблям потянулась полоса льда, похожая на дорожку, по которой можно будет через некоторое время ходить. Похоже, скоро должны были ударить морозы.
Беневский послал в залив Кузнецова – пусть острым своим глазом оглядит суда, а потом изложит, что они из себя представляют. Самому Беневскому светиться лишний раз в военной бухте было нельзя: неведомо, что пьяному капитану Нилову взбредет в голову, может ведь подумать что-нибудь плохое и определить ссыльного в «холодную» на долгий срок. В Большерецке все может быть: жизнь есть жизнь, а вечная ссылка есть вечная ссылка.
Получив задание, Митяй Кузнецов пришел домой, глянул, не видно ли где Прошки? Кота не было, видать, унесся куда-то по своим срочным кошачьим делам. Тогда Кузнецов сунул в рот два пальца и оглушительно свистнул. Это он умел – от свиста с его крыши даже дранка посыпалась.
– Прошка!
Прошка свист услышал, примчался к хозяину, выгнул дугою спину.
– Прыгай, Прошка, на плечо, пойдем с тобою прогуляемся в бухту, посмотрим, что за гости к нам пожаловали, – сказал ему Митяй.
Кот глянул на хозяина понимающе, лучисто и, не разбегаясь, с места совершил ловкий длинный прыжок. Привычно уселся на широком плече.
– Молодец! – похвалил его Кузнецов.
Оба галиота были изрядно потрепаны непогодой и у команд пока не было сил ремонтировать их, да и в холодную пору особо не поремонтируешь, надо было немного прийти в себя, отдышаться, оглядеться, запастись кое-какой едой.
Конечно, была у галиотов надежда и на крепостные запасы и капитана Нилова – ведь в остроге провиант всегда заготавливали впрок, с верхом, особенно – рыбу.
Заготавливать ее было, повторюсь, просто: во время нереста, когда кета шла вверх по рекам очень плотно, рыбу добывали обычными вилами, складывали, как сено в телеги и везли в острог.
Там работала специальная команда засольщиков, потрошила кету, укладывая ее ровно, голова к голове в бочонки, пересыпала солью, дроблеными корешками, душистыми травами, чтобы отбить специфическую вонь, появляющуюся по весне, другая команда занималась вялением, сушила рыбьи тушки, подвешивая их на веревки. Так что рыба в Большерецкем остроге была всегда.
Правда, за год до того, как Беневский с Винбладом появились на Камчатке, рыба не пришла в здешние реки и в Большерецке случился голод.
Ели все подряд, что можно было жевать (и вообще разжевать) – кору деревьев, мерзлые водоросли, кошек, собак, всю живность без исключения, добытую в лесу – ворон, вонючих хорьков, коренья растений, лисьи тушки, – ничем не брезговали. Главное было – выжить. Но потом и малосъедобных лисьих тушек не стало – среди зверья также начался голод.
«Трудно описать все бедствия, перенесенные камчадалами, – заметил впоследствии один из исследователей событий, происходивших в восемнадцатом веке на полуострове. – В пищу употреблялись кожаные сумы, езжалые собаки, падаль и, наконец, трупы умерших от голоду своих родственников».
Да, ели даже мертвых людей… Но большерецким обитателям досталось меньше, чем тем, кто жил в тундре.
При этом надо заметить, что годом раньше Камчатку подмяла другая беда. Великая беда. «В зиму 1768–1769 годов свирепствовала на Камчатке оспа, похитившая 5767 инородцев и 315 человек заезжих русских людей, – писал тот же исследователь. – Вслед за этим бедствием обнаружился повсеместный неулов рыбы, которая заменяет здешним жителям хлеб».
Трудно было. И хотя в Большерецке, в комендантских погребах имелись хорошие запасы продовольствия – на случай каких-нибудь серьезных военных осложнений, – выжили далеко не все, продуктовые залежи не помогли, большерецкий погост пополнился несколькими десятками могил, оставшиеся в живых ходили как тени, выплевывали изо рта ослабшие зубы и плакали, когда в небе наконец появилось весеннее, способное обогреть человека солнце.
На кузнецовского Прошку тоже покушались, хотели сварить из него суп, но Митяй забил картечь в стволы двух своих ружей и выставил их в дверной проем. Предупредил:
– Ну, любители кошатины, попробуйте только подойти! Дырки в своих шкурах считать замучаетесь.
В общем, Прошка уцелел. А летом в Большерецк на одном из галиотов доставили полсотни собак и столько же кошек – пусть размножаются, мол.
Но Кузнецов, пока была возможность, из избенки своей старался без особой надобности не вылезать и Прошку за порог не выпускать – сохранял кота. Еды у него, конечно, было, как у всех, может, чуть поболее, но он все-таки был охотником и всегда мог добыть какую-нибудь зверушку (пока они сами не передохли, естественно), умел ловко ставить петли, слопцы, сооружать хитрые ловушки, метко стрелять из ружья и мушкета и вытаскивать рыбу из подо льда.
В общем, голод в его хатенке, сложенной из темных потрескавшихся бревен, с сухим, скручивающимся в косички мхом, вылезающим из пазов, с двумя полуслепыми оконцами, обтянутыми рыбьими пузырями, полютовал меньше, чем в других местах. А в конце января Митяй и вовсе отличился: поднял из берлоги медведя, воткнул ему в живот рогатину, и пока косолапый ревел да рогатиной занимался, выдергивая ее из пуза, Кузнецов выстрелил из ружья и просек ему голову свинцовой пулей.







