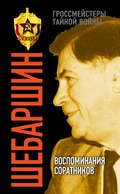Валерий Поволяев
Северный крест
Чижов благодарно наклонил голову.
– Буду очень признателен. Это первое. И второе – когда отплываем?
– Думаю, что вечером уйдем в море, завтра утром достигнем устья Онеги. В Онеге к нам присоединятся два монитора. – Лицо Лебедева сделалось озабоченным и грустным одновременно, в голосе просквозили ироничные нотки. – Хотя… – Лебедев приподнял перчатки, лежавшие на столе, и швырнул их обратно. – Монитор, с точки зрения военно-морского учебника, – хорошо вооруженное судно с низкой осадкой. С точки же зрения какого-нибудь местного трескоеда – старое дырявое корыто с плоским дном, вооруженное двумя пугачами и одной ржавой берданкой, ствол которой случайно не успела доесть ржавчина. Если нам дадут такие мониторы, то вся надежда будет только на вашу команду, поручик, – только она и сможет защитить такие мониторы. Команда у вас обстрелянная?
Печальная и одновременно озабоченная улыбка появилась на лице Чижова. Он отрицательно покачал головой. Усмехнулся.
– Команда у меня такая: сегодня она стреляет в красных и подчиняется ударам командирского стека, а завтра – разворачивает винтовки на сто восемьдесят градусов и по приказу комиссара первый залп всаживает в своих бывших командиров, второй залп – во всех остальных.
– Очень бы этого не хотелось, свят-свят-свят. – Лебедев, словно бы обжегшись обо что-то, помахал рукой перед собой, «жар разогнал». – Я так понял, вы со своими людьми в бою еще не бывали?
– Увы, – лицо Чижова сделалось виноватым, – не пришлось.
Чижов хотел было рассказать, что с ним произошло, про плен и побег из него, но смолчал: такие факты офицерскую биографию не украшают. Лебедев указал на кресло, стоявшее у небольшого, прикрученного к полу столика, пригласил присесть.
– Благодарю вас, – отказался поручик. – Мне пора к своим.
– Да ничего с ними не произойдет.
– Кто знает, кто знает… – Голос Чижова сделался озабоченным, он словно почувствовал что-то худое, но что именно, ни он сам, ни люди, оказавшиеся с ним в десанте, не могли сказать. И предугадать не могли.
Погоны на плечах поручика были новенькие, с красными «пехотными» просветами, яркие. Лебедев глянул на них и подумал, что верх погон соткан где-нибудь в Эдинбурге, сами погоны насажены на твердую негнущуюся прокладку в Мурманске, вручены боевому офицеру в Архангельске. Все, как в знаменитой песне про белогвардейцев – насчет мундира, котла, башмаков и характера…
– Как ваше имя-отчество? – спросил Лебедев у поручика.
– Сергей Сергеевич.
– Вы верите в предчувствия? – неожиданно поинтересовался Лебедев.
– Все, кто был на фронте, верят в предчувствия. Это закон.
– И я верю. – Лебедев поправил висевший у него на ленте кителя боевой орден – Святого Владимира с мечами. – Так вот, предчувствия у меня плохие.
Чижов удивился этой фразе, сопоставил ее со своими ощущениями и успокаивающе проговорил:
– Бог даст – пронесет!
– Хотелось бы. – Лебедев встал. Каюта у него была узкая, маленькая, в такой и одному человеку тесно, не то что двоим. Миноноска – корабль, где с одного борта до другого можно доплюнуть, особо не разгуляешься, поэтому здесь стеснены все, от кока и машинной группы до старшего офицера и командира корабля. – Хотелось бы, – повторил Лебедев задумчиво. – Чуть позже приглашаю вас на обед в кают-кампанию.
Чижов отрицательно покачал головой:
– Нет… Сегодня нет. Не получится.
* * *
Вечером Арсюха решил прогуляться по березовому городскому саду, где каждое дерево было похоже на статную северную молодку, наряженную в белые одежды. В саду этом легко дышалось, и когда Арсюха Баринов сходил на берег в увольнение, то обязательно заворачивал сюда. Здесь и любимого жирного сбитня можно было отведать, и пирогов со свежей треской, и чая из огромного трескучего самовара, у которого обычно хозяйничал разбитной малый в красной косоворотке, и княженики с морошкой – царских ягод, которые север много веков поставлял в Москву, а когда столица российская переместилась на берега Невы, то и в Питер. По выходным дням на торговых столах стояла и семга – рыба, тающая во рту, а в глубоких фаянсовых чашках аппетитными горками высилась рыжая семужья икра. Икра эта, конечно, уступала черной волжской и дальневосточной лососевой, красной, но все равно была хороша. Арсюха семужью икру уважал.
В саду уже было много народу, на деревянной веранде играл флотский оркестр, чередуя бравурные маршевые мелодии с щемящими, минорными; разнаряженные дамочки в восточных шелках, добытых с английских складов, кокетливо переглядывались с кавалерами, обмахивались веерами.
Над людьми барражировали, будто германские аэропланы, крупные северные комары.
Арсюха на лету схватил одного, сжал в кулаке.
– У, какой деловой! – произнес он удивленно. – Весь в полете, ни тебе «здрассьте», ни остальным «до свиданья»… Гад! – Он посмотрел на комара. – Не отводи глаз своих, сукин сын! Пузо наел, как купец московский. – Он тряхнул комара в руке. Из верхней части кулака торчала голова, из нижней – ноги. – Экземпляр!
Слово «экземпляр», услышанное совсем недавно, Арсюхе нравилось произносить – очень солидное слово, заморское, мудреное и звучит красиво, внушительно.
С довольным видом Арсюха растер комара о штанину. Произнес, в назидательном жесте вскинув указательный палец:
– Уничтожал я вас, уничтожаю и буду уничтожать! Враги вы!
Минут десять Арсюха постоял около старухи, торговавшей отменными сбитнями – свой товар она томила в небольших, на пол-литра, глиняных кружках с ручками, чтобы было удобнее браться; вязкая жировая пенка у нее получалась просто загляденье, восхитительная пенка – толстая, сочная, сладкая… Чтобы пенка была еще слаще, старуха мазала ее медом.
Стоит только съесть пару таких сбитеней, как сразу на бабу начинает тянуть. Да так сильно тянет, что пуговицы от клешей сами отстегиваются – летят во все стороны, будто пули, убить могут… Особенно если сбитень еще медом сдобрен – тут у-у-у…
Съев две кружки сбитеня, Арсюха отер рукою рот и, выпрямившись молодцевато, огляделся.
– Пхих! – произнес он привычно.
Самый желанный и самый податливый товар, который появляется в городском саду, – это кухарки.
Они вечно спешат, вечно заняты, всегда оглядываются – а не заметит ли их хозяин? – поэтому совершают торопливые поступки, но главное – не корчат из себя недотрог-гимназисточек. А это Арсюху Баринова очень устраивает.
Через несколько минут Арсюха пристроился к усталой бледнолицей кухарке, невесть как попавшей в нарядные березовые аллеи.
– «Разрешите, мадам, предложить руку вам, если муж ваш уехал по делам», – промурлыкал он слова песенки, которую услышал полмесяца назад в одной тесной матросской кампании, запомнил ее и теперь всем говорил, что сам ее сочинил во время перехода миноноски из Архангельска в Мурманск.
Кухарка глянула на него испуганно и шмыгнула в кусты. Это не огорчило Арсюху – таких кухарок в Архангельске – пруд пруди. В прекраснейшем расположении духа он двинулся дальше.
Дорожка, по которой он шел, была присыпана мелким желтым песком, он приятно хрустел под каблуками. Широкие клеши, словно бы соразмеряясь с неторопливым прогулочным шагом Арсюхи, лихо подметали дорожку – песок только кудрявился, отлетая в сторону, свинцовые гайки, вшитые в края штанин, держали черные клеши, стачанные из тонкого английского сукна, в натянутом состоянии – ни одной морщинки на них не было, такие штаны нравились Арсюхе, как нравилось и то, что он, засунув руки в карманы, может мести городской тротуар не хуже любого патентованного дворника.
Правда, у военмора первой статьи Арсюхи Баринова несколько подкачал живот – больше похож он был на раздутый баул депутата Государственной думы. Но какой ныне мужик, если он считает себя настоящим мужиком, не имеет живота? А потом, два похода на Онегу, пара сэкономленных на собственном желудке банок «ананасов в сахарном сиропе» и несколько романов с молчаливыми поморскими вдовами легко приведут его в норму.
Перед закатом особенно звонко расщебетались местные пичуги, от их пения у Арсюхи даже обмякло, обвисло складками лицо, на глазах появился благодарный блеск, он остановился у боковой, уводящей в глубину сада пустынной дорожки, скребнул гайками, вшитыми в штанины, по песку, огляделся – после сбитеня надо было сбросить напряжение в мочевом пузыре, стравить пар и воду – переполнился…
Он глянул в одну сторону, потом в другую, никого не засек, ни их благородий, ни бледных барышень, вожделенно посматривающих на золотые погоны офицеров, и шагнул за густой куст, облепленный бледными длиннокрылыми насекомыми, расстегнул широкий, как бабий подол, передний клапан своих штанов.
Морские клеши имеют, как известно, совсем другую конструкцию, чем обычные мужские брюки – ну, скажем, офицерские бриджи. У бриджей есть гульфик с пуговицами, а у клешей – подол. Отвалил этот подол Арсюха и начал неторопливо обрызгивать куст.
Невдалеке играла музыка, звенели птицы, в розовом вечернем воздухе серебрились невесомые летающие нити. Хорошо было. Арсюха и не заметил, как рядом с ним оказались двое приземистых парней с крепкими подбородками, в железнодорожных форменных фуражках, украшенных серебряными молоточками.
– Мочишься? – благодушно спросил один из них.
Видимая благодушность эта обманула Арсюху.
– Напряжение стравливаю, – объяснил он, – не то из носа уже капать начало. – Стряхнул под ноги несколько золотистых капель, пожаловался: – Вот закон природы, по которому рыба плавает в море – сколько ни стряхивай последние капли, как ни тряси причиндалом – капли эти обязательно окажутся в штанах.
– Стряхнул? – спросил один из железнодорожников.
– Стряхнул, – ответил Арсюха, покосился на крепыша. – Даже куст не подмыл, – он подергал одной рукой за ветку, – не уплыла сирень, здесь стоит. – Арсюха рассмеялся довольно – собственная речь показалась ему остроумной.
В следующее мгновение сильный удар в ухо опрокинул Арсюху на землю. Он, готовый ко всяким напастям, не ожидал, что удар будет таким мощным, охнул и полетел головой в мокрый куст.
Ткнулся носом в собственную мочу, поморщился – вонючая была, сморкнулся кровью.
– Ну, гады, – заскрипел он зубами, поднялся на ноги. – За что?
В следующее мгновение опять очутился на земле – новый удар не заставил себя ждать. Арсюха вновь шмякнулся лицом в мочу, хапнул ртом земли, на зубах у него захрустел мокрый соленый песок.
– Хады, – прошепелявил он. Впереди не было одного зуба. – За что, паровожники?
– За Авдотью, – прежним доброжелательным тоном пояснил один из «паровозников». – Помнишь такую?
– Нет, – мотнул головой Арсюха и вновь полетел на землю. Мокрый песок окропили кровяные брызги.
Арсюха приподнялся на руках – противно было валяться в собственной моче, сплюнул под себя кровь и заныл:
– За что, мужики-и? Объяшните хоть.
– Авдотью помнишь?
– Нет, – вторично помотал головой Арсюха.
– Вот козел, – удивленно произнес железнодорожник с благожелательным голосом, ухватил Арсюху за воротник нарядной матросской рубахи, рывком поставил на ноги. – Девку начинил потомством и не помнит, как это сделал… Вот козел!
Железнодорожник неторопливо прицелился и впечатал кулак прямо в глаз Арсюхе.
Тот ойкнул, развернулся вокруг собственной оси и вновь полетел на землю. Опять в мочу. В полете попробовал ухватиться руками за куст и сбил на себя целый сноп соленых золотистых брызг. Будто под дождь попал.
Авдотью он, конечно, помнил и даже жалел ее, считая, что девка вляпалась по неосторожности, и готов на эту тему поговорить, но разве эти чумазые мазутные души поймут чувства настоящего моряка? Арсюха ощутил, как глаз у него набухает горячей свинцовой тяжестью.
Гореть после этого глаз будет долго, неделю, не меньше. А тлеть, подсвечивать дорогу в сумерках – не менее двух недель. Арсюхе сделалось обидно – не стоит вся Авдотьина начинка этих оплеух.
– Мужики… – вновь застонал Арсюха.
– Ну, мы – мужики! – рявкнул в ответ скуластый, с летними конопушинами, трогательно проступившими у него на переносице, и невыразительными глазами железнодорожник. – А ты – тля подзаборная. Поступаешь не как человек, а как падаль из подворотни.
– Я же швою команду к вам в депо приведу, мы вас вщех задушим, – зашепелявил Арсюха, – вшех до единого. Как жайцев.
– Приводи, – согласился с ним железнодорожник, тон у него был спокойным, доброжелательным, будто «паровозник» и не метелил Арсюху, – чем больше вас будет – тем лучше. Всех передавим паровозами. Понял, козел?
«Господи, сохранить бы второй глаз нетронутым, – возникла в голове у Арсюхи тоскливая мысль, он невольно сжался. – Господи… Будет ведь сиять фонарь…»
Второй глаз сохранить нетронутым не удалось – обстоятельный железнодорожник, мастер снайперских ударов – он во всем предпочитал основательность – прицелился и нанес очередной сокрушительный удар. Во второй глаз.
Арсюха вновь полетел на землю, всадился лицом в мочу. Взвыл бессильно.
Мысль о сопротивлении почему-то даже не возникала у него в мозгу.
– Жадавлю вас… Прямо в депо, – провыл он, сморкаясь кровью. – Вшю команду порешу.
За эти неосторожные слова Арсюха снова получил удар кулаком.
– Вонючка! – брезгливо проговорил обстоятельный железнодорожник, отряхнул руки. – И откуда вы только беретесь, из какой дырки? – В голосе его послышались презрительные нотки. – Вони много, дела мало. Баб только портите! Запомни, вонючка, – он нагнулся к Арсюхе, поднес к его носу кулак, – если мы узнаем, что ты еще кого-то испортил, какую-нибудь бабу – отрежем яйца… Понял?
От этого крепкого парня, от его тона веяло беспощадностью, он придавил кулаком Арсюхин нос и выпрямился.
Железнодорожники ушли, оставив Арсюху с мутной от ударов головой лежать под влажным кустом.
Придя в себя, он сжал кулаки и заскрежетал зубами:
– Я вас в депо на столбах поперевешаю. Будете болтаться, как новогодние игрушки…
Он потрогал пальцами один глаз, потом второй. Глаза болели. Правый уже затянуло настолько, что свет белый обратился в узкую, плоско стиснутую и сверху, и снизу щелочку. Арсюха невольно застонал.
* * *
Первый, кого встретил Арсюха на миноноске, был Андрюха Котлов – он с повязкой вахтенного матроса на рукаве торчал у трапа и лениво поплевывал в воду.
– Ба-ба-ба! – воскликнул Андрюха оживленно, увидев Арсюхину физиономию. – Это кто же тебе такие прожектора навесил на физиономию?
– Поднимай команду! – хмуро, не отвечая на вопрос, проговорил Арсюха.
– Ты что, сдурел? Говорят, мы через два часа должны отойти.
Арсюха, гулко бухая ботинками по железному настилу переходов, сбегал в умывальник, где над двумя кранами – из одного лилась холодная вода, из другого горячая – висело старое мутное зеркало, всмотрелся в его рябоватую поверхность.
Оглядел один глаз, потом другой, аккуратно помял пальцами кожу под ними и с досадою простонал:
– И заштукатурить фингалы нечем, светят, как два фонаря «летучая мышь». Пхих! – Он покачал головой.
Набрав в ладони холодной воды, приложил их к глазам – сделал примочки, снова глянул в зеркало. Примочки не помогли.
Оставив бесполезное это занятие, Арсюха снова забухал ботинками по рифленому железу переходов и через несколько секунд оказался у трапа. Андрюха Котлов находился на прежнем месте и продолжал беспечно поплевывать в воду. Арсюха ухватил его за грудки.
– Ты команду поднял?
Андрюха неспешно освободился от захвата:
– Тихо, тихо, тихо, приятель…
– Ты почему команду не поднял?
– Хочешь, чтобы меня по законам военного времени к стенке поставили? – Андрюха поправил на рукаве повязку и поводил из стороны в сторону пальцем перед Арсюхиным носом. – Ты этого добиваешься?
– А! – Арсюха рубанул кулаком воздух и понесся к Митьке Платонову.
Тот находился в камбузе, жарил для матросов на ужин треску, а для офицеров – котлеты. Увидев физиономию Арсюхи, Митька удивленно присвистнул:
– Ничего себе конфетки на роже проступили!
– Митя, братуха, надо бы ребят поднять, в депо сбегать, паровозников наказать…
– Это они тебя так? За что?
– В том-то и дело, что ни за что! За то, что я моряк, – соврал Арсюха. – Встретили бы тебя в городском саду – точно так же отделали бы.
Кок приподнял над плитой тяжелую чугунную сковороду, сделал короткое движение – и шкворчавшие в масле куски трески словно бы сами по себе взметнулись в воздух, в полете аккуратно перевернулись на другой бок и вновь легли на сковороду.
Треску Платонов собирался подать на стол вместе с давленой картошкой, заправленной искусственным английским молоком, которое он разводил из порошка. Получалось очень вкусное пюре. Господ же офицеров Митька собирался порадовать котлетками из нежной телятины, привезенной командиром миноноски с рынка.
Лебедев купил телятину на свои деньги, доставил ее на корабль, кинул коку на стол.
– Сготовьте нам что-нибудь, – попросил он, – не то в последние дни сплошная треска… Треска утром, треска вечером, треска в обед… Не то что раньше.
Раньше Платонов угощал господ офицеров блюдами из французской кухни, но в последнее время стал лениться.
– А что сготовить-то, господин лейтенант? – спросил он.
– Да хотя бы котлеты, – взгляд у Лебедева сделался задумчивым, – я помню, в детстве наш повар в имении готовил роскошнейшие котлеты из телятины – с пальцами проглотить можно было. Столько лет прошло, а вкус этих котлет до сих пор не выветрился из памяти.
Котлеты на сковороде кок уважительно перевернул деревянной лопаткой.
Поправив на голове колпак, Платонов откинулся назад. Поцецекал языком:
– Расписали тебя, как поднос, с которого подают баранки к чаю. Картинка!
– Не мели языком, Митька! Помоги поднять народ! Иначе, если не ответим, паровозники нас потом метелить будут, как царь Петр шведов.
– Давай поступим так, Арсюха. Ты пробежи по койкам, по ребятам, поговори с ними, а я мозгами пораскину, что можно сделать. Лады?
– Лады, – Арсюха обрадованно рубанул рукой воздух, – значит, поддерживаешь меня?
– А почему бы не поддержать хорошее дело? – Кок отодвинул сковородку с треской в сторону – рыба готова, надо жарить вторую сковороду.
Арсюха помчался в кубрик поднимать матросов.
Вернулся обескураженный, с погасшим взглядом – сквозь узкий, набрякший фиолетовой краской сжим глаз что-то влажно поблескивало: вода – не вода, металл – не металл, муть какая-то, одним словом, в глотке что-то побрякивало, будто Арсюха наглотался гвоздей, либо того хуже – свинца.
– Ты представляешь, – пробрякал он свинцовым голосом, – ни один из этих кошкоедов не поднялся…
– А я тебе чего говорил? – Кок не выдержал, усмехнулся. – Наших людей нужно знать. Не пойдут они за тебя бить носы, Арсюха.
– Почему? – искренне удивился тот.
– А с какой стати им подставлять свои бестолковки под чужие кулаки за тебя, Арсюха? Паровозники ведь – ребята тоже не пальцем деланные – рельсами как начнут махать… или шпалами – у-у-у! Весь флот вместе с английскими крейсерами могут потопить, только бескозырки останутся сиротливо плавать на воде. Нет, Арсюха, на помощь экипажа ты напрасно рассчитываешь.
– Но почему-у? – вновь с нехорошим изумлением пробрякал свинцом Арсюха, из ноздрей у него едва пар не вырвался. Подбитые глаза-щелочки сжались в две маленькие прорези, в углах прорезей показались крохотные мутные слезки.
– А ты сам не разумеешь?
– Нет.
– Такое к тебе отношение команды, Арсюха. Чего ж тут непонятного?
Арсюха узрел в углу камбуза круглую вращающуюся табуретку, прицелился к ней задом, сломался в коленях, будто кукла, сел. Слезки, собравшиеся в уголках прорезей, шлепнулись ему на фасонистые клеши.
– За что? – прошептал он горько, попробовал найти в себе самом ответ, но ответа не было, и он поднял взгляд на кока, посмотрел на него с надеждой.
Кок отвернулся от него.
– И эти самые… от меня также отвернули рожи, – пожаловался Арсюха, – солдаты, которых как скот загнали на палубу…
– На солдат вообще не рассчитывай, – предупредил кок, – если уж свои не пошли тебя защищать, то чужие тем более не пойдут.
Арсюха схватился руками за голову и, отворачивая ее, крутанулся вместе с табуреткой, застонал.
– Интересно, в чем я провинился перед коллективом?
Кок молчал, не отвечал.
– А?
– Не майся, – наконец отозвался кок, – иди лучше спать. Сегодня ночью мы уходим в плавание.
Арсюха всхлипнул, выпрямился и взметнул над собой кулаки.
– Ладно, когда вернемся, я рассчитаюсь с этими паровозниками за все. За все, понимаешь, Митька?
– Так точно, – равнодушно проговорил тот, – рассчитаешься за все.
* * *
Ночью, когда солнце неподвижно застыло нестираемым медным пятном в светлом небе, миноноска вышла в море. Погода была спокойная, мелкая рябь туго стучала в железное днище корабля. Миноноска держала курс точно на медное блюдо, висевшее над горизонтом.
Лейтенант уже несколько раз заглядывал в рубку – там, стоя рядом с рулевым, глядел на компас и что-то вычислял про себя, затем переводил взгляд на солнце и задумчиво щелкал кнопками перчаток. Бросок на Онегу не нравился ему.
По сути, миноноске, боевому кораблю, предназначенному для борьбы с грозным врагом, отводилась в этом походе жандармская роль. Лебедев же никогда жандармом не был. Боевой офицер, награжденный Святым Георгием, Анной четвертой степени – темляком на парадный палаш яркого алого цвета, который морские служаки презрительно называли «клюквой», двумя Владимирами и Анной третьей степени с мечами – в общем, он имел полный джентльменский набор. Получен был набор за лобовые атаки, произведенные на германские суда. Всякое было в жизни лейтенанта, но такого, чтобы нагонять страх на темных голопупых мужиков, живущих на северных реках, не было.
У лейтенанта даже перехватывало горло, чьи-то липкие пальцы пытались сжать его, и Лебедев неуклюже шевелил плечами, дергал головой, стараясь избавиться от неприятного ощущения, и вновь уходил к себе в каюту.
В двадцать три ноль-ноль он вновь заглянул в рубку и предупредил старшего офицера Рунге, находившегося на вахте:
– Иван Иванович, когда подойдем к Онеге, разбудите, пожалуйста. Там очень сложный вход в реку – течение в устье наносит много песка. Обычно в реку входят с лоцманом.
– Я знаю. Разбужу непременно, не тревожьтесь, – сказал Рунге. Человеком он был педантичным, из тех, что если уж что-то обещают, то обещания обязательно выполняют.
– Раньше половины седьмого утра мы все равно вряд ли к Онеге подойдем, – добавил Рунге вдогонку, когда Лебедев уже вышел за дверь рубки.
Яркое солнце, бьющее мичману прямо в лицо, окрашивало его седые волосы в брусничный цвет. В аккуратной шевелюре Рунге не было ни одного темного волоска – сплошь седина.
В марте семнадцатого года, когда Балтийский флот превратился в сплошной митинг, Рунге решили расстрелять матросы-анархисты: дотошный, требующий точного исполнения служебных обязанностей Рунге показался им излишне придирчивым. А раз придирчивый – значит, барин, которого надо отправить в преисподнюю.
Плюс ко всему Рунге был немцем. Ненависть к немцам среди матросов Балтийского флота была велика.
Мичмана поставили к стенке. Еле-еле отбили его у анархистов. Сделали это, кстати, большевики.
– Какой же он латифундист, какой же он немец? – кричали они в лица анархистам. – Он – Иван! Иван Иванович! Немец не может быть Иваном.
– Не Иван, а Йоханн, – отбивались от цепких большевиков анархисты. Пока Рунге стоял у стенки старого каменного пакгауза под стволами винтовок, он поседел – стал белым как лунь.
И тем не менее матросы миноноски считали, что Рунге повезло – он остался жив. В то время как другие на его месте отправились в мир иной, а комендант Кронштадта вообще был поднят на штыки и умер в страшных муках.
Рунге был невысок, крепко сбит, широкий волевой подбородок его украшала ямочка – признак твердости характера. Он равнодушно поглядывал на бесцветные волны, длинными кручеными валами подкатывающиеся под днище миноноски, краем уха ловил обычные корабельные звуки – хлюпанье придонных насосов, чвыканье водоотливки, звонки сигнальной вахты, усталый хрип работающей воздуходувки, плеск воды под узким железным корпусом. Миноноска была хоть и малым кораблем, но все равно это был корабль, боевая флотская единица, способная несколькими ударами своих пушек снести с каменных берегов рыбацкую деревню, а спаренным залпом двух торпедных аппаратов пустить на дно тяжелый линейный корабль. Рунге любил свою миноноску.
Впрочем, другие офицеры, бравые мичманы – на миноноске все, кроме командира, были мичманами: старший механик Крутов, артиллерист Кислюк – относились к своему маленькому кораблю точно так же.
Вдалеке тянулась серая строчка берега, она то пропадала, растворяясь в розовом морском пространстве, то возникала вновь, приближалась к проворной узкотелой миноноске, и тогда Рунге подавал команду довернуть чуть штурвал в открытое море – боялся при отливе наскочить на камни. В шесть часов утра строчка берега провисла и разорвалась – завиднелся вход в Онегу.
– Правь на разрыв в линии горизонта, – велел Рунге штурвальному и пошел будить лейтенанта.
По дороге столкнулся с Чижовым – тот, бледный, с запавшими щеками, навис над бортом в позе мученически изогнутого вопросительного знака…
– Мутит что-то, – пожаловался поручик, помял пальцами горло, – море я совсем не переношу.
Рунге посочувствовал ему: это ведь как кирпич на голову, одних сбивает с ног мелкая волна, которую не боятся даже воробьи, другие огромный девятый вал встречают с вежливой улыбкой – он им нипочем. Все зависит от организма, а почему у одних организм один, а у других другой, не знает никто.
– Возьмите в рот кусочек сахара, – посоветовал Рунге, – кое-кому это помогает. Хотя не всем.
Чижов кивком поблагодарил мичмана, пожаловался:
– Перед солдатами неудобно, скажут – слабак.
– Не вбивайте в голову, – посоветовал Рунге назидательным тоном и бочком протиснулся в узкий коридор, в котором находилась каюта командира. Стукнул костяшками пальцев в лакированную дверь. – Игорь Сидорович, виден створ Онеги. Через полчаса будем входить в реку.
– Благодарю, Иван Иванович, – послышался глухой голос лейтенанта. – Сейчас я приду в рубку.
Река Онега была известна всему Северу своим непростым характером. Этакая вздорная баба, а не река. То она бывает тиха и ласкова, как старая кошка, у которой нет ни одного зуба – все выпали, осталось только тихо мурлыкать да ластиться, то, наоборот, набухает свинцом, делается грозной, на ровной поверхности появляются литые горбатые волны, способные перевернуть не только легкую миноноску, но и тяжелый непотопляемый дредноут.
И в спокойном состоянии, и во взвинченном, нервном, эта река волокла по дну своему тонны мелкого песка, гравий, голыши, тащила плоские издырявленные каменюги, иногда передвигала с места на место целые глыбы, и устье реки, там, где Онега смыкалась с морем, часто оказывалось забитым – не только миноноска, даже лодка-плоскодонка могла скребнуть по намывам низом и стесать его. Река часто меняла свой рельеф, угадать его было невозможно…
Входить в Онегу без лоцмана не рекомендовалось, но лоцмана брать было рискованно – в неспокойном портовом поселке по ночам звучали выстрелы, на заборах появлялись листовки, призывающие гнать с Севера не только англичан с французами, но и белых вместе с Миллером. Уроженец Витебской губерний был здесь чужим человеком, таким же далеким и враждебным, как какой-нибудь Фриц, Петер или Ганс, родившиеся на Рейне либо в Берлине, не исключением были и Джон с Вильямом из Лондона и Жак с Полем из Парижа – всех надо было гнать одной метлой… Фьють под зад – и за линию горизонта, туда, где сейчас сонно зависло, став неподвижным, мертвенно-красное солнце… Портовое поселение на Онеге стало самым решительным в Северной области, посадить миноноску на намывы песка мог не только опытный лоцман – даже ребенок в дырявых штанцах, державшихся на одной лямке.
Военные капитаны предпочитали входить в Онегу без лоцманов, самостоятельно, на малых оборотах мощных машин, под тревожный звук ревунов.
Лебедев появился в рубке отутюженный, гладко выбритый, с ясным взором, пахнущий роскошным парижским «одеколоном». Вскинул к глазам бинокль, прошелся им вдоль черты берега.
– Прилив начался два часа назад. Надо еще подождать часа полтора и на приливной волне въехать в Онегу. Как на верблюде, верхом, – пояснил он. Скомандовал зычно, четко, как всегда командовал в походах: – Стоп машина!
* * *
В белые летние ночи Миллера допекала бессонница. Сколько он ни пробовал привыкнуть к тому, что солнце в середине лета не скрывается за горизонтом, а повисит-повисит над ним пару-тройку часов и тут же ползет вверх, на свое привычное место, безжалостно окатывая землю красноватым, каким-то неживым светом.
Из головы не выходил разговор, состоявшийся вечером с генералом Марушевским.
– Я считаю, Евгений Карлович, что вся власть в Северной области – вся, целиком, без остатка, даже в самых гражданских делах, таких как замеры земельных наделов и вытирание соплей детишкам в приходских школах, должна перейти к военным. Только военные могут спасти и Север России и саму Россию.
Эту свою позицию Марушевский высказывал и раньше. Не раз высказывал. Но никогда еще он не был так настойчив и резок. Миллер решил сбить его простым способом:
– Хотите хорошего бразильского кофе, Владимир Владимирович?
– Нет, – резко, напрягшимся до скрипучести голосом ответил Марушевский.
– Айронсайд подарил мне несколько банок из последнего завоза.
– Нет. – Лицо у Марушевского сморщилось, стало старым, в глазах вспыхнули раздраженные костерки, – вспыхнув, тут же погасли: генерал умел держать себя в руках. – Мы с гражданскими властями действуем по принципу лебедя, рака и щуки. Мы делаем одно, они – другое, мы стараемся добиться и добиваемся результатов, их устраивают обычные ходы, мы ставим цели, они ограничиваются лозунгами и митингами… И так далее. У населения от такого руководства только болит голова.
Миллер понял, что спорить сейчас с Марушевским бесполезно, генерал просто-напросто не услышит доводов, ждал, когда тот, истратив запал, умолкнет.
Наконец Марушевский сложил вместе ладони, молитвенно поднес их к подбородку и произнес, гипнотизируя Миллера:
– Заклинаю вас, Евгений Карлович, услышьте меня. Пока гражданское население не поймет, что в области есть твердая военная власть, мы будем топтаться на месте.
– Насколько мне известно, материальное положение рабочих в Северной области гораздо лучше, чем в других частях России. Их заработки зачастую перекрывают оклады чиновников правительственных учреждений, – сказал Миллер. – Где еще есть такое роскошество? На Юге? В Ростове? В Омске? В Хабаровске? У нас полно рыбы, мяса, консервов. Оленины и дичи – вот сколько. – Миллер провел рукой над головой. – Красная семужья икра и сочная северная рыба не исчезают со столов рабочих… Все это обеспечено гражданской властью. Правда, при нашей активной поддержке.