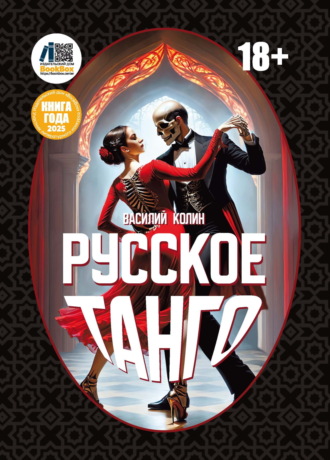
Василий Колин
Русское танго
– Почему у тебя весь бок разорван? – с придыханием прошептала девушка.
– Осколочное ранение, – тоже шёпотом ответил я, – там нервы к коже пришиты, ну и ты типа поаккуратней, а то может в глазах так потемнеть, что ноги сами вензелями пойдут.
– Где тебя угораздило? – в её шёпоте появились плаксивые нотки жалости, чего я не выношу в принципе.
– В аду, – буркнул я и отвернулся к стене.
С почти материнской ласковостью её тёплые и влажные губы начали искать на уродливом шраме особо чувствительные места и осторожно прикасаться к ним, гася мою глухую раздражительность. Я положил ей на голову левую руку и стал гладить по шёлковым волосам, чувствуя, как раненое место становится мокрым от её слёз, которые она слизывала своим горячим языком.
Плечи девушки вздрагивали.
Ксения беззвучно плакала.
9
Разбудил нас яркий свет лампочки – на середине комнаты стояла заспанная Инга, небрежно обёрнутая измятой гостиничной простынёй.
– А чё вчера было-то? – зевнула она, нисколько не стесняясь.
– Тридцатое число, – сказал я, бесцеремонно разглядывая её красивое молодое тело.
– Иди, оденься, – стала прогонять Ингу Ксения, – и вообще, что за дела: тут, может, интим в разгаре, а ты заплываешь, как к себе домой.
Будто не слыша Ксению, Инга обратилась ко мне:
– Тридцатое я как бы и без тебя знаю, а здеся вот, – она ткнула указательным пальцем в пол, – из-за чего как бы сушняк душит, чё было-то?
– То же самое, – невозмутимо ответил я, – тридцатник.
– Сам ты тридцатник, – решила девушка, – попить чё-нить дайте.
Она подошла к тумбочке, но там уже всё было выпито до неё. Безрезультатно подёргав за пустой мутный стакан, который присох к поверхности, Инга села на край кровати. Простыня сползла с матовых плеч, оголив изящную спину до самой попы, светлые волосы сбились на сторону, и тонкая шея трогательно просвечивала сквозь них. Ксения, положив голову на мою грудь, провела наманикюренным ноготком вдоль грациозно изогнутого стройного стана подруги и спросила томно:
– А где твой кулончик с цепочкой?
Инга обернулась и растопыренной ладонью залезла в спутанную причёску:
– Я как бы плохо помню, может, когда друг придёт, у него спросим?
Я приподнялся на подушке и взял её за руку:
– А куда он ушёл?
– Я чё, Пушкин? – она глянула на меня как на дурачка. – Друг-то твой.
– Да мы его случайно подобрали, – Ксения привстала, до половины сбросив одеяло, – возле банкомата.
– У кафешки, – уточнил я, – когда похмелялись. На всякий случай кошелёк проверь.
Инга удалилась в гостиную, волоча по полу окончательно свалившуюся простыню, и тут же вернулась с небольшим ридикюльчиком в руках.
– Такой же голый вассер! – она капризно бросила сумочку к своим ногам и неумело пихнула её под кровать маленькой ступнёй. – Вот урод, не оставил даже на троллейбус!
– Хорошая примета под Новый год, – язвительно заметил я и, достав из тумбочки пухлый бумажник, вынул из него пару сотен, – держи на проезд.
– Сама лоханулась, – недовольно проворчала Ксения, – нагрузилась вчера в сиську, а теперь кто-то, как всегда, виноват.
– А чё вчера было-то? – принялась за старое Инга. – Я так залипла, что местами темнота, как у негра в заднице, а дальше и подавно как бы ни черта не просвечиваю.
– Тебе же говорят: тридцатое декабря, – улыбнулась Ксения, – до двадцать первого века считанные часы остались.
– Вообще-то, целый год, – уточнил я. – Нам ещё предстоит через нули пройти, чтобы в светлое будущее заглянуть.
– Какая разница, – отмахнулась девушка, – всё равно столетию уже пипец.
Инга вышла, слышно было, как хлюпнула дверца холодильника, что-то загремело, и девушка из гостиной сообщила торжествующе:
– А я, между прочим, пивасик нашла! – после чего щёлкнул телик, и дикторша бодрым тоном принялась рассказывать о последних новостях.
– Мне домой пора, – Ксения поцеловала меня в щёку, – оставь телефон, тот, который ближнезарубежный.
– Записывай сотовый, – сказал я и спросил, глядя, как она одевается и приводит себя в порядок. – У вас что, рамсы с мужем?
– С чего ты взял? Нормальные отношения, – полуодетая Ксения подошла к шторам и выглянула в окно. – Не хуже, чем у других. Я люблю его и ни на кого не променяю. Никогда! А ты – другое. Ты – чтобы женщина иногда не чувствовала себя бужениной.
– Всё ясно, – сказал я, разматывая полотенце на руке, – надо что-то с этим делать, тюкает опять, будто в сельской кузнице.
– Я-то по-любому сейчас уеду, – у неё заело молнию на джинсах, и некоторое время она пыталась застегнуть их сама, но ничего не выходило, и Ксения с расстёгнутой молнией подошла ко мне, – помоги.
Я, стараясь не касаться кистью, локтевой частью правой руки притянул её бёдра к себе, а левой подёргал бронзовый бегунок вверх-вниз. С третьего раза всё встало на свои места.
– Моя смена как раз кончается, – продолжила девушка, – сам понимаешь, не могу лично, но Инга тебя отвезёт к врачихе знакомой, я адрес дам и записку напишу, хотя бы пусть гипс наложат. Перелом у тебя, к бабке не ходить – реальный перелом.
– Ты телефончик-то тоже черкани, – мне одной рукой одеваться было трудно, и Ксения, встав на колени, застегнула мои брюки и затянула ремень, – вдруг при случае звякну, поболтаем, молодость вспомним.
– Юморист, – съязвила девушка, но затем вытащила из сумочки миниатюрную записную книжечку с прикреплённой к ней шариковой авторучкой в виде никелированного гвоздя и, нацарапав что-то, вырвала листок, – только старайся вечером не звонить, а лучше через пейджер на меня выходи.
– Мы как бы идём или как? – уже одетая Инга с баночкой недопитого пива прошла и взяла меня под руку.
– Может, сначала «или как», а потом к врачу? – шутливо предложил я вопросом на вопрос.
– С тобой точно не соскучишься, – не оценила шутку Ксения, – не хватало ещё, чтобы ты с моей подругой переспал, инвалид.
10
Пенсию по инвалидности мне назначили в восьмидесятом, после того, как ровно двадцать лет тому назад, тридцать первого декабря одна тысяча девятьсот семьдесят девятого года, Витька Коробков, шедший позади меня, подорвался на растяжке. Этим сюжетом для нас война и закончилась, едва начавшись. Витьку «Чёрным тюльпаном» в запаянном цинковом гробу отправили домой, в деревню недалеко от Омска, а меня с развороченным боком и вывалившимися внутренностями в армейский госпиталь города Душанбе.
Позже, перед выпиской, командир десантников подполковник Гуляев привёз туда государственные награды и в будничной обстановке, не выходя из палаты, вручил мне медаль «За отвагу» и пенсионное удостоверение.
– Служу Советскому Союзу, – пробубнил я, стараясь не дышать спиртовым перегаром ему в лицо, а подполковник похлопал меня по плечу и наобещал кучу всяких льгот.
В учебке Витька спуску никому не давал, хорохорился и вёл себя как настоящий дед, вступая в конфликты со всеми подряд. Но за неделю до гибели, когда мы с ним в составе 40‑й армии на БМП пересекали советско-афганскую границу по понтонному мосту, наведённому стройбатом через Аму-Дарью, он как-то сник, в его голубых глазах появились тоска и отрешённость. Он будто предчувствовал свой конец, и все наши разговоры сводились к одному – как, если что с ним случится, будет жить его мать, у которой, кроме него, никого нет.
– Не думай об этом, – сказал я ему за полчаса до его смерти, – когда всё время думаешь об одном и том же, обязательно случится.
– Я не моджахедов боюсь, – ответил Витька, – мать вся изработанная, на таблетках, щитай, существует.
У меня матери не было с малых лет, а отец, отставной офицер, получал персоналку за фронтовую службу да ещё подрабатывал начальником караула во вневедомственной охране. Поэтому я и сказал Витьке, что пойду первым, – ведь никто и предположить не мог о таком исходе.
– В рубашке родился, – сказал потом про меня прапорщик Солодуха, – чуть-чуть вправо, буквально на полшага, и всё, «груз двести», а так с одной почкой бывает, что ещё больше пьют, чем с двумя. Главное, самопал не употреблять.
Самопальную водку я обходил стороной, а обещанных Гуляевым льгот так и не дождался. В горисполкоме, куда я пришёл после демобилизации хлопотать о предоставлении мне отдельного жилья (отец к тому времени женился на какой-то сорокалетней тётке), лощёный тип с козлиным галстуком и поросячьими ресницами сразу же в категоричной форме отказал по всем пунктам и напоследок по-змеиному прошипел:
– Мы вас туда не посылали.
Я, выкатив от бешенства глаза, упал на него, намереваясь размазать его морду по письменному столу, но, на его счастье, сознание моё помутилось и больше ничего не помню, хотя и пролежал в больнице чуть ли не месяц.
– Иди протирать штаны в институт, – посоветовал навестивший меня отец, – иначе без бумажки ты букашка, а с бумажкой безусловно станешь походить на порядочного советского гражданина.
Сначала я попробовал учиться в сибирском железнодорожном техникуме, затем в текстильном под Москвой и, наконец, подобно бильярдному шару, закатился в лузу дневного отделения естественно-географического факультета одного из известнейших вузов Ленинграда.
Это были мои лучшие годы.
Девчонки из студенческой общаги наперебой старались заманить дефицитных парней к себе и угостить чем-нибудь вкусным домашнего приготовления, а преподаватели, уважая в моём лице одновременно политику партии и личные заслуги ветерана локального конфликта, на многие вещи закрывали глаза, и свободное посещение лекций помогало добавить к стипендии приличную сумму.
Деньги же бездумно транжирились в антисоветской атмосфере кафе «Сайгон», находившегося на пересечении Невского и Владимирского. Сюда, как магнитом, тянуло фарцу, неформальную молодёжь, мазуриков и поэтов, художников-авангардистов и прочий ленинградский андеграунд, включая рок-музыкантов и хиппующих отпрысков известных и влиятельных папаш.
Когда менты устраивали облавы, посетители сваливали в «Эльф», небольшую кафешку в трёх минутах ходьбы от «Сайгона», и отсиживались там, пережидая исполкомовский и ментовской, а короче – совковый, беспредел. И гоняли нас не за то, что мы организовывали против советской власти какие-то политические акции. Нет, никаких акций мы не проводили, а просто жили так, словно этой самой власти не было совсем.
Здесь в пьяном виде читал свои изумительные и никогда не публиковавшиеся стихи непризнанный гений Геннадий Григорьев, неформальные стены помнили Шемякина.
До высылки из страны в «Сайгон» захаживал Бродский.
Третий наш друг по учебке, Петька Зелёнкин, летом восьмидесятого пропал без вести где-то под Джелалабадом. Его родным пришла похоронка, а он взял и объявился в начале девяностых через Красный Крест как Питер Грин из Калифорнии. До сих пор не совсем понимаю, каким образом Петьке удалось разыскать меня – к тому времени безработного, разведённого, обременённого алиментами и хроническим алкоголизмом.
Назначенной государством пенсии едва хватало на несколько дней, и, если бы не помощь престарелого отца, дело было швах.
– Ну как я выгляжу? – самодовольно спросил меня Грин-Зелёнкин при встрече, не вынимая коричневой гаванской сигары из слюнявых губ.
– Спереди очень даже ничего, – польстил я ему, – а сзади толстожопый.
– Это от фаст-фуда, – оправдался Петька, – жрать по-человечески в Америке большая роскошь.
– В России тоже, – успокоил я его, вываливая из помятой алюминиевой кастрюльки прямо на старую клеёнку варёный штатовский окорочок. – Вот, закуска вроде есть, а выпить нечего.
– Ноу проблем, – оживился Питер Зелёнкин, – только я не один, в такси жена с сыном.
– Пусть заходят, – великодушно пригласил я, – сейчас ещё одну порцию сварим.
Через мгновение Петька уже затаскивал в моё жилище огромную сумку, а следом за ним на пороге выросла пожилая чета: похожая на маринованную мумию древнеегипетской куртизанки кривоногая бабка – c оранжевыми волосами, ярко-красными губами и в цветастых штанах – и трясущийся сгорбленный старик с признаками витилиго на коричневом лице, которого та судорожно поддерживала за острый костлявый локоть.
– Вот это гербарий! – воскликнул я восхищённо.
– Ты, главное, не пугайся, – успокоил Петька, – я с ними сам замудохался. По-русски они не фурычат, а в двух словах – это моя нынешняя жена Джойс, а это – её бывший муж Эдвин. Он вообще-то придурок, но адвокаты, суки, так вывернули, что пришлось его сначала усыновить, а потом уже стать опекуном. Теперь он мой единственный законный наследник, – гордо заключил Петька Грин и выставил на стол ортопедическую бутылку шотландского односолодового виски.
– Сидау плиз, беби, – вежливо сказал я Петькиному наследнику, а он в ответ совсем по-детски заморгал белёсыми слезящимися глазками и затрясся ещё сильней.
– Ему не наливай, – оперативно предупредил меня заботливый отец, – для Эдвина мы припасли пюре фруктовое и алоевый сок – замечательно дёсны укрепляет.
– Понимаю, – кивнул я, разливая виски на троих, – у ребёнка старческий маразм, хотя на вид вполне смышлёный малыш, но мамаша-то, надеюсь, поддержит встречу однополчан?
– Ей можно, она меня из душманского плена выкупила, – махнул рукой глава необычного американского семейства, и его престарелая половинка тут же начала что-то быстро-быстро лопотать, показывая на тарелку.
– Спрашивает, чем ты нас угощаешь, – с ходу перевёл Зелёнкин, вытаскивая из сумки пакеты и свёртки и раскладывая их на столе.
– Ничего страшного! – громко объяснил я бдительной супруге, покрутив под её крючковатым носом свежеприготовленной ляжкой маленького тираннозавра. – Это ножки Буша! У нас их вместо мяса едят!
Услышав имя своего президента, Петькина супруга Джойс успокоилась, и наша историческая российско-американская встреча прошла на самом высшем уровне.
11
– Давай сначала как бы в аптеку зайдём, – сказала Инга, цепко держась за мой рукав, – «Постинор» надо купить и бинт гипсовый. Сейчас такое время, что даже в больницу люди ложатся как бы со своим матрасом и, желательно, с личной медсестрой, не говоря уже о чашках-ложках.
– А «Постинор»-то мне за каким хреном? – глянул я на девушку с искренним недоумением.
– Опять хамишь, – надула та губки, – в наказание возьмёшь противозачаточное как бы из своего собственного кармана.
В аптеке народу не было совсем, и мы свободно подошли к полукруглой норке, неровно прорезанной в оргстекле. Из норки выглянула белая шапочка и, словно не замечая меня, обрадовалась Инге.
– Привет, Ин, каким ветром тебя к нам надуло с утра пораньше?
– С наступающим, – поздоровалась моя спутница, – видишь, я как бы не совсем одна.
– Ой, а чё он такой страшненький, – хихикнула шапочка, нисколько меня не смущаясь, – опять за теми же таблетками?
– Нам упаковку «Постинора» и гипсовый бинт, – сказал я дружелюбно, совсем не обидевшись на нелестный эпитет. – В грядущем тысячелетии обещаю тебе понравиться.
Неожиданно Инга вступилась за меня перед своей знакомой:
– Это мы с бодунца потому что, а так он как бы ничё, щедрый.
Подтверждая её слова, я рассчитался, не взяв сдачи, и мы пошли к выходу.
– Тут крупная сумма осталась, – закричала вдогонку белая шапочка.
– Купи себе соску на «Пепси-колу», – обернулся я возле двери. – С Новым годом тебя, девочка, с наступающим!
– Ну чё ты всё время хамишь, – упрекнула Инга, останавливая такси, – хотя бы при врачихе веди себя как бы приличнее.
Врачиха оказалась симпатичной девушкой-гинекологом. Сначала в кабинет прошла Инга, затем пригласили меня.
– Мужчина, войдите на осмотр, – высунулась из-за двери помощница гинеколога – полненькая сексапильная медсестричка в коротеньком белом халатике, – и у всех женщин, сидящих очередью у стены, зрачки от удивления полезли на лоб. Однако я, не теряя самообладания, с задумчивым видом проследовал на вызов и, лишь переступив порог, позволил себе рассмеяться.
– Ну, девчонки, с вами даже в крещенскую прорубь не страшно окунаться. В кресло задом или передом залезать?
– Хоть буквой зю, но только на кушетку, – приказала хозяйка женской консультации, – и рубашку закатайте к локтю.
Я послушно снял пиджак и приготовил кисть руки для обследования. Её чуткие и холодные пальцы прошлись по перелому, слегка подавили на опухшую фалангу.
– Вообще-то, к травматологу нужно, – сообщила она, – если срастётся неправильно, образуется ложный сустав, тогда или на инвалидность, или заново ломать.
– Ломать не строить, – успокоил я докторшу, – бинтуй, и пропустим за предновогодие.
Врач улыбнулась:
– Кажется, за него кто-то уже успел пропустить.
– Мы вчера как бы тридцатое отмечали, чуть ли не до утра, – вмешалась Инга, – поэтому от него всё время такой фан.
После чего скомандовала:
– Егор! Рот пока не открывай, ладно?!
Между тем сестричка поставила на табуретку таз с тёплой водой, и обаятельный гинеколог, размочив бинт, плотно обмазала им больное место. При этом мои указательный и средний пальцы зафиксировались наподобие пистолетного ствола.
Все три девушки залюбовались проделанной работой, а я, расчувствовавшись, сказал симпатичной гинекологине:
– Достань из пиджака лопатник и возьми чего-нибудь за работу в честь Нового года, сколько не жалко.
– С мужчин денег не беру, – поджала яркие губы докторша, – тем более, вы со своим бинтом пришли.
– И как бы с шампанским, – радостно вспомнила Инга, выставив на кушетку бутылку и шоколад.
– А открывать-то кто будет? – деловито поинтересовалась помощница врача, разворачивая хрустящую обёртку шоколадной плитки.
– Могу отстрелить, – скромно предложил я свои услуги и прицелился в горлышко рукой-пистолетом, – получится гусарская баллада.
– Ему вообще ничего доверять нельзя, – заволновалась Инга, – он вчера в ресторане таким же «Советским» люстру как бы вдребезги кончил.
– Пробкой что ли? – уточнила докторша, осторожно раскручивая проволоку.
– Ну, – подтвердила девушка, отстраняясь вбок, – только в лицо не направляйте, пожалуйста.
12
– Фу, какой ты вонючий, – чмокнула меня в губы Инга и сунула в карман моей дублёнки какую-то бумажку, – звони, если чё.
Трамвай тренькнул и увёз её в сторону вокзала. Я постоял чуток, не зная, что делать дальше, и медленно направился в повседневную реальность. Снег хрустел под ногами, вокруг творилась особая предновогодняя жизнь с весёлой суетой и приятной озабоченностью. Народ спешил завершить последние дела в уходящих, как вода сквозь песок, буднях девяностых, чтоб войти в следующие двухтысячные по возможности комфортно и легко. И только мне было одиноко и неуютно – болела рука, а душа требовала зайти куда-нибудь наугад и забыться.
Не знаю как, но я оказался на высоком берегу Камы. Ледяной ветер сыпал горстями в моё лицо колючую снежную крупу, и я, спустившись к воде, поднял воротник. Однако это не помогло, пришлось отвернуться, а затем и вовсе уйти с набережной.
Ну почему, почему нет мне места нигде и никому я не нужен!
Такое состояние знакомо, наверное, каждому, но особенно страдают от одиночества жители крупных городов. Казалось бы, вокруг столько различных и заманчивых ситуаций, столько народа, но первое впечатление обманчиво: окружающим людям не до тебя, потому что у каждого из них масса собственных проблем и заморочек; они просто-напросто не хотят ничего видеть и слышать из того, что не касается лично их. Отсюда и забота о ближнем на деле оборачивается эфемерностью, и одиночество в толпе, да ещё накануне Нового года, превращается в настоящую пытку. И вот уже налицо маниакально-депрессивное состояние, тоска, запой, ну и так далее… По нарастающей.
С Ириной мы познакомились на втором курсе во время пионерской практики. Я работал воспитателем в пятом отряде, а вожатой у меня не было, потому что ей прямо накануне отъезда вынули острый аппендицит. Неделю я продержался, но в субботу нагло ворвался к начальнику пионерлагеря – молодящейся функционерше с выпирающим бюстом – и стал бегать по её кабинету, размахивая руками и нечаянно опрокидывая стулья.
– Изабелла Игоревна! – кричал я. – Вы не понимаете, что такое двадцать пять детей выкупать на речке! А конкурсы! Как я их, скажите мне, научу художественной самодеятельности, если Кунгурцев с Горячевым курят под сценой, а Пегова приходит на репетицию с кульком конфет?! У неё всё время рот чем-то набит и не поймёшь, то ли она роль читает, то ли сопли жуёт!
– Успокойтесь, Егор, – мудро сказала начальница, – Пегову можно прекрасно задействовать в танце маленьких утят, там, в принципе, неважно, что у пионерки во рту, а вот мальчиков таки старайтесь держать в поле зрения, иначе сгорит летний театр. Да-да! Такие нелепые происшествия уже имели место быть на нашей тернистой педагогической стезе.
– Всё равно без вожатой не справлюсь, – упрямо сказал я и удобно расположился в кресле, – пусть из других отрядов приходят, по очереди.
– Хорошо, – вздохнула Изабелла Игоревна, – в понедельник вожатая будет.
Она сдержала слово, и в понедельник, часам к десяти утра, моё имя пропели по громкой связи и предложили явиться в кабинет начальника лагеря.
– Вот, – с гордостью кивнула хозяйка кабинета на хрупкую миловидную девушку во вьетнамских кедах и в гэдээровском тренировочном костюме синего цвета, – это не абы что, а музпедфак, и попробуйте теперь не занять первое место.
А когда мы направились к выходу, Изабелла Игоревна вкрадчиво попросила меня задержаться на пару минут.
– Учтите, Егор, – сказала она полушёпотом, – вам таки повезло, как я не знаю: у вашей вожатой папа сам замначальника УВД, так что – имейте в виду и вожатую, и папу.
«Что имею, то и введу», – мысленно огрызнулся я и выскочил за дверь.
Первое место мы, конечно, не заняли, зато после зимней сессии подали заявление в ЗАГС, поскольку округлившийся животик моей бывшей помощницы всё более вызывающе стал напоминать о летней романтике нашей педпрактики.
Вскоре через её высокопоставленного родителя нам выписали ордер на двухкомнатную квартиру, а папа лично обустроил гнёздышко югославской мебелью. Более того, после окончания вуза молодой семье купили «Ладу», и я стал по доверенности ездить на работу в лучшую школу города, где рассказывал старшеклассникам о взаимосвязи земного климата с широтой и долготой, а также об особенностях ландшафта в какой-либо отдельно взятой стране.
Семейная идиллия закончилась, когда Ирина отвела дочку в обкомовский садик, а я каждое утро теперь завозил супругу в музыкальное училище. Там, прямо на рабочем месте – у фортепьяно – Ирина нашла своё новое счастье в лице кудрявого баяниста, подающего большие творческие надежды. Они вместе зашагали к музыкальному олимпу, а мне от размена квартиры досталась комната в коммуналке и тоска по вечерам, которую я добросовестно глушил алкоголем, вырывая с корнем воспоминания о былом.
Через пару лет меня вежливо попросили из школы, и началась странная, будто в тумане, неприкаянная жизнь, продлившаяся до середины девяностых, когда меня разыскал Петька Грин-Зелёнкин.
…Так я брёл по заснеженным тротуарам, на автопилоте переходя пешеходными зебрами оживлённую автомагистраль, пока не упёрся в старинную дверь Пермской художественной галереи. Я много слышал о ней и решил зайти поглазеть на произведения религиозной деревянной пластики, объединившей в себе язычество и христианство.
Что-то неуловимо мистическое было в древних изваяниях, похожих на живых людей. Долго я стоял перед скульптурной группой «Снятие со креста» – жизненная драма разыгралась на моих глазах. В какой-то момент почудились даже певучие голоса библейских героев. Потом вглядывался пристально в глаза Параскевы Пятницы и, наконец, встал на колени перед скорбящим Христом в терновом венце.
Комок набух в горле, и слёзы дрожали на моих ресницах. Я потрогал скульптуру и вдруг ощутил тепло – его излучало отполированное веками деревянное тело Иисуса. Он смотрел на меня понимающе, словно подбадривая и даря какую-то надежду.
– Где мне искать Тебя? – спросил я, едва шевеля пересохшими губами.
И неожиданно услышал лаконичное:
– Божественный среди вас.
– Господи, – прошептал я ошеломлённо, – подскажи тогда, что же мне делать дальше?
После чего опустил веки и прислушался к самому себе, и тот же самый мягкий и добрый голос внутри меня коротко ответил:
– Жить.
13
Выйдя из галереи, я невольно прищурился от снежной вакханалии, хотя солнце светило по-зимнему тускло. Необычайная лёгкость наполнила мою грудь, я распахнул дублёнку и бодро зашагал по проспекту, что-то напевая себе под нос. Возле пиццерии аппетитный запах заставил остановиться, я покрутил головой и, почувствовав голод, решительно зашёл в заведение, где заказал к пицце сто пятьдесят водочки с пивом и просидел там до самых сумерек.
Зимний день скупо мазнул куцей метёлкой заката по городским крышам, слегка тронул розовым колером морозные витражи витрин, завлекающие расцвеченными подиумами, а затем торопливо уступил место долгому предновогоднему вечеру.
Улицы пустели на глазах, а ноги сами несли куда-то. Иногда ведь хочется просто идти, безо всякой цели, не замечая ничего и никого вокруг.
Легковые автомобили сплошным потоком текли мимо, украшая город красными фонариками габаритных огней, окна высоток уютно светились в зимнем мареве, и захотелось вдруг оказаться там, за этими окнами, в компании хороших людей, готовящихся отметить рубеж тысячелетий во всю ширь российской души.
Неожиданно под жёлтым пятном электрического света, у обочины проезжей части улицы Ленина, возникла одинокая съёжившаяся женская фигурка. Она пританцовывала на холоде, отчего её красная куртка переливалась в лучах плывущих мимо фар, и казалось, что это раскачивается от ветра большой красный фонарь.
У этой улицы была дурная слава, и нетрудно было догадаться, кто передо мной.
– Привет, – сказал я, – может, вместе потанцуем?
– Триста в час, а просто минет – полторы сотни, – быстро ответила девушка, выбивая зубами барабанную дробь.
– Если до утра и с новогодними скидками, то годится, – стал торговаться я.
– Ты чё, проституток никогда не снимал, – уже раздражённо бросила она, – никаких скидок, рожай быстрее, у меня ботинки дырявые и кушать хочу.
– Тебя как зовут? – спросил я, переваривая информацию.
– Меня не зовут, – вызывающе вскинулась путана, – сама прихожу. Мой сутенёр уже с обеда в отключке, а я, бли`на, тут весь день голодная сижу. Ну чего зря вату катаешь, берёшь до утра или нет?
– Беру, – выдохнул я и остановил первую попавшуюся машину.
– С наступающим! – поприветствовал нас таксист. – Адрес подскажи.
– В ближайший универмаг, – отозвался я и стал по-хозяйски осваивать в иномарке переднее место.
Мотор взревел, и не успели мы оглянуться, как завизжали тормоза.
– А вот и он, – осклабился водитель и ткнул ладонью левой руки куда-то вбок и наискосок, – дорогу перейти – и «Стометровка» под самым носом, увидите сами, как реклама сверкает, сегодня на час раньше закроют, в честь праздника, так что удачи вам!
Кроме нас, в торговом зале были только работницы прилавка да несколько разновозрастных покупательниц, озабоченно роющихся в промтоварном ассортименте.
– Почему ваш магазин «Стометровкой» назвали? – спросил я у смазливой продавщицы, пока проститутка мерила тёплые кожаные сапоги.
– Потому что он ровно сто метров длиной, – рассмеялась та, – весь первый этаж жилого дома занимает. Вы не местный или чё?
– Я из прошлой эпохи, – ответил я, оценивая стройные ноги новой знакомой.
– Да мы, вообще-то, все оттудова, – поддакнула находчивая торговка, – старые ботиночки с собой заберёте?
– Выброси их на свалку истории, – пошутил я, оплачивая выбитый кассой чек.
В джинсовом отделе, скептически оглядев на свету остальной прикид путаны, я пришёл к неутешительному выводу, что на свалку надо выбрасывать всё, включая красную замызганную куртку. А оказавшись в кружевном мире женского белья, от многообразия которого чуть не поехала крыша, я купил ей сразу несколько комплектов.
– Ну как выглядит это дитя порока? – пропуская вперёд неузнаваемо преобразившуюся девушку, самодовольно и не без гордости спросил я у размалёванной кассирши, восхищённо глазевшей на мою щедрость.
– Им это выглядит очень шикарно, – промурлыкала та с нескрываемой завистью, – нам такие крутые подарочки, по крайней мере, почему-то никто и не предлагает.
– Мне с тобой теперь за год не рассчитаться, – тихо сказала путанка, когда мы вышли из магазина, – куда поедем?
– В гастроном, – ответил я. – Новый год на носу, хочется отметить его по-человечески.
– А я от голода сейчас умру в сугробе, – возразила спутница, пряча счастливое лицо за роскошным воротником из чернобурки, – может, сперва в кафе заскочим?
– Можно, – поспешно согласился я, чувствуя потребность пропустить внутрь, – лишь бы успеть хавчик потом купить.
Она аппетитно уплетала тёплые пирожки с ливером и запивала их горячим кофе. Я подвинул ей рюмку водки.
– За знакомство!
– Оксана, – промурлыкала девушка, не переставая жевать. Её щёки напоминали спелые алма-атинские яблоки.
– Ксюша, значит, – одобрительно кивнул я, вспомнив Ксению, – а я Егор.
– Прикольное имя, – впервые за вечер улыбнулась девушка, – мне такое ни разу не попадалось.
– Ты жуй быстрей, – поторопил я, – а то придётся в нулевые годы насухую шагать.
14
– Знакомый траходром, – сказала Ксюша, пройдя одетая в спальню и свалив на кровать покупки, – я здесь, кажется, уже была.
– Раздевайся! – приказал я. – И сразу мыться. Новый год надо встречать, как на смерть идти – обязательно в чистом, а если кажется – крестись!
– А ты не маньяк ли часом? – подозрительно глянула на меня Оксана, отступая спиной к двери. – Странный какой-то! Загипсованный весь, ни с того ни с сего одел меня с ног до головы, накормил, а теперь ещё и базары о смерти… Зачем жути нагоняешь? Скажи честно, хочешь моим сутенёром стать или продать в рабство?
– Думаю в жёны взять, – ответил я, – не навсегда, конечно, а на время, пока Новый год не кончится. Я в Перми наездами, и вот какая оказия с билетами приключилась… Что же теперь, со сломанной рукой волком что ли до утра выть от одиночества? Мне, как любому нормальному гомо сапиенсу, живая душа нужна, а где её в командировке взять?
Девушка улыбнулась, пожала плечиками и почему-то посмотрела в окно.
– Правильно, – сказал я, – только на Ленина, больше негде. Так что успокойся, работорговля здесь не канает, а сутенёр из меня… Ну ты же сама всё видишь.
Она приподняла край матраца:
– Последний раз, когда зависала тут, сто рублей припрятала, чтоб не отобрали, а вытащить, блина, забыла.
– Давай, давай в ванную, – грубовато прервал я её откровения, а после того, как она с полотенцем на шее ушла приводить себя в порядок, торопливо нашарил в кармане сторублёвку и, распрямив, сунул ассигнацию под изголовье.
Неожиданно затрезвонил телефон. В мембране послышался женский смех, растворённый в музыкальном бульоне, и ещё какие-то весёлые голоса. Я включил телевизор и уселся в кресло, закинув ногу на ногу, после чего, укрепив телефонную трубку в гипсовом пистолете, растянул губы приветливой улыбкой:



