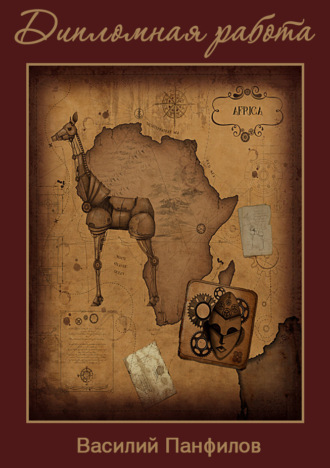
Василий Панфилов
Дипломная работа
Василий Сергеевич Панфилов
* * *
Пролог
– Это решительно невыносимо! – энергически сказала Анна Ивановна, рваными движениями обмахиваясь веером. Полное её лицо, со следами былой привлекательности, преисполнено страдальческим негодованием, а округлые подбородки желейно подрагивают при каждом слове.
– Этот… – она поджала куриной гузкой крашеные кармином подвядшие губы, явственно и очень выразительно сдержав крепкое словцо, – анфан террибль, персонаж дурно пахнущего анекдота, стал настоящей занозой!
Голядева снова поджала губы и этак повела полными, несколько даже заплывшими плечами, что все присутствующие без лишних слов поняли, что заноза эта торчит в филейной части Российской Империи… пусть даже и метафорически!
– Полно, душенька… – нервно прервала её владелица дома, не желая обсуждать человека, ставшего в Российской Империи притчей во языцех и одновременно – персоной нон-грата для людей, блюдущих политическую девственность. Сухое, несколько щучье лицо немолодой хозяйки салона покраснело и пошло белыми пятнами, выдавая решительное нежелание к продолжению разговора.
Одна из немногих, она сохранила, некоторым образом, нейтралитет салона, оставшись крохотным островком, на котором могли встречаться люди взглядов, равно охранительских и либеральных. Однако же несносная Анна Ивановна, презрев законы гостеприимства, решительно не унималась, зарабатывая себе политический капитал, а хозяйке салона непреходящую головную боль.
– Мальчишка… – выплюнула Голядева, и на краснеющем лице её начали проступать капельки пота сквозь крупные поры, – пащенок помоечный! Ну кто в здравом уме поверит, что этот… этот…
Веер закрылся с лёгким стуком, и снова – энергические взмахи, разгоняющие прохладный майский ветерок, залетающий в окна московского особняка. В просторной гостиной… нет, не весь свет Москвы, но люди, некоторым образом влиятельные, и даже причастные… да-с! В чинах, с орденами, при уважении…
… и какая-то Голядева!
Поджав губы, хозяйка салона пообещала себе никогда больше…
… но вечер решительно испорчен. Разговоры стремительным образом политизировались, и гости, хотя и соблюдая некоторым образом разумную осторожность, показывали свою причастность к тому или иному лагерю.
А всего-то – несколько случайных слов и одна несдержанная особа!
– Дамы, господа! – натужно улыбаясь, хозяйка салона попыталась перехватить инициативу, – А давайте поиграем в фанты!
Нехотя, но спорщики вспомнили-таки об этикете, и обсуждение прервалось, но нет-нет, а мелькало на грани слышимости…
– …мужицкое государство, Феб Ильич… абсурд! Как есть абсурд!
– … но кто-то ведь за ним стоит?
Вечер шёл своим чередом, но в веселье собравшихся чувствовалась некоторая натуга. Былые…
… пусть даже не приятели, но люди светские, мастерски избегающие лишней политики, на миг сбросили маски, обнажив самое сокровенное, и чувствуя себя потому…
… решительно неловко.
Неловкость эта, с тонким запахом подгорающего на костре таза с вареньем, пропитывала потихонечку просторную гостиную, окутывая собравшихся сладковатым дымком и принося понимание…
… так, как раньше, уже не будет. Былая непринуждённость ушла прошлое, как далёкие дни беззаботного детства, о котором вспоминается хотя и ностальгически, но и с оттенком неловкости. Прошлое не вернуть…
* * *
Едва май перевалил за половину, походным маршем потянулись в Красное Село кавалерийские полки. Горела на солнце начищенная медь, играли трубачи, и обыватели, щурясь, провожали глазами молодцеватых вояк.
– Экие мо́лодцы! – крякали деды, а молодки стыдливо опускали глаза, встречаясь с охальными взглядами бравых вояк…
… так было раньше. В 1901 году на гвардию часто смотрели иначе, хмуро и неприветливо, а иногда и…
… будто через прицел.
Сделав привал возле Ульяновки, конная гвардия поселилась вдоль высокого берега Дудергофки, в районе Павловской слободы, поближе к Петербургу. Несколько дней на обустройство, и на Военном поле начались традиционные учения.
Тысячи, а иногда и десятки тысяч солдат одновременно, конных и пеших, совершали на поле сложные перестроения под неизменную музыку полковых оркестров. Порой полки сближались, и звуки полковых маршей, смешиваясь, давали ужасную какафонию, никого, впрочем, не смущающую.
Бесконечные марши, парады, вытягивающиеся в бесконечную нить шеренги войск, и геометрически правильные построения. Движения, доведённые до полного автоматизма, с самыми пристальным и пристрастным вниманием к внешней стороне военного дела.
Десятилетиями отрабатываются одни и те же перестроения, эволюции и атаки. Считается, что это развивает у офицеров дисциплину, внимание и глазомер, а инициатива и самостоятельность должна проявляться только после соответствующего о том приказа.
Тренировки в стрельбе как из артиллерийских орудий, так и стрелкового оружия, проходят отдельно и столь же формально. Пехоты стреляет залпами, и более всего ценятся не меткие попадания, а единовременность. Конная артиллерия лихо выезжает на передний край, на виду у назначенного "неприятеля", становясь не просто на открытые позиции, но и на гребни пригорков.
В завершении военной учёбы провели большие корпусные маневры с участием всей гвардейской кавалерии. Покинув Красносельский лагерь с наивозможно бравым видом, гвардия, согласно легенде, отправилась отражать нападение гипотетического неприятеля со стороны Нарвы.
За корпусными маневрами последовал смотр, затем итоговый маневр на Военном поле, а после кавалерийские полки прошлись галопом по полю, преодолевая специально выстроенные препятствия.
Гвоздь парада – атака кавалерии. По приказу императора, конвойные трубачи сыграли сигнал "карьер", и вся бывшая на поле конница, возглавляемая Великим Князем Николаем Николаевичем, галопом понеслась на Николая Второго и Вильгельма. Картина жуткая и величественная…
Остановившись в нескольких шагах от императоров, Николай Николаевич скомандовал "Стой! Рав-няйсь!"
… и вся масса конницы остановилась в один миг.
Николай Николаевич повернулся к ней лицом, и скомандовал зычно:
– "Палаши, шашки, сабли вон, пики в руку, слушай!" Блеснули на солнце палаши, шашки и сабли. "Господа офицеры!" снова раздался голос Николая Николаевича.
Офицеры опустили оружие, отдавая честь, а трубачи заиграли Гвардейский поход.
Великий Князь повернулся, с опущенной шашкой, лицом к императорам…
… Николай Николаевич пил одну рюмку за другой, не пьянея и только темнея лицом да страшно скрежеща зубами.
Б-дзынь! Разлетелась рюмка хрустальной шрапнелью, а невозмутимый служитель офицерского собрания Преображенского полка и глазом не моргнул, новую на серебряном подносе протягивает. Запотевшую, налитую аккурат в плепорцию…
… и снова… Б-дзынь! И рука в кулак сжимается – добела, до хруста костей, будто смыкаясь на вражьем горле!
– Не хуже… – заходясь от ненависти, задохнулся словами Великий Князь, втянув воздух со всхлипом и невидящими глазами глядя в пустоту, – не хуже Первого Сарматского… только опыта не достаёт! Мы!
– Кай-зер… – прошипел он змеёй и рванул воротник, наливаясь кровью…
– … а ведь с этим надо что-то делать, господа, – мертвенным голосом сказал один из офицеров, – все эти мизерабли[1], взлетевшие наверх посредством Нечистого, порочат саму…
Запнувшись, он потерял мысль, да так и не нашёл. Однако же в гвардии с того дня глухой ропот на всё это мужичьё сменился невнятной пока, но злой и жестокой решимостью. Потому что…
… ну в самом деле, господа! Невозможно терпеть!
Первая глава
Вынырнув, я ухватился левой рукой за просмоленный борт баркаса, проведя правой по волосам и лицу, стряхивая стекающую солёную влагу.
– Да погодь, – отмахиваюсь от Саньки с его непрошенным помоганием, – ишшо поныряю. Так тока… передых небольшой.
– Эк тебя разобрало, – хмыкнул брат, свешиваясь с развалистого низкого борта над морской зыбью и разглядывая ползающих по дну членистоногих тварей.
Не отвечая ему, потянулся всем телом, и не отцепляясь от борта, вытянулся стрункой на поверхности воды. В голове нет никаких мыслей, даже и самых ленивых. Только безмятежный покой, счастье и смутные образы чего-то неведомого, но очень и очень хорошего. Отпуск!
Вырвались из-под Парижа всего-то на несколько дней, и Божечки… какое же это счастье! Никто не дудит в уши, не требуется ничего срочно решать, думать, планировать, отвечать…
Всё-таки рановато я на самые верха влез, ноша не для неокрепшего хребта! Но вышло как вышло, чего уж теперича…
Прогнав ненужные мысли, снова ныряю и скольжу под водой, пока в груди не заканчивается воздух. А потом ещё и ещё… с неизбывным восторгом наблюдая за бытием жителей морского дна.
– Ф-фу! – отфыркиваюсь, вынырнув в десятке сажен от баркаса, отдыхиваюсь малость и воплю пронзительно:
– Айдайте в пятнашки!
Короткая заминка, и Санька, скинув белую просоленную рубаху, шумно сиганул в воду, а за ним Тома́, Илья с Адамусем и Корнелиус.
И где тот мальчишка, что сцался от самой близости большой воды?! Скажешь кому, так не поверят даже и те, учильщики херовы! Вон, чисто дельфин голожопый, будто и родился на море, с жабрами притом. Этьен марселец, а и то… кракозябра инвалидная по сравнению с Санькой!
Наплававшись до одури, нахлебавшись солёной воды чуть ли даже и не через задницу, влезли наконец на баркас, не обращая внимания на ухмылочки капитана. А и то! Обращать на каждого внимание, да объяснялки объяснять… языка и терпёжу не хватит!
Отпуск у нас! Небось если бы сам провёл этак с полгодика, почахнув над бумагами, да с нашей ответственностью, так… а, да что там говорить! Пусть хоть обухмыляется, морда небритая.
– Рубаху натяни, – забубнил Санька заботливо, тут же запутавшись в вороте, – не то облезешь, – я вот уже малость подгорел.
– Агась… – накидываю просторную одёжку сильно навырост и растягиваюсь под полотном, натянутым над баркасом. В Марселе уже лето, несмотря на весну по календарю, а денёк… чудо!
Водичка ещё не так, чтобы и вовсе уж тёплая, ну так нам, северянам, самое то! Не жарко ещё, ветра почти нет, и солнечные зайчики прыгают на морской зыби, играясь в классики.
Тома́ сидит рядышком, с видом настолько самодовольным, что хочется сделать что-нибудь пакостное…
… но лень. Да и пусть! Вытащил нас марселец в родной город, и пусть… пусть в первую голову для своих целей! С роднёй там повидаться, перед друзьями и недругами детскими похвастаться… что ж плохого-то?
Я вот перерос гармошку да сапоги лаковые, ан нет-нет, да и мелькнёт иногда что-то этакое… смутное. Сам толком не понимаю, но вот ей-ей – жалко малясь, что так и не прошёлся!
И вижу ведь, что куда как больше достиг… ан нет, не то! Школа, помощь землякам с переездом, это всё да, а вот сапог и гармошки, да вовремя – не было! Не то чтобы и грызёт, но чешется порой, н-да…
Отлежавшись, без особой охоты надулись водой. Оно вроде как и не сильно хотца, но по Одессе знаю уже, что – надо! Удара солнечного, может и не будет, а тошнотики лёгкие – запросто.
Потом прямо на судне ели молодой сыр со свежим хлебом и копчёной рыбой, да с лучком, чесночком и разбавленным вином прошлого урожая. Лепота!
Разнежившись и набив брюхо до выпяченного барабана, я с сонной ленью смотрел, как Адамусь с Корнелиусом делят забортный ящик со стеклянным дном, наблюдая за морскими гадами. Стоим на мелководье, вода чистая, и так вот, когда не мешает рябь и солнечные блики, видно очень хорошо! Естествоиспытатели, ети…
Тома́ наблюдал за ними снисходительно, ровно как они за гадами, и выбрав момент, когда Адамусь с Корнелиусом перестали наконец пхаться, вытащил дыхательный аппарат Флюсса[2] с видом доброго волшебника.
– Ети… – выдохнул Адамусь восхищённо, разом ухватив суть как опытный механик и человек, помотавшийся по свету, – ну-ка…
– Погодь! – осадил его Санька, – Руки! Руки, кому я сказал! дай человеку объяснить, куда поперёк лезешь!
– А… ну да, – Ивашкевич, хмыкнув смущённо, даже убрал руки за спину, заалев ушами.
Тома́, как и полагается человеку, некоторым образом причастному к великому Племени Инженеров, подробно объяснил – что, как… и чего – ну ни в коем случае!
– Ага, ага… – кивал Адамусь, сглатывая и косясь на нас с такой мольбой, что… да пусть его! Успеем ещё напробоваться.
Несмотря на все свои хотения и порывы, литвин понимает за технику безопасности, плавая только возле баркаса и так, чтоб если вдруг что, так и сразу! Мы с не меньшим интересом наблюдаем за его лягушачьими дрыганьями, живо и со смухуёчками обсуждая оные. Даже и капитан, презрев свои фанаберии, устроился, как бы невзначай, на перекур с того самого – нужного борта, косясь одним глазом в воду.
Наконец, покосившись нетерпеливо на вытащенные часы, Санька постучал по железному котлу, зачем-то опустив его край в море. Вид нарочито деловитый, то бишь человек не просто торопит, желая поиграть в свою очередь, а сугубо по делу и вообще… переживает! Ибо, а вдруг?
– Ох ты ж Боже… – только и сказал Адамусь, будучи вытащенным на баркас, – там так…
Он всё разводил руками и пучил глаза, пытаясь выразить невыразимое, но мы – поняли! Капитан, какой-то там очень дальний и непрямой родич Тома́, и то весь задумался, пытаясь, наверное, переложить в заскорузлой голове пользу от этой игрушки сугубо для себя.
Я, как и положено командиру в таком развлекательном деле, нырял самый последний. Слыша своё сиплое дыхание, скользил под водой, дыша невкусным воздухом, и как-то всё было…
… неправильно.
– Здорово! – не совсем искренне сказал Этьену, снимая маску, но в голове уже крутилось… всякое. Не знаю пока, как именно, но точно знаю – можно лучше!
Не было единения со стихией, как в воздухе, и вообще – сильно не факт, что в прошлой жизни я как-то причащался моря и…
"– Дайвинга"
Ага, его самого! Но всё равно, в голове начало вертеться изобретательство. Видимость плохая, и вообще…
… как то интересно это совмещается – морская авиация, которой пока нет, с аппаратами для подводного дыхания, которые как бы тоже… Хм, не знаю пока, как именно, но на всякий случай…
… сделаю вид совершенно незаинтересованный! Вот чует моя чуйка, что здесь должна быть секретность больше меня самого!
Вечером, сидя под навесом, болтали о всяком и никогда о работе, косясь одним глазом на рыбаков, взявшихся творить для нас настоящий марсельский буйабес. Тот-кто-внутри кивает одобрительно, видя костистую рыбку расскас, необходимую для навара, морских коньков, крылатку-зебру и прочие аутентичные компоненты, без обману!
Пахнет всё сильней и вкусней… и вот уже один из рыбаков застучал по котлу, созывая на обед. Ели все вместе, не слишком соблюдая этикет, перешучиваясь и причавкивая. Как раньше… как когда-то в Одессе, с поправкой на колорит. Если не знать, что простых людей среди них…
… нет.
Вон тот босоногий сивоусый усач, подмигивающий и травящий сальные анекдоты – один из заместителей мэра, а упитанный крепыш "Папаша Жюно" – известный (но хрен докажете!) контрабандист. Но…
… никаких разговоров о делах! Хоть так…
* * *
– Не знаю, што и делать, – делился проблемами Матвеев, прибывший в Ле-Бурже сразу после нашего прилёта из Марселя, – хучь плачь! Оглоблей скоро офицерьё гонять буду, ей-ей!
– Да вон… – коммандер мотнул головой, – хоть у Анатолия спроси! Уж на што человек выдержанный, а и то звереть начал.
– Евграф Ильич несколько утрирует ситуацию, – блеснул пенсне Луначарский, – но ситуация и правда нездоровая. Право слово, какая-то дурная самодеятельная театральщина! Оторопь берёт иногда, настолько всё странно и…
– Мстюны! – прикусив пустую трубку, рявкнул Матвеев, перебивая моего помощника, – А што?! Так и есть! Разобиделись вон… на всё, по их мнению плохое и етот… как там бишь?
– Крестовый поход, – подсказал Толик.
– А… он самый! – благодарно кивнул военный атташе, – Ходют и ходют… тьфу! И главное, ета… самодеятельность! Перемкнуло што-то в головёнках, набриолиненных на прямой пробор, так што я даже и просчитать не возьмусь, как и когда оно выстрелит.
– Выстрелит, это не так уж и… – начал было я, прикидывая ситуацию.
– Образно! – рявкнул коммандер, – Этих, с голубыми кровями, будто под хвостом наскипидарили! Глаза выпученные и вою много, а што, как, где…
Матвеев раздражённо пожал плечами и крепче вцепился зубами в изрядно погрызенный мундштук.
– Ага… – сказал я озадаченно, переглядываясь с Санькой, – То есть хоть стрельба, хоть провокация, а хоть бы… вообще что угодно?
– Угу, – промычал коммандер.
– Русские кантоны и иже с ними, как образ врага, – пояснил спокойно Анатолий, – это уже идеология. Ещё не государственная, но поощряемая властями. А Егор де-факто – Враг Номер Один.
– Ебическая сила, – выдохнул Санька.
– Эпическая? – вопросительно поправил Луначарский, не тая улыбку. Признавая таланты Чижа, он всё тщится сделать из него человека интеллигентного…
… но это же Санька! Мне даже интересно, кто там кого в этой битве интеллигентской придури и деревенского невежества переборет. Брат не дурак, но иногда баранится просто потому шта!
– Не… – мотанул головой брат, – ебическая!
– Во-во! – кивнул коммандер, – Выдрать с корнем эту заразу, ликвидировав ково-то одново, хер выйдет!
– А может… – Санька замер сусликом, не сразу отмерев, – не будем резать хвост по частям, а?!
Видя наше непонимание, он зачастил:
– Навстречу ударим! Егор, ты сам ведь говорил, что Париж в настоящее время исчерпал себе, а?! Если уж лезут сами, то может, сыграем мал-мала в поддавки, и прогнёмся там и тогда, где нам и надо?
– Ага… – подскочив, я зашагал по кабинету, – то бишь играем в поддавки так, что меня как бы выпихивают из Парижа… или вообще в глушь?
– В глушь, – закивал Матвеев, знакомый с моими планами и хотелками, – но формально! Как его… штобы все понимали, что если формально ты где-то што-то… то виноват и не ты, а эти… голубых кровей. Обидочка штоб у добрых французов осталась, на недобрых царёвых выкормышей. А к тебе – полное сочувствие и понимание.
– А потянем? – интересуюсь у военного атташе.
– Угум, – сжав трубку, он кивает болванчиком, – легко! Они же дуриком… не так, штобы агенты или што, а так… вавка в голове и высокие идеалы Самодержавия и крепостничества. Сколько их, белой кости, в Париже? Не одна тыща, так?
– Поболее десяти, – отвечаю уверенно, – и это если совсем белой. С разночинцами так и за двадцать будет, мне кажется.
– Неужто из этих тыщ нужных нам дуриков не подберём?! – вдохновляется моими словами коммандер.
– Недооценка противника… – начал занудно Анатолий.
– Оцениваем мы их как должно, – отмахнулся Матвеев, – не боись! Страховка с подстраховкой и планы на все случаи составим! Мы ж Егора не как живца, а как бы! Чем ждать и терпеть, подготовим несколько этих… сценариев, и по надобности и сыграем, а?!
Вторая глава
– Акцентик… – вздохнул Санька, полужидкой медузой сползая с дивана и раскидываясь прямо на полу просторной гостиной в нашей парижской квартире, – вот же ж! Проще никак?
– Не… – вздоху моему позавидует иная корова, – нам ведь не полемику надо в газетах разворачивать, а для особо мнительных зацепочки психологические выстроить. Такие типусы нужны, што сами себя накручивают, и в строчках газетных, даже и самых невинных, двойное дно норовят увидеть.
– А может, ну его? – заныл брат, повернувшись набок и оперевшись на локоть, – Попроще никак?
– Не тот случай, Сань, – пригорюнившись, отзываюсь с дивана, на котором устроился с ногами, – Ты ж знаешь, что я не сторонник излишне закрученных шахматных комбинаций в жизни…
Брат явственно хмыкнул, но смолчал.
– …но тут – надо! Мы ж хотим на лучших чувствах французов сыграть, а здесь тонко работать придётся.
– А надо ли? – перебил меня Адамусь, подобравшись в огромном кресле, – Остроумные комбинации парижане любят!
– Так-то да, – соглашаюсь с ним, поставив на подлокотник огромную кружку какао и смахивая крошки от печенья с губ, – но есть подвох! А ну как почувствуют себя одураченными и оскорблёнными? Тут же не сколько остроумие, сколько игра на лучших чувствах французов. И противник у нас тоже непростой.
– Да уж, – уныло протянул Чиж, снова раскинувшись крестом на полу и глядя в высокий потолок с лепниной, – свора эта великокняжеская, да камарилья придворная! Париж чуть не пригородом Петербурга мнят!
– А я о чём?! – дёргаю плечом, – Дворцы, дома, знакомства за десятки лет… понимать надо!
– Так… – задумался Адамусь, – а если заметки из Африки зачастить в газеты? И там уже – акцентики!
– На сословиях, а?! – филином заухал Илья, оторвавшись таскания конфет из вазы вперемешку с шумным сёрбаньем кофия, – Дескать, такой-то почтенный член Фолксраада сделал што-то там… не суть важно! С приписочкой, что он – бывший крестьянин из села Голозадово-Голодаевка, к примеру. А ныне… ну, бал даёт благотворительный. Можно даже и приврать чутка, ради красного словца!
– Да и врать не придётся, – тихохонько засмеялся Санька, – потому как когда мужик устраивает посиделки для соседей, это просто посиделки. А если тот же мужик в миллионщики выбился, или в члены Фолксраада, то уже – приём!
– Идея! – признал я, делая пометку и расписывая подробности, предлагаемые возбуждёнными парнями.
– Улыбочки! – оттолкнувшись спиной, Санька вскочил на ноги и закружился в пируэте, награждая воздух размашистыми ударами пяток.
– Противненькие! – остановившись, он отобрал у Ильи развёрнутую конфету, и сунув её за щеку, ткнул в меня пальцем, – Как ты умеешь!
– Я?!
– Могёшь, – весомо подтвердил Илья, снова зарывшись в вазу, где навалом лежало с десяток видов конфет.
– Ты, ты! – закивал Адамусь, – Не замечал? На заводе улыбочек твоих пуще выговоров боятся! Ну-кась, представь, что ты того молодого, как его…
– Жерома, – подсказал Санька, шурша фантиком наперегонки с Ильёй.
– Во, его! – закивал Ивашкевич, – Да не мне! Перед зеркалом!
Послушно встав перед трюмо, старательно представил, что стою перед молодым и самонадеянным парнем, и…
– … в морду хочется сунуть, – констатирую удивлённо, – себе же, а?! Думаешь, стоит растиражировать?
– Ещё как! – убеждённо отозвался брат, – Ты только представь, если нужному человеку, да в нужном месте! До мурашек пробирает! Если уже наскипдарены, то и сунутся к тебе со скандалом – на раз-два.
– Так улыбаться надобно, штобы никто не видел, – педантично уточнил литвин, – помимо него, разумеется!
– Ну, не знаю… – я потёр губы, будто снимая ухмылочку, – тут же, ети, талант нужо́н!
– Гадостную такую, эт да, – засмеялся Военгский, – но если посольские и те, ково знают за наших людей, начнут улыбаться при встречах с ненашими? А! Здесь, кстати, анекдотцев можно серию пустить, попошлее, оно тогда улыбочка сама и будет лезть.
– Есть такое… – чуть задумавшись, припоминаю папочку с мелкими гнусностями имперских посольских, лежащую у Матвеева. По мелочи: грехи содомские, выходки пьяные и такое всё… не поощряемое обществом, да попротивней чтоб. Ну и анекдотцами разбавить, да! С карикатурами.
Не я нарушил наше негласное перемирие, и если власти Российской Империи не могут одёрнуть зарвавшихся подданных, а напротив, гласно и негласно поощряют к гадостям, то…
… идей у меня много. Особенно почему-то к слову "Самодержец" похабщины весёлой много в голову лезет.
– Через Жан-Жака можно подойти, – предложил брат, – тесть его… ну, пусть будущий! Он же в издательском деле человек не последний? Воот…
– Подойти-то можно и без Жан-Жака, – возражаю я, – Весь смысл в том, чтобы это была не наша интрига, а пляска на граблях этих… из монархической камарильи.
– А если утечку? Ну… чево-нибудь! – прочавкал брат.
– Жопа слипнется! – прикрикнул я на него, – Хорош конфеты жрать, в самом деле! Как сухарики грызёшь, право-слово! Што за утечка-то?
– Да подумал… последняя, не смотри так! Подумал, што вокруг нас репортёры вьются, да в друзья набиваются, так? Не нас конкретно, а вообще, – помахал рукой с зажатым фантиком Санька, – так почему бы и не слить? Как бы невзначай.
– Идея, – признал я, – конкретика есть у ково?
– Так-так-так… – вытянулся сусликом литвин, подскочив с кресла, – Жопошничество!
– Чево, блять?! – вылупился я ошарашенно на Ивашкевича.
– Жопошничество, – ухмыляясь до треснутых губ, подтвердил Адамусь, – согласно британским традициям!
– Ещё раз, – попросил его, не уловив идеи, – только теперь с пояснениями. Традиции британских школ знаю, переведи теперь на язык родных осин!
– Так вы… – с видом полного превосходства поглядел на нас Адамусь, принимая наполеоновскую позу, – о Пажеском корпусе какие слухи ходят?
– А-а… – хлопаю себя по лбу.
– Бэ! – передразнил он, – Я и говорю – жопошничество! Чуть ли не обряд посвящения при поступлении через порванную сраку устраивают.
– Ну… – начал неуверенно я, – это уже, думаю, вряд ли…
– Я тоже так думаю, – перебил меня литвин, – но ведь есть? Есть разговоры? Пажеский корпус, как рассадник… и далее, вплоть до Преображенского полка.
– А! Понял! Кропоткин как раз в своих "Записках революционера" недавно писал, – я закрыл глаза и начал цитировать по памяти:
"– В силу этого камер-пажи делали все, что хотели. Всего лишь за год до моего поступления в корпус любимая игра их заключалась в том, что они собирали ночью новичков в одну комнату и гоняли их в ночных сорочках по кругу, как лошадей в цирке. Одни камер-пажи стояли в круге, другие – вне его и гуттаперчевыми хлыстами беспощадно стегали мальчиков. «Цирк» обыкновенно заканчивался отвратительной оргией на восточный лад…"
– Считается, – усмехаюсь, – что нравы Пажеского корпуса с тех времён претерпели некоторые изменения в сторону большей нравственности, но если что изменилось, то явно не слишком.
– Г-гвардия! – мотанул головой Санька – по-видимому, слишком живо представив себе услышанное. Ну да, не всегда воображение художника во благо! Сам, хм… такой же.
– Гвардия и МИД, – уточнил Адамусь, – ну и придворная служба, разумеется.
– Кто там ещё… – щёлкаю пальцами, брезгуя произносить вслух некоторые слова.
– Жопошники? – зачем-то уточнил литвин, – Так… дай Бог памяти… за Пажеский корпус могу ручаться, императорское училище правоведенья – слышал, но уточнить надо. Ну и так, отдельные… вплоть до гимназий.
– В прессе даже процесс освещали, – пожал плечами Адамусь, видя моё недоумение, – в… 1883, кажется. Я тогда мальчишкой совсем был, и как раз читать учился – всё, што с буковками попадалось, тащил. Ну и… запомнилось. Я, хм… у батюшки спросил непонятное. Н-да…
– Директор гимназии учеников развращал, не абы кто! – продолжил он, – Бычков, кажется… а вот в каком городе, запамятовал уже.
– Я, когда на Балтийском работал, в эти дела жапошнические не вникал, – раздумчиво начал Военгский, – но и то. Кажись, на Пассаже собирались любители глину месить. Эти, как их… а, точно! "Тётки"! С утра кадеты и прочие воспитанники задницами крутили, а вечером солдаты и мальчишки-подмастерья. На все, значица, вкусы. Тфу ты…
Сплюнув в сердцах ничуть не фигурально, он смущённо затёр плевок на паркете и закрестился быстро, бормоча слова молитвы.
– Я тут подумал, – подал голос брат, – а выйдет ли? Французы-то тоже… тово! В открытую!
– Выйдет! – отвечаю уверенно, как человек, размышлявший над проблемой, – Соль в том, што французское общество в целом относится к педерастам лояльно, а в России – только верхушка! Понимаешь?
– Ещё одна линия для раскола общества? – сообразил Санька.
– Угум. В крестьянской общине это тоже есть. Да есть, есть! – усмехаюсь кривовато, – Сам не сталкивался, но… в общем, глаза и уши у меня имеются – другое дело, что по соплячеству многого просто не понимал. Есть, но отношение сильно другое, и если вытащить эти гадости со дна, да с учётом доминирования староверов в Кантонах, то – сам понимаешь!
– С учётом французских нравов – как по канату пройтись, – протянул Адамусь с сомнением, – как бы парижские педерасты за петербургских не вступились!
– Кажется только! – не соглашаюсь я с ним, – Есть ряд маркеров социальных и психологических, от которых можно отталкиваться. Я, хм… насмотрелся на представителей французской богемы, уверенно могу говорить.
– Если уверен – берись, – пожал плечами Адамусь, переглянувшись с Ильёй, – я… мы пас.
– Пас? Ладно, – соглашаюсь неохотно, – возьму это направление на себя – благо, не основное, а так… в общей канве.
С силой провожу руками по лицу, будто стряхивая липкую паутину, и снова открываю тетрадочку.
– Итак… газеты с африканским житиём, жопошничество, улыбочки… што ещё предложить можете, господа заговорщики?
– По дворянству пройтись, – прищурился Илья, – скока их там в Империи Российской? Один процент населения? И прав – выше головы, а вот обязанностей-то и нетути!
– С дворянством сомнительно, – заспорил Адамусь, – во Франции позиции аристократии сильны, в Германии тем паче.
– Сравнил! – вздыбился помор, – В Германии чуть не каждый десятый, и привилегий у них, если титульную знать не считать – шиш да не шиша! Конкуренция идёт и меж собой – ого какая, да с с обычными горожанами и богатыми крестьянами!
– А, в таком контексте! – закивал Ивашкевич, – Понял! Пройтись по правам дворянства российского, да по их ничтожному количеству, так получится, что в жопку их пхают, и если не вовсе уж дурнем родился, то непременно на тёплое местечко пристроят.
– Да! Внутривидовая конкуренция фактически отсутствует, и значит што? – Илья замолк, обводя нас глазами, – Вырождение!
– Не вовсе уж, – возразил я, – да и приток свежей крови есть.
– А! – отмахнулся помор, – Несущественно! В общем и в целом есть возражения по сказанному?
– Хм, а и нет, – пожав плечами, записываю в тетрадочку, – Ещё идеи есть?
– Так… вертится што-то, – неуверенно сказал Санька, а Адамусь с Ильей только покачали головами.
– Ну, хватит пока… – закрываю тетрадь, – Так што, господа хорошие, начинаем операцию "Вброс говна на вентилятор!"







