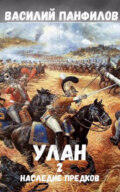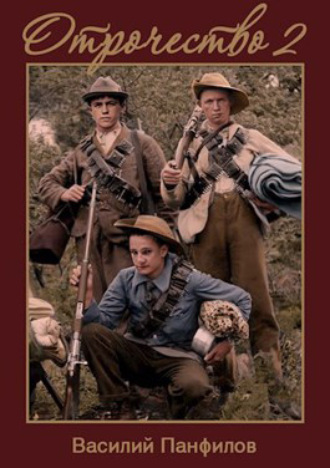
Василий Панфилов
Отрочество 2
Третья глава
Проводив Саньку в Училище, а Наденьку в гимназию, пошатался бесцельно по квартире, да и сдвинул решительно мебель в гостиной, освобождая место. Татьяна выглянула из кухни на шум, и завздыхала сочувственно, не став ничего говорить, вопреки обыкновению. Постояла этак, прижав руку с полотенцем к склонённому набок лицу, да и ушла тихохонько назад, чувствуя бабьим своим нутром нехорошее моё настроение.
Гоню мысли прочь изнурительной тренировкой на выносливость, поглядывая то и дело на часы. Не хочу даже, но шея будто сама вздёргивается, а глаза косятся на циферблат.
Время тянется застывающей смолой, и каждая минута кажется часом. Не выдержав, решительно остановил ходики, и снова – физические упражнения, чередуемые связками ударов, разрывающих воздух.
Представляю при ударах ненавистные рожи – когда абстрактное нечто в орденоносных мундирах, а когда и вполне конкретные персоны. Вон… городовой под окном или вовсе – Величеств и Высочеств всем скопом. И по рожам – холёным, упитанным, высокомерным, право имеющим… которых знаю по продаваемым, навязываемым на улицах открыткам – чуть не до разрыва связок, до боли в мышцах.
Вымотавшись едва ли не до отказа ног и обморока отусталости, сполоснулся вяло под душем и пожевал подсунутый Татьяной пирог – несомненно вкусный, но здесь и сейчас отдающий почему-то жёваной бумагой и ватой.
С-суки! Не домашний арест даже, а «постановление», которое попробуй ещё оспорь.
Это вроде как «отческое вразумление» и «нежелание портить судебными делами карьеру столь талантливому юноше», а на деле – жопа. Полная!
Не арест, а… выглядываю в окно и вижу фигуру городового, дежурящего у двора. И дворник, при всей ево ко мне основанной на подарках симпатии, и уважении к Владимиру Алексеевичу, бдит! Потому как по сути низший полицейский чин, обязанный по закону надзирать, свистеть и не пущать, а не только говно конячье убирать, да метлой мести.
Выход из дома – сугубо через разрешение, выдаваемое в полицейской управе, притом каждый раз – заново. Строго по нужде, которую необходимо доказывать в этой же управе.
Нарушать эти… предписания без большой необходимости рискованно. Судебная, а главное – внесудебная репрессивная машина самодержавия перемелет меня голодным Молохом, выплюнув остатки. Все возможности есть.
Будь я совершеннолетним, мог бы просто раствориться в городе, и через границу… да хотя бы в Австро-Венгрию. Габсбурги традиционно не ладят с Романовыми, привечая беглецов, тем паче денежных.
Пока я эмансипирован лишь частично, а несколько лет проводить на нелегальном положении или затевать сложные, дорогостоящие и де-факто безнадёжные судебные процессы из-за границы как-то не тянет.
Да и неприятности опекуну такой побег может доставить ни разу не шуточные. Несмотря на отсутствие судебных постановлений. Предписание! С-суки…
Маетно, тошно и зло, а время… ах да, ходики. Сверился с карманными, запустил часы в гостиной, да и сдвинул мебель обратно. Скоро Надя из гимназии придёт, Санька из Училища вернётся. Так-то он на месте обедает, но сейчас вроде как из солидарности и желания поддержать меня, приходит на обед домой.
На обед собрались всем домашние и ещё чуть-чуть сверху. Иосиф Филиппович, огрузнув устало на стуле, медленно ел, роняя слова.
– Добиваемся суда, – ложка отправляется в рот, обрамлённый седыми усами, несколько жевательных движений… – гласного и открытого.
– Главное сейчас, – пояснил дядя Гиляй супруге с дочкой, – перевести дело из русла внесудебного в законодательное. Гласный открытый суд – то, что нам сейчас нужно. Выбить все эти подпорочки постановлений, сорвать оковы безсудных предписаний!
– Все шансы, – закивал адвокат, поймав вопросительный взгляд Марии Ивановны. Он пожевал губами и добавил с некоторым сомнением:
– Не могу ручаться, но по всему выходит, што дело готовил покойный Трепов, – он закрестился при упоминании покойника, а Надя, напротив, поджала гневно губы, сцепив демонстративно перед собой кисти рук. Ну, мать ей потом выскажет…
Санька перекрестился с видом человека, узревшего своими глазами Божественное правосудие.
– Сам, или в его канцелярии, – Иосиф Филиппович еле заметно пожал плечами, и одними глазами показав Марии Ивановне на стоящую посреди стола супницу, и та, за неимением удалённой из гостиной Татьяны, поухаживала за ним, долив пару половничков, – сказать уверенно не могу, да по сути и неважно. Заторопились, или из-за отсутствия должного контроля допустили ошибки на каких-то этапах, не суть.
– На таран их брать, – бухнул тяжко задумавшийся опекун, зажав по-мужицки ложку в кулаке, – пока не спохватились. Суды, общественность, да даже…
Он подёргал себя за ус.
… – даже и полиция, – прозвучало без особой уверенности, – Новая метла, так сказать… да и неофициально могут… да-с, могут, потому как не все…
Опекун задумался, и на широкое лицо его выползла улыбка хулиганистого мальчишки, задумавшего какую-то нешутошную пакость.
– Я, наверное, не вернусь ночевать, – тихонечко предупредил он супругу и домашних, сызнова одеваясь на выход после обеда, – надо будет подёргать за кое-какие ниточки.
Чмокнув Марию Ивановну в уголок губ, опекун выскочил за дверь, догоняя адвоката.
– Ма-ам, – напомнила о себе Наденька, – девочки к вечеру ближе на чай придут, ты не против?
– Да помню, помню, – отмахнулась та, – Бога рада! Позавчера ещё предупреждала.
– Ну… – засмущалась девочка, – мало ли, вдруг изменилось што?
… и глазами в мою сторону с видом заговорщицы.
– Общественность будем поднимать, – как только мать удалилась, горячечно объявила Надя, схватив меня за руку, – ты знаешь, какие девочки у нас есть замечательные?!
Закивал ей с видом самым серьёзным и благодарным, хотя какая там общественность из гимназисток? Так… почувствовать себя причастными к чему-то…
… и так стало вдруг стыдно этой своей снисходительной взрослости! Девчонки, да. Могут немногое, но ведь пытаются же! Пусть пока скорее моральная поддержка, пусть… зато вырастут, по крайней мере, людьми не равнодушными.
– Ох, Надя, – обнял я её порывисто, – как же мне с вами повезло!
– Скажешь тоже, – заалела она, оттолкнув меня слегка.
– И неча обниматься, – неожиданно выговорил мне Санька, пока Надя скрылась на кухне, отдавать горнишной распоряжения перед приходом подруг, – с Фиркой вон…
… и как ухи заполыхали! Как засмущался!
– Ну а если и да!? – с тихим вызовом сказал Чиж, косясь на дверь кухни, – Сейчас нет, а вот потом…
Он окончательно засмущался, и я хлопнул его по плечу.
– Хороший выбор, брат!
«– Однако! – думалось мне, – Однако!»
И никаких больше слов и мыслей, только это словечко, да вся непростая ситуация с Санькой. Как-то оно всё сразу пошло, кувырком.
– Туки тук! – постучалась Надя в нашу комнату, – Можно?
– Заходи! – отозвался я, поворачиваясь на стуле. Усевшись на стуле рядышком, она поправила подол платья и начала рассказывать, какие у них в классе замечательные девочки, и как они все… как одна…
Санька подвернув одну ногу под себя, сидел на кровати, делая наброски в альбоме. Всё как всегда, только теперь это видится совершенно в ином свете.
Выговорившись, Надя поделилась проблемой:
– Творческий кризис, не идут рассказы о Сэре Хвост Трубой, – и опечаленный вздох.
– Бывает, – покивал я с видом умудрённого старца, – сделай перерыв.
– Может быть, и сделаю, – неуверенно пожала плечом девочка, явно не воодушевлённая предложением.
– Или смени жанр, – поменял я предложение.
– Ну…
– Героя. Вбоквелл сделай.
– А это как? – заинтересовалась она.
– Да тот же котячий мир, только вектор поменяй. Писала о героическом воителе с его кошачьими приключениями и боями за даму сердца, напиши теперь о ленивом и хитрожо…
Надя хихикнула, стараясь удержать вид благовоспитанной девочки, не знающей столь низких слов, но получилось откровенно плохо.
… – хм, хитроумном, да! Хитроумном котячьем герое, сибарите, лентяе и… – я прищёлкнул пальцами, останавливая открывшево было рот брата. В голове вертелись идеи и сюжеты, и я отчаянно пытался не упустить их.
– Гарфилд, – выдохнул я, – назови его Гарфилд!
Несколько минут я рассказывал пришедшее в голову, лихорадочно размахивая руками и расхаживая по спаленке. Надя уселась за стол, подвинула чернильницу и чистую тетрадку. Она агакала и быстро записывала, задавая уточняющие вопросы и время от времени грызя кончик пера.
Санька весь ушёл в рисование, и проходя мимо, я заметил ненароком в его альбоме забавную смесь набросков и лубка.
Звонок в дверь прервал эту идиллию.
– Барышня! – позвала Татьяна из прихожей, – До вас подруги пришли!
– Ой, да! – вскочила Надя, – Девочки!
Вслед за ней вышли и мы с Санькой, и ситуация разом стала почти светской. Весной ещё Наденькины подруги спокойно общались с нами, и лишь изредка тренировались в стрельбе глазами, а теперь – барышни! Внезапно.
– Елена, – наклонился я к руке, целую воздух над пухлой кистью, – вы удивительно повзрослели за те месяцы, пока мы не виделись.
Девочка захихикала и порозовела, очень мило смутившись. Она не столько повзрослела, сколько… хм, разъелась, став этаким миленьким поросёночком в гимназическом платье, и слова мои пролились умиротворяющим бальзамом на её истерзанную душеньку.
– Ольга, – склонился я в поцелуе над рукой второй девицы, пока Санька копировал мои действия, бормоча што-то вроде «Рад! Очень рад!», – ещё немного, и за вами станут ухаживать красивые офицеры с самыми серьёзными намерениями.
Рано запрыщавевшая Ольга захихикала вслед за подругой, и мы переместились в гостиную, ведя беседу едва ли не светскую. Мария Ивановна бдила в углу над спешно вытащенным вязаньем, изображая из себя дуэнью, и одобрительно кивая в нужных местах.
Санька несколько подрастерялся, и некоторое время мне пришлось отдувать за двоих. Но потом ничего, брат оклемался и вполне себе светский лев прорезался. Львёнок.
Беседа текла своим чередом, и гимназистки делились уж-жасно революционными планами по возмущению общественности. Намерения их не простирались дальше оповещения знакомых о возмутительной, ужасно неправильной ситуации со мной.
Я послушно кивал в нужных местах, благодарил за содействие прогрессивную общественность в их лице. Общественность млела, чувствуя себя ниспровергательницами основ и почти взрослыми дамами.
К превеликому моему облегчению, объектом воздыханий я не стал. Слишком взрослый. Не годами, а скорее биографией.
Смутно понимаю, што в таком возрасте я для них примерно столь же романтичен, как персонаж приключенческих книг. И столь же книжен. Некто абстрактный, пахнущий типографской краской, и в чьей речи слышен шелест страниц. Образ.
Странным делом, тревожность и злость понемногу начали отступать при разговоре с девочками, и я наконец позволил себе поверить – всё будет хорошо. Наверное.
Четвёртая глава
Опекун грыз мозговую косточку из щей, свирепо топорща усы, и чуть не урча по котячьи, весь отдавшись первобытному процессу насыщения. В эти минуты он как нельзя сильно походит на варварского вождя после кровавой схватки, и даже в глазах ещё не затухли красноватые отблески боя.
И манеры, да… варварские. Ни в коем случае не свинячьи, а этакое дикарское благородство, с которым он обгрызает мосол и выколачивает из кости мозги. Вот как, а?!
На ково другово так и поморщишься с этакими ухватками, а у дяди Гиляя так аутентично и аристократично выходит, што – манеры и этикет. Просто варварские.
Наденька пока в гимназии, Мария Ивановна видывала супруга и не таким, а мы… нас обгрызаньем мосла не смутить.
Супружница Владимира Алексеевича только голову рукой подпёрла, да умилённо наблюдает, как крепкие зубы мужа перемалывают хрящи.
– Добавки? – горлицей проворковала она, глазами изливая на него нежность и уходящее прочь беспокойство за лихого супруга, вернувшегося из удачного набега. И ведь ей-ей! Горят чьи-то там… нивы и сёла. Пусть даже и метафорически.
Потом гляжу на опекуна, и такое себе сомнение берёт насчёт метафоричности! Этот могёт и вполне даже натуралистично. По заветам, так сказать, предков. Пращуров даже, из времён додревних, когда врагов привязывали за ноги к двум согнутым берёзкам…
– Добавки? – повторила супруга вождя, не услыхав ответа.
– У? – варвар задумался, не выпуская из зубов мосол, – Угу! И пирог… есть?
Голос хриплый, сорванный, будто и впрямь на абордаж ходил, врубаясь во вражеские ряды и надрывая горло командами. Ну ли вражескую крепость брал, притом в первых рядах.
А ведь похоже! Была, драчка, ей-ей! Чуточку самую, но бережётся при движениях, и ссадины на костяшках об чьи-то зубы.
– Рыбный, – подхватилась Мария Ивановна, – принести?
Энергичный кивок, и челюсти вновь заработали, а руки подтянули из хлебницы горбушку духовитого чёрного хлеба от Филиппова.
– Натереть чесноком? – поинтересовался я, и горбушка была впихнута мне в руки. Натираю спешно, щедро, не жалеючи злого чеснока, и сразу – на! Только урчанье, да рвущие горбушку зубы, с наслаждением перемалывающие свежайший ржаной хлеб. И запах такой духмяный пошёл, такой внуснющий, што мы с Санькой не выдержали, да и по кусману хлеба, да чесноком его, и как навернули! А казалось бы, сыты.
Варварский вождь насыщался, медленно и неотвратимо уничтожая всё подаваемое на стол, превращаясь потихонечку в дядю Гиляя, а потом и в цивилизованного Владимира Алексеевича. Поев, он некоторое время сидел с полуприкрытыми глазами, потом встал решительно и будто через силу, через великую усталость, и ушёл в ванную умываться.
За самоваром вождь отошёл понемножку. Шумно сёрбая чайный кипяток по-купечески – из блюдца, опекун щедро черпал ложечкой варенье прямо из подвинутой поближе баночки, и розовел на глазах, надуваясь обратно водой и сытостью.
– Полдела сделано, – сказал он негромко, отмякнув вконец душой, – добились перевода дела в юридическую плоскость из внесудебной, ну и формального обвинения дождались наконец.
Мария Ивановна вопросительно посмотрела на него, зная ответ, но женской своей натурой надеясь на лучшее.
– Оскорбление Его Величества, – разочаровал её супруг, и чуть улыбнулся по-мальчишески, – Да не волнуйся! Развалим!
– Мне, – он сощурил глаза, превратившись на миг в лихого казачьего атамана, – донесли надёжные люди, што дело наше сырое, без должного оформления. Трепов, покойник, какую-то сложную комбинацию вокруг закрутить вздумал, а с его смертью всё и сорвалось.
– Раньше времени начали, – подумалось мне вслух, и руки от волнения сами сжались в кулаки.
– Может и так, – кивнул согласно дядя Гиляй, – иль может, просто часть информации у обер-полицмейстера в голове хранилась, сейчас уже не узнать. Дело сырое, рыхлое, но могло бы, да… Нам просто удалось перехватить его вовремя, в период междувластия.
В сощуренных глазах его мелькнули красноватые отблески крови и большого пожара…
* * *
– Я, стал быть, миром к тебе послан, Егор Кузьмич, – потоптавшись у двери, с чувством проговорил дед Агафон, вовсе уж сдавший и постаревший, едва ли не выцветший до прозрачности, – к тебе, как благодетелю нашему, поклон низкий передать!
Земной поклон не стал неожиданностью, но всё равно – неловко, и почему-то стыдно. Всё в рамках деревенского этикета, но чортово…
… подсознание посчитало иначе, и бросилось подымать старика. В выцветших глазах ево мелькнули почти незаметные, но вполне читаемые нотки довольства.
«– Стал быть, продавил Егорку сходу, почитай полдела сделано» – прочиталось на ево лице, поросшем клочковатой, сильно поредевшей бородкой.
Я прикусил губу, но сердобольная Наденька уже захлопотала, отдав распоряжение любопытствующей Татьяне.
– … так вы односельчане?! – всплескивала девочка руками, проявляя добросердечное, но не вполне уместное гостеприимство, – Надо же!
– Агась! Обчество послало, – не спуская с залатанных колен тощего узелка из вытертого рядна, Агафон неловко угнездился на краю стула, выпрямившись так, што умилённо прослезился бы любой ревнитель фрунта и муштры.
– Да вы пейте, пейте! – хлопотала Надя, щедрой рукой наливая в фарфоровую чашку заварки и подвигая сахар, баранки и варенье.
– Дык… – спотыкнулся словесно Агафон, опасливо косясь на белоснежную скатерть и тончайшие чашки бумажной толщины, – вы тово… этово… не думайте, я с бани досюда! Без вошек! Не так штобы и совсем с дороги, а подготовился в гости, как и положено, значица.
В глазах ево плескалось осознание важности миссии, и опасливая оглядка человека, редко едавшево хоть што слаще морквы. А тут чай! С конфектами вприкуску, и господами почти што за одним столом! Пусть мы с отсутствующим пока Санькой и вдвоём на пол господина не вытянем, но Наденька, сразу видно – барышня из хорошей семьи!
– Обчество, значица, наладило до Москвы, и здеся тоже, значица, позаботилося. Письмецо…
Он начал рыться суетливо в узелке, и наконец нашёл свернутое треугольником послание односельчан, заботливо завёрнутое в ветхую, но чистую тряпицу. Забрав письмо, я уставился вопросительно на Агафона. Тот зашамкал беззубым ртом, собираясь с мыслями.
– Мир послал, Егор Кузьмич, – разродился он наконец, – мы, стал быть, благодарны…
Кряхтя, старик начал вставать, явно намереваясь ещё раз поклониться, и Наденька поддалась на эту нехитрую провокацию. Усадив его на стул, она укоризненно глянула на меня, и принялась потчевать млеющево гостя вкусными вкусностями.
В груди зародилась глухая досада, и я развернул письмо.
«– Любезный Егор Кузьмич, давечась узнали ненароком, што вы и есть наш таинственный благодетель, не забывающий родную деревню неустанной помощью своей. Нет слов, какую горячую благодарность чувствуем мы к вам за ваши благодеяния…»
Морщусь, пробегая глазами обязательные в таких случаях славословия.
Я-деревенский не видит в них ничево худово иль хорошево, просто положенный поконом деревенский етикет. То самое, што когда не знаешь, как себя весть, ведёшь как предками заповедано, от века. Губы сами произносят заученные слова, члены совершают нужные движения, и неловкость ситуации прячется под кружевами обычаев.
Я-в-подсознании… вылез как нельзя некстати, и такое чувство неловкости распирает, такое смущение за обычные, освящённые временем строки на желтоватой бумаге, да земной поклон Агафона, коим он выразил мне благодарность общины, что и не передать!
Надя вела светскую беседу, а Агафон млел от внимания и господсково вежества. Засунув за одну щёку конфету, а за другую кусок сахара, он ломал мозолистой рукой баранки, и аккуратно рассасывал их с чаем, жмурясь от вкуснотищи. Морщинистая ево шея, вытянутая вперёд, делала старика похожим на антропоморфную черепаху.
Я мотнул головой, выбрасывая неожиданный образ, и снова вчитался. Ага, вот оно…
«– … шлите, Христа ради, денег, потому как живём в крайней нужде. Хлеб покупаем, а пуще того берём в долг, потому как в этом годе у нас снова неурожай. Яровой уродился плохо, а рожь побило градом. Нужно на хлеб, а ишшо на лошадей, потому как с ними совсем у нас плохо»
Подсознание жалостливо затрепетало, а циничный здешний-я сощурился, анализируя читанное. Врут! Как есть врут!
Што бедно живут, это как есть правда, но такая слезница, и не рукой учителя писана? Не… вот ей-ей, врак не меньше половины!
Тот бы написал поскладней, поглаже. Да и поуважительней было бы ево рукой, а эти… пиктограммы корявые. Значица, што? Не так всё и плохо, а просто – дай! А вдруг!?
Тётке неродной дал, так и прочие в Сенцово ни разу не откажутся. А общину тянуть… не-е!
Меня ажно тряхнуло, как представилось, што будто тяну я на себе всё Сенцово. Землицу общине прикупить, коровок-лошадок каждому. Да поплакаться бесприданнице какой о несчастной своей доле, потому как без приданого она никому и не нужна…
Ни много, ни мало, а несколько сот человек. Какая ни хреновая, а всё – родня! А всем дать, так давалка сломается!
Но надо. Потому как… я закряхтел, перечитывая письмо… пусть и не совсем плохо, но и хорошево мало. Да и откуда хорошему взяться, если землицы там – мало не на одноножников[9]? Как ни дели, как ни устраивай передел, а больше не станет. Н-да, ситуация…
– Значит, так, – я стукнул слегка ладонью по столу, привлекая внимание, и Агафон замер испуганным сусликом, – для начала хочу предупредить, што у меня скоро суд, и судить меня будут – за политику.
– Енто как? – опасливо поинтересовался старик, – Власти ругал?
– Царя, – и тут же поправляюсь, – так, во всяком случае жандармы говорят. И вы попасть можете под горячую руку.
Агафон зашамкал губами, расстраиваясь и мрачнея, стухая на глазах.
– Не расстраивайтесь вы так, дедушка Агафон! – Надя погладила старика по руке, – Всё хорошо будет! Егор просто совестливый, и не хочет втягивать вас в неприятности, потому и предупреждает заранее.
– Хорошо, значит? – старик начал надуваться взад, отчево у меня возникли весьма скабрезные мысли по такому ево надутию.
– Канешно! – звонко уверила ево девочка, подлаживаясь под простонародный говор, – Вот увидите! Если вас даже и будут спрашивать о чём, так вы правду говорите – пришли просить о помощи для односельчан, а никаких политических разговоров в вашем присутствии Егор не вёл!
– Ишь ты! – Агафон закрутил головой, – И всё?
– Канешно, – непуганая жизнью девочка Надя, даже удивилась. Старик с сомнением покрутил головой, но решил таки, што дело нищево – брать милостыню, а не интересоваться благонадёжностью дарителя.
– Ну тогда и хорошо, – закивал он, уставившись на меня с отчаянной надеждой в заслезившихся глазках.
– Значит… так, – повторился я, собираясь с мыслями, – всё Сенцово тянуть – тянулка порвётся. А вот, к примеру…
Как нарошно, пример не подворачивался.
… – санитаром в больницу могу помочь устроиться, – родил наконец мозг, – и не только в Москве!
Соображалка заработала на полную, и судя по выдоху Агафона, такие карьерные возможности весьма впечатлили пастуха.
– Как вам Одесса?
– Хто? – осторожно поинтересовался Агафон, уставившись на меня незамутнённым взглядом.
– Не кто, а где! Город такой, у самого Чорново моря! Портовый, тёплый. Вот в порт ещё могу помочь.
– Агась! – закивал старик, – Ето значит, одним работка в городе, а другим – землица оставшаяся? Так оно и ладно!
– А ето, – спохватился он, – с обедами при школе? Ну… и школа тож, штоб ребятишек питать, и грамоте, опять же, не лишнее…
Вытянув шею, он с тревогой вглядывался в моё лицо.
– Останется.
– Благодетель! – прослезился старый пастух, норовя припасть к руке.
– Санитаром, ишь ты! – со вкусом проговорил Агафон, выйдя со двора и щупая разбухший узелок, в который сердобольная горнишная насовала всяково. Даже и хлеб ситный есть, а?! Не сильно даже и заветренный! Небось и староста таким не побрезгует, а токмо спасибочки скажет, тока дай!
– Это ж кому такой карьер светит? – задумался он, – При больничке, да небось – доедать за болезными можно? Да-а… Одново киселя небось хучь объешься! И каши досыта. А всево-то – говна за болезными выгребать.
Рассуждая этак, он брёл потихонечку в сторону ночлежки. Переночует севодня, а завтрева и восвояси, а уж дома он обскажет всё как есть! Да… и сверх тово чутка!
«– Небось теперя не будут попрекать куском хлеба, да приживалом звать, хе-хе… Вспомнили о старике, ну да он теперь важнющий будет, а не как раньше. Как же, пробился к Егору Кузьмичу, и тово – добился! В город, да на такие работы уговорил, штоб помог устроиться, а?! А всё почему? Потому шта подход и уважение к каждому нужон!
Поехал бы старостёнок, так небось шишь ему, потому как забижал Егора по малолетству! А ён, Агафон, всёй-таки первый учитель, и уши зазря не драл! Ишь, в люди как высоко выбился…
Это ж теперя я сторожем при школе, – размечался он, – шти кажный день хлебать буду. Так вот кулаком по столу стукну, и скажу, што Егор Кузьмич велел миня как первово учителя свово особливо кормить! А?! При школе-то! При ребятишках-то веселей будет. И жалованье, ети ево!
Три рубля в месяц, да при казённом жилье и харчах, это же, это… деньжищи!»
Агафон снял картуз, утерев мигом вспотевшее лицо, и пошёл по городу Москве важно и чинно, как полагается чилавеку состоятельному и с положением в обчестве.