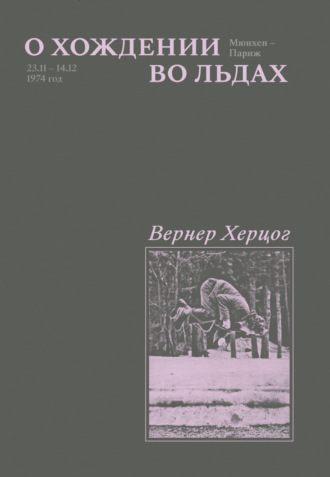
Вернер Херцог
О хождении во льдах
Под Дёртельбауером все всё позапирали. Ящик с пустыми бутылками из-под пива стоит на обочине и ждет, чтобы его забрали. Если бы овчарка, да что я говорю – волк! – не жаждала так очевидно моей крови, я бы вполне мог удовлетвориться собачьей будкой, чтобы провести в ней ночь: по крайней мере, она выстлана соломой. Показался велосипед, при каждом полном повороте колеса педаль ударяется о щиток, закрывающий цепь. Рядом со мной и надо мной проволока под током. Вокруг меня потрескивание от напряжения. Этот холм никого никуда не манит. Прямо передо мной, внизу, деревня, озаренная собственным светом. Где-то далеко справа, почти бесшумная, должна проходить оживленная трасса. Снопы света и никакого звука.
Как я испугался, когда, не доходя Аллинга, завернул в часовню, думая там заночевать, и обнаружил там женщину с бернардинцем, которая молилась. Два кипариса перед часовней смягчили мой ужас, который через ноги ушел под землю и растворился в бездонном пространстве. В Аллинге ни одного открытого заведения, я побрел мимо темного кладбища, потом мимо футбольного поля, дальше мимо какой-то новостройки, окна которой были наглухо зачехлены пленкой. Кто-то заметил меня. За Аллингом – болото, подозреваю, что тут будут сараи торфодобытчиков. Проходя возле живой изгороди, я вспугнул дроздов, огромная переполошенная стая улетела куда-то в темноту передо мной. Любопытство привело меня к правильному месту: летний домик, сад закрыт, мостик через пруд перегорожен. Не церемонясь, я действую так, как меня научил Йоши. Сначала взломать ставни, потом разбить окно, и вот ты уже внутри. Там обнаруживается лавка у стены, идущая углом, толстые декоративные свечи, горящие при этом; кровати нет, зато есть ковер, две подушки и непочатая бутылка пива. Красная восковая печать в углу. Скатерть с современным узором начала 1950-х. На ней кроссворд, с трудом разгаданный максимум на одну десятую. Каракули на полях свидетельствуют о том, что имеющийся запас слов был исчерпан. Разгадано: головной убор – шляпа, пенящийся напиток – шампанское, устройство для связи – телефон. Я заполняю кроссворд до конца и оставляю на память на столе. Чудесное местечко, вдали от всего. Ах да, там еще было «заостренная палка»? – по вертикали, три буквы, заканчивается на «л» от телефона, идущего по горизонтали; само слово не найдено, но первая клеточка многократно обведена шариковой ручкой. Я все вспоминаю женщину с кувшином молока, которая повстречалась мне на ночной деревенской дороге. Ноги в порядке. А может быть, там в пруду водится форель?
Воскресенье, 24.11
На улице туман, такой пронзительно холодный, что у меня нет слов. Пруд подернулся ледяной коркой. Проснулись птицы, звуки. Мои шаги по тропинке отдают пустотой. Лицо я вытер полотенцем, которое висело в домике; от него так жутко несло потом, что этот запах будет преследовать меня, наверное, целый день. Все та же проблема с башмаками, главное, чтобы они не жали, они совсем еще новенькие. Я подкладываю немного поролона и при каждом движении соблюдаю осторожность, как какой-нибудь зверь, у меня и мысли теперь, как мне кажется, звериные. Возле дверей, внутри, висит связка колокольчиков с язычком посередине, к которому прилажена кисточка, чтобы тянуть. Из еды только две горошины; может быть, сегодня я доберусь до Леха. Множество ворон сопровождают меня в тумане. Следы от трактора глубоко врезались в землю. Посередине одного двора гигантская плоская куча сырой и грязной сахарной свеклы. Ангерхоф: я заплутал. Из нескольких деревень одновременно доносятся воскресные колокола, похоже, начинается служба. Вороны всё еще тут, 9 утра.
Мистические холмы в тумане, сложенные из свеклы, вдоль обочины. Хриплая собака. Я вспоминаю о Захранге, когда отрезаю себе кусок свеклы и кладу его в рот. Сок в верхней части, кажется, сильно пенился; вкус напоминает об этом. Хольцхаузен: появляется дорога. На первом дворе собранные овощи прикрыты полиэтиленом, придавленным по краям старыми шинами. Когда идешь, перестаешь страдать по поводу выброшенных вещей.
Небольшой передых под Шёнгайзингом, потом вдоль Ампера; заболоченная местность, луга возле леса, а вдоль него охотничьи вышки. С одной из них виден Шёнгайзинг; туман рассеивается, появились сойки. Ночью в доме мне пришлось мочиться в старый резиновый сапог. Один охотник в компании с другим спросил меня, что я тут потерял. Я ответил, что его собака нравится мне больше, чем он.
Вильденрот, заведение «Старый трактирщик». По берегам Ампера по-зимнему пустые летние домики. Пожилой мужчина в клубах дыма закладывал корм в кормушку для синиц на ели, дым – от трубы. Я поприветствовал его и постеснялся спросить, нет ли у него теплого кофе на плите. В начале деревни я увидел старуху, маленькую, кривоногую, с выражением безумия на лице; она катила рядом с собой велосипед и разносила “Bild am Sonntag”[5]. Она подкрадывалась к домам, как подкрадываются к врагам. Какой-то ребенок с пучком пластмассовых соломинок в руках собрался играть в микадо[6]. Обслуга только что пообедала, они идут, что-то еще жуя на ходу.
В моем углу висит лошадиная упряжь, а к ней приделан красный уличный фонарь в качестве освещения, выше – громкоговоритель. Из него льется лютневая музыка и «Холлерей-ди», мой любимый Тироль.
Холодный туман рассеивается над перепаханными полями. Два африканца идут передо мной, совершенно по-африкански размахивая руками, погруженные в беседу. До последнего они не замечают, что я следую за ними. Самое унылое тут – заборы “Hot Gun Western City”[7] посреди леса, все заброшенное, холодное, опустевшее. Железная дорога, которая никогда больше не заработает. Путь становится долгим.
Несколько километров кряду, пока я двигался по проселочной дороге среди полей, передо мною шагали две малолетние деревенские красавицы. Они – одна из них в мини-юбке и с сумочкой – шли очень медленно, и я то и дело догонял их. Они замечали это издалека, оборачивались и ускоряли шаг, а потом снова замедлялись. Только ближе к деревне они почувствовали себя увереннее. Когда же я их обогнал, они, как мне показалось, испытали разочарование. Потом двор на самом краю деревни. Еще на расстоянии я заметил там старую женщину на четвереньках, она пыталась встать, но не могла. У нее получалось так, как будто она отжимается, так я, по крайней мере, подумал сначала, но она была вся такая закостеневшая, что ей было не подняться на ноги. Стоя на четвереньках, она упорно двигалась куда-то за дом, где находились связанные с ней люди. Ночевка под Гельтендорфом.
Стоя на небольшом холме, я смотрю на окрестности, расстилающиеся передо мной низиной. По ходу моего пути – Вальтесхаузен, чуть правее – стадо овец, я слышу голос погонщика, но не вижу его. Унылая, застывшая земля. Далеко-далеко по полям идет человек. Филипп писал для меня слова на песке: море, облака, солнце, а потом еще одно слово, которое он придумал сам. Еще ни разу он не сказал никому ни единого слова. Люди в Пестенакере кажутся мне нереальными. А теперь главное – где спать?





