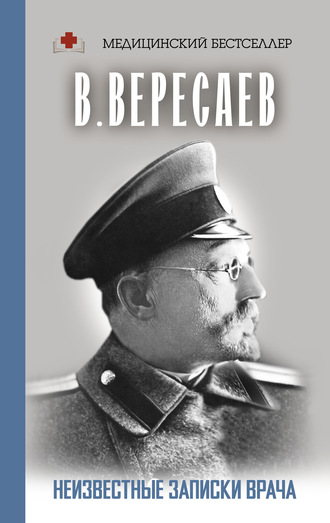
Викентий Вересаев
Неизвестные записки врача
Если у этого человека заболеет другой ребенок, то он разорится на лечение, предоставит ребенку умереть без помощи, но в клинику его не повезет: для отца это поругание дорогого ему трупа – слишком высокая плата за лечение.
Сказать кстати, право вскрывать умерших больных присвоили себе, помимо клиник, и вообще все больницы, – присвоили совершенно самовольно, потому что закон им такого права не дает; обязательные вскрытия производятся по закону только в судебно-медицинских целях. Но я не знаю ни одной больницы, где бы, по желанию родственников, умерший выдавался им без вскрытия; сами же родственники и не подозревают, что они имеют право требовать этого. Вскрытие каждого больного, хотя бы умершего от самой «обыкновенной» болезни, чрезвычайно важно для врача; оно указывает ему его ошибки и способы избежать их, приучает к более внимательному и всестороннему исследованию больного, дает ему возможность уяснить себе во всех деталях анатомическую картину каждой болезни; без вскрытии не может выработаться хороший врач, без вскрытии не может развиваться и совершенствоваться врачебная наука. Необходимо, чтобы все это понимали как можно яснее и добровольно соглашались на вскрытие близких. Но покамест этого нет; и вот больницы достигают своего тем, что вскрывают умерших помимо согласия родственников; последние унижаются, становятся перед врачами на колени, суют им взятки, – все напрасно; из боязни вскрытия близкие нередко всеми мерами противятся помещению больного в больницу, и он гибнет дома вследствие плохой обстановки и неразумного ухода…
В больнице, где я впоследствии работал, произошел однажды такой случай: лежал у нас мальчик лет пяти с брюшным тифом; у него появились признаки прободения кишечника; в таких случаях прежде всего необходим абсолютный покой больного. Вдруг мать потребовала у дежурного врача немедленной выписки ребенка; никаких уговоров она не хотела слушать: «все равно ему помирать, а дома помрет, так хоть не будут анатомировать». Дежурный врач был принужден выписать мальчика; по дороге домой он умер… Это происшествие вызвало среди врачей нашей больницы много толков; говорили, разумеется, о дикости и жестокости русского народа, обсуждали вопрос, имел ли право дежурный врач выписать больного, виноват ли он в смерти ребенка нравственно или юридически и т. п. Но ведь тут интересен и другой вопрос: насколько должен был быть силен страх матери перед вскрытием, если для избежания его она решилась поставить на карту даже жизнь своего ребенка! Дежурный врач, конечно, был человек не «дикий» и не «жестокий»; но характерно, что ему и в голову не пришел самый, казалось бы, естественный выход обязаться перед матерью, в случае смерти ребенка, не вскрывать его.
Но кому особенно приходится терпеть из-за того, что мы принуждены изучать медицину на людях, – это лечащимся в клинике женщинам. Тяжело вспоминать, потому что приходится краснеть за себя; но я сказал, что буду писать все.
Пропедевтическая клиника. На эстраду к профессору, в сопровождении двух студентов-кураторов, взошла молодая женщина, больная плевритом. Прочитав анамнез, студент подошел к больной и дотронулся до закутывавшего ее плечи платка, показывая жестом, что нужно раздеться. Мне кровь бросилась в лицо: это был первый случай, когда перед нами вывели молодую пациентку. Больная сняла платок, кофточку и опустила до пояса рубашку, лицо ее было спокойно и гордо. Ее начали выстукивать, выслушивать. Я сидел весь красный, стараясь не смотреть на больную; мне казалось, что взгляды всех товарищей устремлены на меня; когда я поднимал глаза, передо мною было все то же гордое, холодное, прекрасное лицо, склоненное над бледною грудью как будто совсем не ее тело ощупывали эти чужие мужские руки. Наконец лекция кончилась. Вставая, я встретился взглядом с соседом-студентом, мне почти незнакомым; как-то вдруг мы прочли друг у друга в глазах одно и то же, враждебно переглянулись и быстро отвели взгляды в стороны.
Было ли во мне какое-нибудь сладострастное чувство в то время, когда больная обнажалась на наших глазах. Было, но очень мало – главное, что было, – это страх его. Но потом, дома, воспоминание о происшедшем приняло тонкосладострастныи оттенок, и я с тайным удовольствием думал о том, что впереди предстоит еще много подобных случаев.
И случаев, разумеется, было очень много. Особенно помнится мне одна больная, Анна Грачева, поразительно хорошенькая девушка лет восемнадцати. У нее был порок сердца с очень характерным предсистолическим шумом; профессор рекомендовал нам почаще выслушивать ее. Подойдешь к ней, – она послушно и спокойно скидывает рубашку и сидит на постели, обнаженная до пояса, пока мы один за другим выслушиваем ее. Я старался смотреть на нее глазами врача, но я не мог не видеть, что у нее красивые плечи и грудь, я не мог не видеть, что и товарищи мои что-то уж слишком интересуются предсистолическим шумом, и мне было стыдно этого. И именно потому, что я чувствовал нечистоту наших взглядов, мне особенно больно становилось за эту девушку, какая сила заставляет ее обнажаться перед нами? Пройдет ли для нее все это даром? И я старался прочесть на ее красивом, почти еще детском лице всю историю ее пребывания в нашей клинике, – как возмутилась она, когда впервые была принуждена предстать перед всеми нагою, и как ей пришлось примириться с этим, потому что дома нет средств лечиться, и как постепенно она привыкла.
На амбулаторный прием нашего профессора-сифилидолога пришла молодая женщина с запискою от врача, который просил профессора определить, не сифилитического ли происхождения сыпь у больной.
– Где у вас сыпь? – спросил профессор больную.
– На руке.
– Ну, это пустяки. Бывшие фурункулы. Еще где?
– На груди, – запнувшись, ответила больная. – Но там совсем то же самое.
– Покажите!
– Да там то же самое, нечего показывать, – возразила больная, краснея.
– Ну, а вы нам все-таки покажите; мы о-чень любопытны! – с юмористическою улыбкою произнес профессор.
После долгого сопротивления больная наконец сняла кофточку.
– Ну, это тоже пустяки, – сказал профессор. – Больше нигде нет? Скажите вашему доктору, что у вас нет ничего серьезного.
Тем временем ассистент, оттянув у больной сзади рубашку, осмотрел ее спину.
– Сергей Иванович, вот еще! – вполголоса произнес он.
Профессор заглянул больной за рубашку.
– А-а, это дело другое! – сказал он. – Разденьтесь совсем, – пойдите за ширмочку… Следующая!
Больная медленно ушла за ширму. Профессор осмотрел несколько других больных.
– Ну, а что та наша больная? Разделась она? – спросил он.
Ассистент побежал за ширму. Больная стояла одетая и плакала. Он заставил ее раздеться до рубашки. Больную положили на кушетку и раздвинув ноги, стали осматривать: ее осматривали долго, – осматривали мерзко, гнусно.
– Одевайтесь, – сказал, наконец, профессор. – Трудно еще, господа, сказать что-нибудь определенное, – обратился он к нам, вымыв руки и вытирая их полотенцем. – Вот что, голубушка, – приходите-ка к нам еще раз через неделю.
Больная уже оделась. Она стояла, тяжело дыша и неподвижно глядя в пол широко открытыми глазами.
– Нет, я больше не приду! – ответила она дрожащим голосом и, быстро повернувшись, ушла.
– Чего это она? – с недоумением спросил профессор, оглядывая нас.
В тот же день, вечером, ко мне зашла одна знакомая курсистка. Я рассказал ей описанный случай.
– Да, тяжело! – сказала она. – Но в конце концов что же делать? Иначе учиться нельзя, – приходится мириться с этим.
– Совершенно верно. Но ответьте мне вот на что: если бы вам предстояло нечто подобное, – только представьте себе это ясно, – пошли ли бы вы к нам?
Она помолчала.
– Не пошла бы… Ни за что! – виновато улыбнулась она, с дрожью поведя плечами. – Лучше бы умерла.
А ведь она глубоко уважала науку и понимала, что «иначе учиться нельзя». Та же ничего этого не понимала, она только знала, что ей нечем заплатить частному доктору и что у нее трое детей.
Эта-то нужда и гонит бедняков в клиники на пользу науки и школы. Они не могут заплатить за лечение деньгами, и им приходится платить за него своим телом. Но такая плата для многих слишком тяжела, и они предпочитают умирать без помощи. Вот что, например, говорит известный немецкий гинеколог, профессор Гофмейер: «Преподавание в женских клиниках более, чем где-либо, затруднено естественною стыдливостью женщин и вполне понятным отвращением их к демонстрациям перед студентами. На основании своего опыта я думаю, что в маленьких городках вообще едва ли было бы возможно вести гинекологическую клинику, если бы все без исключения пациентки не хлороформировались для целей исследования. Притом исследование, особенно производимое неопытною рукою, часто крайне чувствительно, а исследование большим количеством студентов в высшей степени неприятно. На этом основании в большинстве женских клиник пациентки демонстрируются и исследуются под хлороформом… Менее всего непосредственно применима для преподавания гинекологическая амбулатория, по крайней мере, в маленьких городах. Кто хочет получить от нее действительную пользу, должен сам исследовать больных. Страх перед подобными исследованиями в присутствии студентов или даже самими студентами, – у нас, по крайней мере, – часто превозмогает у пациенток, потребность в помощи».
Если рассуждать отвлеченно, то такая щепетильность должна казаться бессмысленною: ведь студенты – те же врачи, а врачей стесняться нечего. Но дело сразу меняется, когда ставишь самого себя в положение этих больных. Мы, мужчины, менее стыдливы, чем женщины, тем не менее, по крайней мере, я лично ни за что не согласился бы, чтобы меня, совершенно обнаженного, вывели на глаза сотни женщин, чтобы меня женщины ощупывали, исследовали, расспрашивали обо всем, ни перед чем не останавливаясь. Тут мне ясно, что если щепетильность эта и бессмысленна, то считаться с нею все-таки очень следует.
И тем не менее – «иначе учиться нельзя», это несомненно. В средние века медицинское преподавание ограничивалось одними теоретическими лекциями, на которых комментировались сочинения арабских и древних врачей; практическая подготовка учащихся не входила в задачи университета. Еще в сороковых годах нашего столетия в некоторых захолустных университетах, по свидетельству. Пирогова, «учили делать кровопускание на кусках мыла и ампутации на брюкве». К счастью медицины и больных, времена эти миновали безвозвратно, и жалеть об этом преступно; нигде отсутствие практической подготовки не может принести столько вреда, как во врачебном деле. А практическая подготовка невозможна без всего описанного.
Здесь мы наталкиваемся на одно из тех противоречий, которые еще так часто будут встречаться нам впоследствии – существование медицинской школы школы гуманнейшей из всех наук – немыслимо без попрания самой элементарной гуманности. Пользуясь невозможностью бедняков лечиться на собственные средства, наша школа обращает больных в манекены для упражнений, топчет без пощады стыдливость женщины, увеличивает и без того немалое горе матери, подвергая жестокому «поруганию» ее умершего ребенка, но не делать этого школа не может; по доброй воле мало кто из больных согласился бы служить науке.
Какой из этого возможен выход, я решительно не знаю; я знаю только, что медицина необходима, и иначе учиться нельзя, но я знаю также, что если бы нужда заставила мою жену или сестру очутиться в положении той больной у сифилидолога, то я сказал бы, что мне нет дела до медицинской школы и что нельзя так топтать личность человека только потому, что он беден.
II
На третьем курсе, недели через две после начала занятий, я в первый раз был на вскрытии. На мраморном столе лежал худой, как скелет, труп женщины лет за сорок. Профессор патологической анатомии, в кожаном фартуке, надевал, балагуря, гуттаперчевые перчатки, рядом с ним в белом халате стоял профессор-хирург, в клинике которого умерла женщина. На скамьях, окружавших амфитеатром секционный стол, теснились студенты.
Хирург заметно волновался: он нервно крутил усы. В притворно скучающим взглядом блуждал по рядам студентов; когда профессор-патолог отпускал какую-нибудь шуточку, он спешил предупредительно улыбнуться; вообще в его отношении к патологу было что-то заискивающее, как у школьника перед экзаменатором. Я смотрел на него, и мне странно было подумать, – неужели это тот самый грозный NN, который таким величественным олимпийцем глядит в своей клинике?
– От перитонита умерла? – коротко спросил патолог.
– Да.
– Оперирована?
– Оперирована.
– Угу! – промычал патолог, чуть дрогнув бровью, и приступил к вскрытию.
Ассистент-прозектор сделал на трупе длинный кожный разрез от подбородка до лонного сращения. Патолог осторожно вскрыл брюшную полость и стал осматривать воспаленную брюшину и склеившиеся кишечные петли… Хирург уж накануне высказал нам в клинике предполагаемую им причину смерти больной опухоль, которую он хотел вырезать, оказалась сильно сращенною с внутренностями; вероятно, при удалении этих сращений был незаметно поранен кишечник, и это повело к гнилостному воспалению брюшины. Вскрытие подтвердило его предположение. Патолог отыскал пораненное место и, вырезав кусок кишки с ранкою, послал его на тарелке студентам. Студенты с любопытством рассматривали маленькую зловещую ранку, окруженную гнойным налетом; хирург хмурился и крутил усы. Я с пристальным, злорадным вниманием следил за ним вот он суд, где беспощадно раскрываются и казнятся все их грехи и ошибки! Эта женщина пришла к нему за помощью и именно благодаря его помощи лежала теперь перед нами; интересно, знают ли это близкие умершей, объяснил ли им оператор причину ее смерти?
Вскрытие кончилось. В своем эпикризе патолог заявил, что перитонит был несомненно вызван поранением кишечника, но что при той массе сращений и перемычек, которыми изобиловала опухоль, заметить такое поранение было очень нелегко, и в столь тяжелых операциях ни один самый лучший хирург не может быть гарантирован от несчастных случайностей.
Профессора любезно пожали друг другу руки и ушли. Студенты повалили к выходу.
Странное и тяжелое впечатление произвело на меня это первое виденное мною вскрытие. «Перитонит был вызван поранением кишечника; такое поранение трудно заметить; несчастные случайности бывают у лучших хирургов…». Как все это просто! Как будто речь идет о неудавшемся химическом опыте, где вся суть только в самой неудаче! Причины этой неудачи констатируются вполне спокойно; виновник ее, если и волнуется, то волнуется лишь вследствие самолюбия… А между тем дело идет ни больше, ни меньше, как о погубленной человеческой жизни, о чем-то безмерно страшном, где неизбежно должен стать вопрос: смеет ли подобный оператор продолжать заниматься медициной? Врач-целитель, убивающий больного! Ведь это такое вопиющее противоречие, которое допустить прямо немыслимо. А между тем никто этого противоречия как будто и не замечал.
Я испытывал такое ощущение, как будто попал в школу к авгурам. Мы – те же будущие авгуры, нас стесняться нечего, и вот нас посвящали в изнанку дела; профаны могут возмущаться существованием этой изнанки и ее резким отличием от лицевой стороны, мы же должны приучаться смотреть на дело «шире»…
Чем дальше шло теперь мое знакомство с медициной, тем все больше усиливалось у меня то впечатление, которое я вынес из первого вскрытия. В клиниках, на теоретических лекциях, на вскрытиях, в учебниках – везде было то же самое. Рядом с тою парадною медициною, которая лечит и воскрешает и для которой я сюда поступил, передо мною все шире развертывалась другая медицина – немощная, бессильная, ошибающаяся и лживая, берущаяся лечить болезни, которых не может определить, старательно определяющая болезни, которых заведомо не может вылечить. В руководствах я встречал описание болезней, которые оканчивались замечанием: «диагноз этой болезни возможен лишь на секционном столе», как будто такой своевременный диагноз кому-нибудь нужен! Перед нами выводили ребенка с туберкулезным pyo-pneumothoгахом; худой и иссохший, с торчащими костями и синюшным лицом, он сидел, быстро и часто дыша; когда его клали на спину, он начинал кашлять так, что, казалось, сейчас вывернутся все его внутренности. Профессор с серьезным видом, как будто совершал что-то очень важное, определял у него границы тупости, степень смещения средостения и т. п. Я следил за профессором, затаивая усмешку: сколько трудов кладет он на исследование, и все это лишь для того, чтобы в конце концов сказать нам, что больной безнадежен и что вылечить его мы не в состоянии! Какой в таком случае смысл в самом диагнозе? Как этот диагноз ни будь тонок, все-таки по существу дела он сводится лишь к мольеровскому: «Они вам скажут по-латыни, что ваша дочь больна». Все это было жалко и смешно. Мне вспоминалось определение сути медицины, данное. Мефистофелем:
Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen:
Ihr durchstudiert die gross und kleine Welt,
Um es am Ende gehn zu lassen,
Wie’s Gott gefallt.
«Дух медицины понять нетрудно
вы тщательно изучаете и большой и малый мир,
чтобы в конце концов предоставить всему идти,
как угодно Богу».
В лечении болезней меня поражала чрезвычайная шаткость и неопределенность показаний, обилие предлагаемых против каждой болезни средств – и рядом с этим крайняя неуверенность в действительности этих средств. «Лечение аневризмы аорты, – говорится, например, в руководстве Штрюмпеля, – до сих пор дает еще очень сомнительные результаты; тем не менее, в каждом данном случае мы вправе испробовать тот или другой из рекомендованных способов». «Чтобы предотвратить повторение припадков грудной жабы, – говорится там же, – рекомендовано очень много средств: мышьяк, сернокислый цинк, азотнокислое серебро, бромистый калий, хинин и другие. Попробовать какое-либо из этих средств не мешает, но верного успеха обещать себе не следует»; и так без конца. «Можно попробовать то-то», «некоторые очень довольны тем-то», «не мешает испытать то-то». Я пришел сюда, чтоб меня научили, как вылечить больного, а мне предлагают «пробовать», да еще без всякого ручательства за успех!
То и дело мне теперь приходилось узнавать вещи, которые все больше колебали во мне уважение и доверие к медицине. Фармакология знакомила нас с целым рядом средств, заведомо совершенно недействительных, и тем не менее рекомендовала нам употреблять их. Положим, нам неясна болезнь пациента, и нужно выждать ее выяснения, или болезнь неизлечима, а симптоматических показании нет; «но ведь вы не можете оставить больного без лекарства», – и вот в этих случаях и следовало назначать «безразличные» средства, для подобных назначений в медицине существует даже специальный термин «прописать лекарство ut aliquid fiat» (сокращенное вместо «ut aliquid fieri videatur, – чтобы больному казалось, будто для него что-то делают»). И опять-таки профессор сообщал нам все это с самым серьезным и невозмутимым видом; я смотрел ему в глаза, смеясь в душе, и думал: «Ну, разве же ты не авгур? И разве мы с тобой не рассмеялись бы, подобно авгурам, если бы увидели, как наш больной поглядывает на часы, чтоб не опоздать на десять минут с приемом назначенной ему жиденькой кислоты с сиропом?». Вообще, как я видел, в медицине существует немало довольно-таки поучительных «специальных терминов»; есть, например, термин, «ставить диагноз ex juvantibus, – на основании того, что помогает»: больному назначается известное лечение, и, если данное средство помогает, значит, больной болен такою-то болезнью; второй шаг делается раньше первого, и вся медицина ставится вверх ногами: не зная болезни, больного лечат, чтобы на основании результатов лечения определить, от этой ли болезни следовало его лечить!
Я начинал все больше проникаться полнейшим медицинским нигилизмом, тем нигилизмом, который так характерен для всех полузнаек. Мне казалось, что я теперь понял всю суть медицины, понял, что в ее владении находятся два-три действительных средства, а все остальное – лишь «латинская кухня», «ut aliquid fiat», что со своими жалкими и несовершенными средствами диагностики она блуждает в темноте и только притворяется, будто что-нибудь знает. Разговаривая о медицине с немедиками, я многозначительно улыбался и говорил, что, сознаваясь откровенно, «вся наша медицина» – одно, лишь шарлатанство.
Каким образом из всего только что описанного мог я сделать такое резкое и решительное заключение? Мне кажется, основанием этому мне послужило то очень распространенное мнение, которое бессознательно разделял и я: «Ты врач, значит, ты должен уметь узнать и вылечить всякую болезнь; если же ты этого не умеешь, то ты – шарлатан». Я закрывал глаза на средства и пределы науки, на то, что она делает, и смеялся над нею за то, что она не делает всего. Так именно и относится к медицине большинство недумающих людей. В 1893 году на петербургской гигиенической выставке, в числе других патолого-анатомических препаратов, был выставлен «сердечный полип, случайно найденный при вскрытии». Полип этот чрезвычайно рассмешил фельетониста одной большой петербургской газеты: вот, дескать, так эскулапы наши: хорошие у них бывают «случайные» находки! Та же гигиеническая выставка, так много показавшая, что дает медицина, для г. фельетониста не существует: из всей выставки он видит только этот «случайно найденный полип» и обливает за него презрением врачей и медицину, даже не интересуясь узнать, возможно ли при жизни открыть такой полип. Для врачей не должно быть ничего невозможного вот точка зрения, с которой судит большинство; с этой же точки зрения судил и я.
Один случай произвел во мне полный переворот. В нашу хирургическую клинику поступила женщина лет под пятьдесят с большою опухолью в левой стороне живота. Куратором к этой больной был назначен я. На обязанности студента-куратора лежит исследовать данного ему больного, определить его болезнь и следить за ее течением; когда больного демонстрируют студентам, куратор излагает перед аудиторией историю его болезни, сообщает, что он нашел у него при исследовании, и высказывает свой диагноз, после этого профессор указывает куратору на его промахи и недосмотры, подробно исследует больного и ставит свое распознавание. Опухоль у моей больной занимала всю левую половину живота, от подреберья до подвздошной кости. Что это была за опухоль, из какого органа она исходила? Ни расспрос больной, ни исследование ее не давали на это никаких хоть сколько-нибудь ясных указаний, с совершенно одинаковою вероятностью можно было предположить кистому яичника, саркому забрюшинных желез, эхинококк селезенки, гидронефроз, рак поджелудочной железы. Я рылся во всевозможных руководствах, и вот что находил в них:
С гидронефрозом очень легко смешать эхинококк почки: мы много раз видели также мягкие саркоматозные опухоли почек, относительно которых мы были уверены, что имели дело с гидронефрозом («Частная хирургия» Тильманса).
Рак почки нередко принимался за брюшинные опухоли желез, опухоли яичника, селезенки, большие подпоясничные нарывы и т. п. (Штрюмпель).
При кистах яичника встречаются очень неприятные диагностические ошибки… Дифференциальное распознавание кисты яичника от гидронефроза оказывается наиболее опасным подводным камнем, так как гидронефроз, если он велик, представляет при наружном исследовании совершенно такую же картину; поэтому подобного рода диагностические ошибки очень не редки («Гинекология» Шредера).
Клинические симптомы рака поджелудочной железы почти никогда не бывают настолько ясны, чтоб можно было поставить диагноз (Штрюмпель).
Скептически и враждебно настроенный к медицине, я с презрительной улыбкой перечитывал эти признания в ее бессилии и неумелости. Я как будто даже был доволен тем, что не могу ориентироваться в моем случае, моя ли вина, что наша, с позволения сказать, «наука» не дает мне для этого никакой надежной руководящей нити? У моей больной опухоль живота – вот все, что я могу сказать, если хочу отнестись к делу сколько-нибудь добросовестно; вырабатывать же из себя шарлатана я не имею никакого желания и не стану «уверенно» объявлять, что имею дело с гидронефрозом, зная, что это легко может оказаться и саркомой, и эхинококком, и чем угодно.
Пришло время демонстрировать мою больную. Ее внесли на носилках в аудиторию. Меня вызвали к ней. Я прочел анамнез больной и изложил, что нашел у ней при исследовании.
– Какой же ваш диагноз? – спросил профессор.
– Не знаю, – ответил я, насупившись.
– Ну, приблизительно?
Я молча пожал плечами.
– Случай, положим действительно, не из легких, – сказал профессор и приступи сам к расспросу больной.

Викентий Игнатьевич Смидович (тульский врач и общественный деятель, отец писателя В. В. Вересаева). Тула, 1890-е. Фотоателье И. Ф. Курбатова.
Сначала он предоставил самой больной рассказать об ее болезни. Для меня ее рассказ послужил основою всему моему исследованию; профессор же придал этому рассказу очень мало значения. Выслушав больную, он стал тщательно и подробно расспрашивать ее о состоянии ее здоровья до настоящей болезни, о начале заболевания, о всех отправлениях больной в течение болезни; и уж от одного этого умелого расспроса картина получилась совершенно другая, чем у меня – перед нами развернулся не ряд бессвязных симптомов, а совокупная жизнь больного организма во всех его отличиях от здорового. После этого профессор перешел к исследованию больной он обратил наше внимание на консистенцию опухоли, на то, смещается ли она при дыхании больной, находится ли в связи с маткою, какое положение она занимает относительно нисходящей толстой кишки и т. д., и т. д. Наконец профессор приступил к выводам. Он шел к ним медленно и осторожно, как слепой, идущий по обрывистой горной тропинке, ни одного самого мелкого признака он не оставил без строгого и внимательно обсуждения; чтоб объяснить какой-нибудь ничтожный симптом, на который я и внимания-то не обратил, он ставил вверх дном весь огромный арсенал анатомии, физиологии и патологии; он сам шел навстречу всем противоречиям и неясностям и отходил от них, лишь добившись полного их объяснения. И в конце концов, когда, сопоставив добытые данные, профессор пришел к диагнозу, «рак-мозговик левой почки», – то это само собою вытекло из всего предыдущего.
Я слушал, пораженный и восхищенный; такими жалкими и ребяческими казались мне теперь и мое исследование и весь мой скептицизм!.. Спутанная и неясная картина, в которой, по-моему, было невозможно разобраться, стала совершенно ясной и понятной. И это было достигнуто на основании таких ничтожных данных, что смешно было подумать.
Через неделю больная умерла. Опять, как тогда, на секционном столе лежал труп, опять вокруг двух профессоров теснились студенты, с напряженным вниманием следя за вскрытием. Профессор патолог извлек из живота умершей опухоль величиною с человеческую голову, тщательно исследовал ее и объявил, что перед на ми – рак-мозговик левой почки… Мне трудно передать то чувство восторженной гордости за науку, которое овладело мною, когда я услышал это. Я рассматривал лежащую на деревянном блюде мягкую, окровавленную опухоль, и вдруг мне припомнился наш деревенский староста Влас, ярый ненавистник медицины и врачей. «Как доктора могут знать, что у меня в нутре делается? Нешто они могут видеть насквозь?» – спрашивал он с презрительной усмешкой. Да, тут видели именно насквозь.
Отношение мое к медицине резко изменилось. Приступая к ее изучению, я ждал от нее всего; увидев, что всего медицина делать не может, я заключил, что она не может делать ничего; теперь я видел, как много все-таки может она, и это «многое» преисполняло меня доверием и уважением к науке, которую я так еще недавно презирал до глубины души.
Вот передо мною больной, он лихорадит и жалуется на боли в боку; я выстукиваю бок: притупление звука показывает, что в этом месте грудной клетки легочный воздух заменен болезненным выделением; но где именно находится это выделение, – в легком или в полости плевры? Я прикладываю руку к боку больного и заставляю его громко произнести: «раз, два, три!» Голосовая вибрация грудной клетки на больной стороне оказывается ослабленною; это обстоятельство с такою же верностью, как если бы я видел все собственными глазами, говорит мне, что выпот находится не в легких, а в полости плевры. У больного парализована левая нога: я ударяю ему молоточком по коленному сухожилию, – нога высоко вскидывается; это указывает на то, что поражение лежит не в периферических нервах, а где-нибудь выше их выхода из спинного мозга, но где именно? Я тщательно исследую, сохранила ли кожа свою чувствительность, поражены ли другие конечности, правильно ли функционируют головные нервы и пр., – и могу, наконец, с полной уверенностью сказать: поражение, вызвавшее в данном случае паралич левой ноги, находится в коре центральной извилины правого мозгового полушария, недалеко от темени… Какая громадная, многовековая подготовительная работа была нужна для того, чтобы выработать такие на вид простые приемы исследования, сколько для этого требовалось наблюдательности, гения, труда и знания! И какие большие области уже завоеваны наукою! Выслушивая сердце, можно с точностью определить, какой именно из его четырех клапанов действует неправильно и в чем заключается причина этой неправильности, – в сращении клапана или его недостаточности; соответственными зеркалами мы в состоянии осмотреть внутренность глаза, носо-глоточное пространство, гортань, влагалище, даже мочевой пузырь и желудок; невидимая, загадочная и непонятная «зараза» разгадана; мы можем теперь приготовлять ее в чистом виде в пробирке и рассматривать под микроскопом. При акушерстве с почти математической точностью изучен весь сложный механизм родов, определены все факторы, обусловливающие тот или иной поворот младенца, и искусственные приемы помощи строго согласуются с этим сложным естественным движением. Ребенку выжигают раскаленным железом носовые раковины, предварительно смазав их кокаином: живое тело шипит, кругом пахнет горелым мясом, а ребенок сидит, улыбаясь и спокойно выдыхая из ноздрей дым…
Но всего не перечислить. Конечно, многое, еще очень многое не достигнуто, но все это лишь вопрос времени, и нам трудно себе даже представить, как далеко пойдет наука. Ведь еще несколько лет назад показалась бы нелепостью самая мысль о том, что человеческое тело возможно в буквальном смысле видеть насквозь; теперь же, благодаря. Рентгену, эта нелепость стала действительностью. Сорок лет назад у хирургов три четверти оперированных умирало от гнойного заражения; гнойное заражение было проклятием хирургии, о которое разбивалось все искусство оператора. «Я ничего положительно не знаю сказать об этой страшной казни хирургической практики, – с отчаянием писал Пирогов в 1854 году. – В ней все загадочно: и происхождение, и образ развития. До сих пор она в такой же степени неизлечима, как рак». – «Если я оглянусь на кладбища, – пишет он в другом месте, – где схоронены зараженные в госпиталях, то не знаю, чему более удивляться: стоицизму ли хирургов, занимающихся еще изобретением новых операций, или доверию, которым продолжают еще пользоваться госпитали у общества»… Явился Листер, ввел антисептику, она сменилась еще более совершенной асептикой, и хирурги из бессильных рабов гнойного заражения стали его господами; в настоящее время, если оперированный умирает от гнойного заражения, то в большинстве случаев виновата в этом уж не наука, а оператор.







