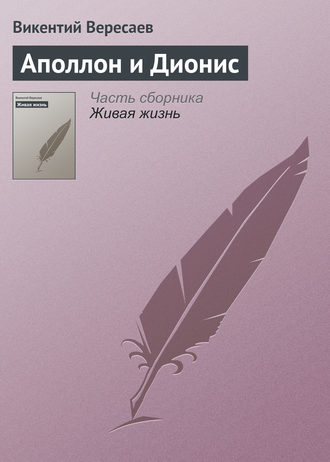
Викентий Вересаев
Аполлон и Дионис
V
«Лучше всего – не родиться»
И вот вступил этот бог в светлую, благословенную Элладу. И было ему здесь имя Дионис, – Дионис или Вакх, – тот самый Вакх, Бахус, который обычному представлению рисуется беззаботным кутилою, веселым богом вина и пиров.
Гомеровский эллин почти еще не знал этого бога (Стих 325 Ил. XIV, где говорится о «радости людей Дионисе», – позднейшая вставка). Дионис чужд олимпийским богам, он не вмешивается в жизнь гомеровских эллинов. Гомер мимоходом упоминает о Дионисе лишь в рассказе о борьбе с ним фракийского царя Ликурга, где Дионис назван безумствующим; да еще смутно упоминается мэнада, с которою Гомер сравнивает обезумевшую от горя Гекубу. «Безумствование» – вот что с самого начала является основным, характернейшим признаком Диониса.
Но для грека аполлоновского безумие было только карою, налагаемою богами на человека, было несчастием. На фронтоне храма Аполлона в Делосе была надпись:
Самое желанное – быть здоровым.
И понятно, каким чуждым, – может быть, даже смешным, – должен был казаться древнему эллину этот новый бог, в основу служения себе полагавший именно безумие, и безумие это признававший священным. Как Пенфей в еврипидовых «Вакханках», гомеровский грек должен был видеть «великий позор для эллинов» в загоравшемся пожаре вакхических неистовствований. Но время было уже не то. И, как Тиресий Пенфею, это новое время могло бы ответить негодующему гомеровскому эллину:
Не смейся, друг, над этим новым богом.
Я не нашел бы слов, чтоб рассказать,
Как будет он могуч по всей Элладе.
Во главе неистовствующих, истерических женщин медленно, но неуклонно завоевывал страдалец-бог прекрасную, мужественную и жизнерадостную Элладу. Век за веком власть его расширялась и углублялась, светлые олимпийцы отступали перед ним и сдавали ему свои троны. Сбывалось предсказание Диониса врагам его и противникам:
Вы побежите все, – и медные щиты
Поворотятся вспять пред тирсами вакханок.
Для нас не новая религия служит причиною изменения народного богочувствования. Скорее наоборот: только изменившееся отношение народа к божеству и жизни делает возможным не формальное, а действительно внутреннее усвоение новой религии. Рассмотрим же прежде всего те внутренние изменения в эллинском духе, которые сделали возможным завоевание Эллады Дионисом. Ярко и цельно эти изменения выражаются в послегомеровской литературе.
Перед лицом этой безнадежно-пессимистической литературы, потерявшей всякий вкус к жизни, трудно понять, как можно было когда-либо говорить об эллинстве вообще как о явлении в высокой степени гармоническом и жизнелюбивом. Ни в одной литературе в мире не находим мы такого черного, боязливо-недоверчивого отношения к жизни, как в эллинской литературе VII–IV веков.
Нет средь людей никого, кто был бы счастлив на свете.
Все несчастны, над кем солнце на небе блестит.
Так говорит Солон. Представление о положительном счастье вообще совершенно отсутствует в этой литературе. «Без страданий нет никого; у кого меньше всего страданий, тот – счастливый», учит Софокл. И в одно с ним говорит Еврипид: «Страдать должны мы все; мудр тот, кто всего благороднее несет посланный жребий».
Если на этих людей спускалось даже счастье, то и оно отравлялось мыслью: прочно ли оно? «Мудрый» должен был непрестанно помнить, что «человек есть чистейший случай», – как выражается Солон. Он говорит у Геродота Крезу: «Счастливым я не могу тебя назвать прежде чем я не узнал, что ты счастливо кончил свою жизнь. В каждом деле нужно смотреть на окончание, которым оно увенчивается; ибо многих людей божество поманило счастьем, а потом ввергло в погибель».
Как? Да неужели счастье не есть счастье только потому, что через год или через двадцать лет оно сменится несчастьем? Неуверенными руками человек принимает счастье, боится даже посмотреть на него, а робко заглядывает вперед, не таится ли там где-нибудь беда. Да в конце концов – что же из того, что там беда? Придет время – пускай она обрушится на меня. Но разве когда-нибудь сможет она опровергнуть то счастье, которое у меня было, которое светом и движением заполнило мою жизнь? Пусть придет горе, пусть придет смерть скорбная и одинокая, – одно только можно будет сказать жизни: «Спасибо тебе, жизнь! Ты много дала мне, я видел от тебя ласку и счастье, – пусть же теперь будет то, что будет!»
Но не так для этой литературы. Вся она насквозь пропитана беспричинно мрачным, теснящим душу настроением только что проснувшегося неврастеника. Счастье? Какое же это счастье, если существует на свете несчастье? Какое это счастье, если его может сменить несчастье? И душа не только не борется с таким настроением, не только не старается с негодованием стряхнуть его с себя, – в нем она, напротив, видит высшую мудрость, глубочайшее прозрение и понимание жизни. Если живой человек ярко и непосредственно ощущает счастье, то это – затмение ума, которое следует рассеивать. Блажен и удачлив был Эдип, – и вот какие беды обрушились на него!
Учитесь люди,
И пока пределов жизни не достигнет без печали,
И пока свой день последний не увидит тот, кто смертен,
На земле не называйте вы счастливым никого.
(Софокл).
Человек не только перестает верить в счастье – он начинает бояться его. Уже лицом к лицу со счастьем, даже в промежутке «между краем чаши и губами», он не перестает чувствовать угрозу. Завистливо-подстерегающими глазами следит за человеком божество, прочная радость смертного, его счастье для божества невыносимы. Поэтому смущением и страхом встречает человек выпадающее на его долю счастье. «Всякое божество завистливо и тревогою преисполняет человека», – говорит Геродот. Он же рассказывает легенду о кольце счастливца Поликрата, самосского тирана, – легенду, всем нам известную по балладе Шиллера. Друг Поликрата Амазис порывает с ним отношения и в письме к нему объясняет это так: «Меня пугает твое великое счастье, ибо я знаю, как завистливо божество».
Ферамен, один из тридцати афинских тиранов, пировал однажды с многочисленными друзьями. Вдруг крыша дома обрушилась и раздавила всех, и один только Ферамен остался невредим. Что же он, обрадовался своему спасению? О, нет! Он… испугался. Чего? Вот чего:
– О, судьба! – воскликнул он в ужасе, – для каких же будущих бед бережешь ты меня?
Глядя на этих трепещущих перед жизнью людей, – уж не с улыбкою, как в гомеровском гимне, а с отвращением и брезгливым негодованием воскликнул бы лучезарный Аполлон:
Вечно вы ищете духом, нестойкие, глупые люди,
Тягостных мук для себя, и забот, и душевных стеснений!
Грек гомеровский, не отступавший стойким своим духом ни перед какими ужасами жизни, уж, конечно, сумел бы снести на своих плечах и счастье:
Много встречал я напастей, немало трудов перенес я
В море и битвах, пускай же случится со мною и это!
Та «истина», которую открыл царю Мидасу лесной бог Силен, становится теперь для эллина основною истиною жизни.
Величайшее первое благо – совсем
Не рождаться, второе, – родившись,
Умереть поскорей… –
скорбно поет хор в софокловом «Эдипе в Колоне». То же самое говорят лирик Феогнид, трагик Еврипид, историк Геродот. Неведомый автор поэмы «Состязание Гомера и Гесиода» эту же мысль кощунственно вкладывает даже в уста Гомера:
Лучшая доля для смертных – на свет никогда не родиться,
Если ж родился, – войти поскорее в ворота Аида.
«У других народов, – правильно замечает Якоб Буркгарт, – проклинание дня рождения представляет собою только редкое слово крайнего отчаяния».
Двое аргивских юношей, Клеобис и Битон, совершили высокий подвиг сыновней любви. Мать их, жрица Геры, обратилась к своей богине с мольбою, чтоб она ниспослала ее сыновьям самый лучший человеческий жребий. Богиня вняла ее мольбе и послала юношам – смерть. «И этим божество показало, – говорит Геродот, – что для человека лучше умереть, чем жить». И когда Фивы послали к оракулу посланцев с поручением вымолить для знаменитого Пиндара «то, что в человеческой судьбе самое лучшее для любимого богами», – боги послали Пиндару смерть.
Жизнь глубоко обесценилась. Свет, теплота, радость отлетели от нее. Повсюду кругом человека стояли одни только ужасы, скорби и страдания. И совершенно уже не было в душе способности собственными силами преодолеть страдание и принять жизнь, несмотря на ее ужасы и несправедливости. Теперь божество должно держать ответ перед человеком за зло и неправду мира. Это зло и неправда теперь опровергают для человека божественное существо жизни. Поэт Феогнид говорит:
Милый Зевс! Удивляюсь тебе; всему ты владыка,
Все почитают тебя, сила твоя велика,
Взорам открыты твоим помышленья и души людские,
Высшею властью над всем ты обладаешь, о, царь!
Как же, Кронид, допускает душа твоя, чтоб нечестивцы
Участь имели одну с тем, кто по правде живет,
Чтобы равны тебе были разумный душой и надменный,
В несправедливых делах жизнь проводящий свою?
Кто же, о кто же из смертных, взирая на все это, сможет
Вечных богов почитать?
Прежнему эллину – мы это уже видели – подобные вопросы были глубоко чужды. Жизнь и божество он умел оправдать из силы собственного духа.
Смертью несло теперь от жизни. И начинает шевелиться в душе вопрос: не есть ли жизнь именно смерть? Не есть ли жизнь что-то чуждое для человека, что-то ему несвойственное, что-то мертвящее его? Еврипид спрашивает:
Кто скажет нам, – не смерть ли жизнь земная,
И смерти час – не жизни ли начало?
И философ Гераклит Ефесский учит: «Мы живем смертью наших душ, а души наши живут нашею смертью».
Жизнь – это что-то призрачное, колеблющееся, обманчивое. Для Гомера умерший человек становится «подобен тени или сну». Теперь иначе. Для Пиндара живой человек есть «сновидение тени». И Софокл говорит:
Я вижу: все мы на земле – не больше,
Как призраки иль трепетные тени.
Жизнь, как таковая, мир сам по себе начинают представляться человеку отягченными какою-то великою виною. Анаксимандр Милетский в своей натур-философской системе учит, что видимый наш мир, выделяясь из Беспредельного, совершает как бы прегрешение. «Из чего произошли все вещи, в это они, погибая, превращаются по требованию правды, ибо им приходится в определенном порядке времени претерпеть за неправду кару и возмездие».
Глубокая пропасть ложится теперь между телом человеческим и душою. Для Эмпедокла тело – только «мясная одежда» души. Божественная душа слишком благородна для этого мира видимости; лишь выйдя из него, она будет вести жизнь полную и истинную. Для Пифагора душа сброшена на землю с божественной высоты и в наказание заключена в темницу тела. Возникает учение о переселении душ, для древнего эллина чуждое и дико-непонятное. Земная жизнь воспринимается как «луг бедствий».
Все подобные настроения ярко концентрируются в так называемом орфизме – тайном учении, возникшем или, вероятнее, только вышедшем на поверхность эллинской жизни в VI веке до Р. X., – как раз в то время, когда в Индии возникал буддизм.
Мир лежит глубоко во зле, – учит орфизм. Жизнь есть тяжкое страдание растерзанного божества. Лишь какое-то великое прегрешение могло низвергнуть нашу божественную душу в низменную земную жизнь. Тело – могила души (soma – sema), и душа заключена в тело для искупления какой-то вины. И нелегко достигнуть этого искупления; одной земной жизни мало, чтоб освободить душу от первородного греха, тяготеющего над нею. Долгим и скорбным путем, переселяясь из тела в тело, душа должна очиститься от земной скверны, пока, наконец, не удостоится полного освобождения от оков земной жизни и не сольется с божеством.
Цель жизни человека должна заключаться в очищении. Бывали обстоятельства, когда в очищении нуждался и гомеровский эллин; но там оно имело задачею снять со светлого существа человека случайно загрязнившее его пятно преступления. Здесь же совсем другое: нужно было очищаться от жизни, от жизни самой по себе. Дело не в каком-нибудь определенном прегрешении, – человек грешен уже с самого рождения, он изначально нечист и греховен. В строгих трудах, посте и лишениях «орфической жизни» может он искупить эту свою греховность. Совершенно чуждое для эллина начало, аскетизм, кладется в основу благочестивой жизни. Суть этого благочестия – в обращении к божеству, в отречении от земной жизни, от всего, что привязывает к ней. «Душе, от бога пришедшей и стремящейся назад к богу, нечего делать на земле (и именно поэтому не к чему служить морали); она должна очиститься от всего земного» (Э. Роде).
Не следует думать, что орфизм был только случайною, маленькою заводью у края широкого потока эллинской духовной жизни. Правда, в эпоху расцвета эллинской культуры он не имел широкого распространения в народе, – это случилось позже, в века упадка и разложения, перед появлением христианства. Но с орфизмом, – как и с пифагорейством, во многом родственным с орфизмом, – крепкими нитями были связаны лучшие духовные силы послегомеровской Греции, ее величайшие мыслители и художники.
Однако уже и в широкой публике тогдашних зрителей трагедии не вызывали смеха и недоумения образы, подобные еврипидову Ипполиту. Целомудренный юноша-постник, «ученик Орфея», Ипполит глубоко презирает богиню любви Афродиту. Прежнему эллину было понятно целомудрие как противоположность разврату, и он чтил целомудренную Пенелопу, жену Одиссея. Но целомудрие, отрицающее саму любовь, было для него чем-то совершенно нелепым. Для чего же существуют мужчина и женщина, для чего в них заложено стремление друг к другу, как не для того, чтобы
вместе на ложе всходить и сближаться,
Как для людей установлен закон, – для мужчин и для женщин?
(Ил. IX. 133–134).
Любовь сама по себе была для древнего эллина глубоко священна, потому-то и существовала богиня любви. И сама целомудренная девственница Артемида, которой якобы служит Ипполит, была, между прочим, покровительницей родящей женщины.







