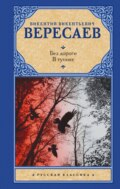Викентий Вересаев
Два конца
XI
– Я… я знаю… Господи, что же это?… Пустите… Я знаю! – задыхаясь, твердила Александра Михайловна и с смертельно-бледным лицом проталкивалась сквозь толпу. – Городовой, это девушка одна… Я знаю!.. О господи!..
Она уже минуты три стояла в толпе, теснившейся на набережной. За краем гранитного спуска медленно плескались длинные зеленоватые волны, утреннее солнце глубоко освещало их и делало прозрачными, и на этом зеленоватом, плещущем фоне неподвижно рисовалось лежавшее на плитах тело девушки. Мокро-тяжелая черная юбка плотно облегала вытянутые ноги. Острые концы ботинок торчали в стороны. Александра Михайловна подалась вперед, чтоб разглядеть лицо, и с смутно жалостливым, жадным любопытством смотрела: широкий, чистый лоб; от угла рта по синеватой щеке тянулась струйка пенисто-темной жидкости. Вдруг серая шелковая кофточка на выступе груди показалась странно знакомою. Потом, вызывая недоумение, стали знакомыми округлость щеки, намокшие рыжеватые волосы. И загадочно-неизвестное чуждое лицо утопленницы вдруг превратилось в знакомое лицо Тани.
– Городовой, я знаю… Господи, господи!.. – повторяла Александра Михайловна. – Это девушка одна, Капитанова фамилия… Татьяна… О боже, что же это?
Городовой, вынув книжечку, записывал имя утопленницы и адрес Александры Михайловны, толпа приставала к Александре Михайловне с расспросами, а она, всхлипывая, повторяла: «Господи, господи!» и, не отрываясь, смотрела на Таню. Все в ней было близко знакомо и все – страшно, необычно, скрытно-чуждо. Вся она была пропитана тайно принятым вчера позором и одиночным ужасом пошедшей на самоуничтожение жизни.
И она лежала на мостовой, неподвижная, жалкая и загаженная. Мокрая юбка плотно облегала раздвинутые ноги, в этом было что-то особенно жалкое и беззащитное. Хотелось наклониться, оправить юбку, скрыть выставленные под чужие взгляды ноги. А за гранитным спуском все плескались прозрачно-зеленоватые длинные волны, и от них веяло сырым запахом водорослей.
Труп увезли. Александру Михайловну пригласили в участок, там еще раз записали все. Она вышла на улицу. Давно было пора идти в мастерскую, но Александра Михайловна забыла про нее. Она шла, и в ее глазах плескались зеленоватые, пахнувшие водорослями волны, и темно-пенистая струйка тянулась по круглой щеке.
Было яркое сентябрьское утро. Солнце золотым светом заливало дома, магазины и конки. На теневой стороне улиц, вдоль высоких домов, стояла туманно-синяя дымка.
Дворники в фиолетовых фуфайках мели улицы, по панелям шли люди с равнодушными, не знающими случившегося лицами, они не только не знали о случившемся, они как будто не знали и того, как страшна жизнь и как беспомощны против нее люди.
И опять перед Александрой Михайловной плескались прозрачно-зеленоватые волны, и Таня лежала с плоскими, слипшимися на синеватом лбу волосами. Александра Михайловна вспомнила, как месяц назад на этих волосах, тогда живых и пушистых, дрожали капельки осеннего дождя, и они золотистым сиянием окружали круглое, весенне-счастливое лицо Тани. Она была горда своею любовью и вызывающею непреклонностью, – пришла жизнь, подстерегла и сломила непреклонность, гнусно загадила любовь, загадила и измяла все. И так со всеми ими – с девушками, с женщинами: за то, чтоб жить, мало отдавать труд и здоровье, – у них есть еще то, до чего жизнь жестоко жадна, и она не отступит, пока не возьмет и этого, пока в ее пахнущую кровью мясную лавочку смирившаяся женщина не принесет и своего мяса. А не смирится, будет стараться оставить своей душе ее дорогое и свое, – то не будет ей пощады, и кругом станет пустыня, где медленно умирают с голоду и крик отчаяния замирает без ответа.
Александра Михайловна вдруг почувствовала, что ведь и сама она давно уже находится в такой пустыне, что она беспомощно бродит по ней, а жизнь немигающим, злым, как у индюшки, глазом следит за нею и ждет. Встал перед нею Ляхов с тупо-беспощадным, жадным до нее лицом, встал Лестман с проползающим в белесых глазах осторожным ожиданием, Василий Матвеев с косящими глазами, у которых нельзя поймать взгляда… Все это сливалось в один беспощадно-похотливый глаз, и мимо проносились девушки-работницы в отрепанных юбках, выплывавшие из мглы проспекта женщины с накрашенными лицами, плачущая над песней о гнедых Прасковья Федоровна и Таня с синеватым лицом, с ногами, плотно охваченными мокрою юбкою… И казалось Александре Михайловне: вот-вот подхватит ее, и унесет, и замешает в этот поток опозоренных, продавшихся за право жизни женских тел.
Она вышла к набережной. Широкая синяя река лениво и равнодушно плескалась под солнцем, забыв, что сделала сегодня ночью. И так же равнодушно смотрели ряды каменных громад, сверкавшие за рекою в голубом тумане. Александра Михайловна села на скамейку. Ею овладела смертельная усталость. Сгорбившись, с опустившимися плечами, она тупо смотрела вдаль. На что ей надеяться? Мрачно и пусто было впереди, и безысходный ужас был в этой пустоте.
«А зачем было так плохо поминать и Лестмана?» – вдруг мелькнуло у ней в голове. И осторожно, стараясь не натолкнуться в мыслях на возражения, Александра Михайловна продолжала думать: «Он не то, что другие; за нехорошим он не гонится, все хочет сделать по-честному».
XII
В десятых числах ноября на Васильевском острове, в одной из квартирок огромного грязного дома за Малым проспектом, шел свадебный пир. Гармоника играла кадриль, стол был заставлен пивными бутылками и бутербродами, в воздухе стоял русский, немецкий и эстонский говор. Александра Михайловна, с завитою гривкою на лбу и в корсете, танцевала со своим шафером, переплетным подмастерьем Генрихсеном. За два месяца, как она не работала в мастерской, она сильно располнела, особенно в нижней части лица, синие глаза смотрели спокойно и довольно.
Александра Михайловна говорила Генрихсену:
– Он смирный, трезвый. О девочке моей обещает заботиться. А в мастерской оставаться было невозможно: мастер притесняет, девушки, сами знаете, какие. Житья нет женщине, которая честная. Мне еще покойник Андрей Иванович говорил, предупреждал, чтоб не идти туда. И, правда, сама увидела я: там работать – значит потерять себя.
– Ну да, ка-анешна! Ну да! – соглашался толстяк Генрихсен и, ухватив Александру Михайловну за талию, устремлялся навстречу визави.
В голове у Александры Михайловны кружилось от выпитого пива. Она смотрела, как толстый Генрихсен, отдуваясь, вытанцовывал соло, и вспомнила, как он, так же отдуваясь, танцевал на празднике иконы русскую. Вспоминались ей грязь и позор мастерской, вспоминались бурливо, как в самоваре, кипевшие в мозгу думы о жизни и порывы к борьбе с нею. Тихое спокойствие охватывало душу – и радость, что не нужно больше дум и борьбы. Вставали лица девушек-подруг, на сердце шевелилось брезгливое презрение к ним, и Александра Михайловна с гордостью думала: «Кто захочет, у кого есть в душе совесть, та всегда останется честною».
Кадриль кончилась. К Александре Михайловне подсел Лестман, в белом галстуке и шершавом черном сюртуке. Громадные руки торчали из коротких рукавов. Он обнимал Александру Михайловну за плечи, заглядывая в лицо.
– Сурочка, как я тебя люблю! – в пьяном восторге твердил он, и жмурился, и в сотый раз лез целоваться.
1898–1903