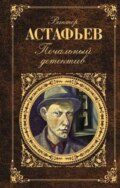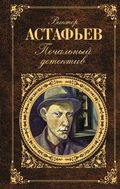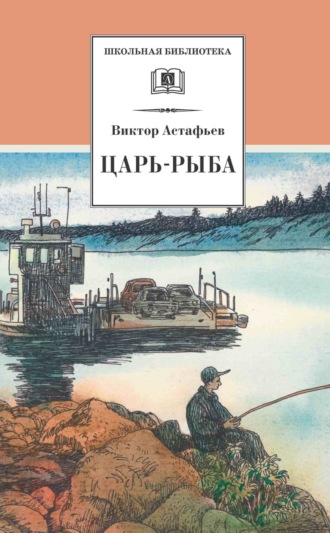
Виктор Астафьев
Царь-рыба
– Да ладно, – остановили они старшого, – хватит права-то качать!
И потекли часы, складывающиеся в длинные сутки, сутки в еще более долгие недели. Песец не шел. Попалось в пасти две лисы, пустобрюхих, костлявых, в худошерстной шкуре; призаблудился как-то горностай – занесло его в лесок, заваленный снегом до колючих вершин. По берегам Дудыпты и возле озера хорошо ловилась куропатка в силки, пока не задавило сугробами стланики. Но начались метели, и кончилась всякая работа. Забавлялись полярными совами. Воткнут в тундре шест или палку, на верхушку капкан приладят – сова видит в ночи и в пургу, не облетит никакую мету – ей тоже хочется на чем-нибудь твердом посидеть, покрасоваться. Ели сов. Не куропатка, конечно, мясо горчит, горелой овчиной или мышами пахнет, зато пуху, пуху от совы, пенистого, легкого – вороха! Вот бы радости бабам, да где они, бабы-то?
Залегла зима по Пясине, по Дудыпте, по всему Таймыру, сровняла снегом впадины речек с берегами, ухни – напурхаешься, пока вылезешь. Снег еще не перемерз, рыхлый, еще лицо до крови не сечет, слава Богу. Маячившие у приморья скалы растворила, вобрала в себя все та же безгласная ночь. Лесок, островком ершившийся средь тундры, захоронило снегом. Переливались, искрили до рези в глазах снега, да небо чем дальше в зиму, тем живее светилось и двигалось. Но уже не пугало и не завораживало северное сияние охотников, да и достигало оно земли все реже и слабей – подступала пора диких, вольных ветров и обвальных метелей. В распогодье охотники спешили при свете позарей пробежаться по ловушкам, со слабо теплящейся надеждой на удачу. Вот и ухнула полярная метель, загнала промысловиков в зимовье, запечатала их в избушке, залепила окно, закупорила дверь, загнала в снежный забой. Лишь труба стойко торчала из снега, соря по ветру искрами, клубя низкий живой дымок.
Время двигалось еле-еле, разговаривать охотникам не о чем – все переговорили; делать по дому нечего – все переделали, а ветер все дичей, яростней. Подняло снег над тундрой, воедино слились земля и небо, вместе кружась, летели они в какие-то пространствия, где никакой тверди нет, и охотничья избушка, стиснутая снегами, выплевывая трубою дым, тоже летела, вертелась средь воя, свиста и лешачьего хохота. В замороженном окне едва приметным бликом шевелился отсвет печного огня, тыкался жучком туда-сюда, отыскивая щелку в толстых натеках льда, и эта капелька света, эта звездочка, проткнувшаяся в кромешную тьму, и напоминала о стойком существовании мироздания.
Время суток – день, ночь определялись по часам да еще по Шабурке. Заспавшийся в избушке кобелишка раз в сутки просился на волю и к такой же норме приучал своих хозяев, которые безвольно погружались в молчаливость, расслаблялись от безделья, ленились отгребать снег от избушки, подметать пол и даже варить еду. Старшой за шкирку стаскивал покрученников с нар, заставлял заниматься физзарядкой, придумывал заделье или повествовал о своей жизни, и такая она у него оказалась содержательная, столькими приключениями наполненная, что хватило рассказов надолго. Парни слушали и дивились: сколь может повидать, пережить, изведать один человек, и советовали старшому, пока делать нечего, «составить роман» на бумаге. Старшой соглашался, да бумаги-то в избушке мало, всего несколько тетрадок, потом уж, на старости лет, как-нибудь засядет составлять роман, а пока слушай, парни, дальше.
Лютая зима, ветер, пронзающий не только тело, но и душу, приучают всякие необходимые отправления делать по-птичьи, почти на лету. Архип не мог приноровиться к такому вихревому режиму, трудно все в него входило, еще трудней выходило. Он до того застывал на ветру, что заскакивал в зимовье со штанами в беремя, не в силах уже застегнуть их. Однажды и вовсе подзадержался Архип на воле. Старшой выслал Колю за напарником. Набрасывая на плечи телогрейку, Коля стал полниться нежданным гневом: «Разорвало б обжору! Нашел время рассиживаться! Садану дрыном по хребту – будет знать!»
В промысловую бригаду затащил Архипа Коля. Работали они вместе в таксопарке: один шофером, другой слесарем, Архип – выходец из старообрядцев, хотя медлителен умом и на руку не спор, но работящ, бережлив, по возможности на свое не выпьет. Надежным, крепким, главное, послушным артельщиком казался Архип и неожиданно первым помутнел, чаще и чаще огрызается, поссориться норовит. Поначалу справлялись с собой Коля и бугор, старались не обращать внимания на брюзгу с таким редким, древним именем. Но вот стало чем-то их задевать все в Архипе, даже имя его, которым прежде потешались, сделалось им неприятно.
Архипа возле зимовья не оказалось. Коля взухал раз, другой. Голос его словно бы отламывало ото рта и тут же закручивало ветром, глушило снегом. Старшой, услышав крик, зарычал, подпрыгнул, шапку надернул, Шабурку выбросил из-под нар в снеговую круговерть, сам метнулся следом, зверски матерясь.
Шабурка мигом отыскал Архипа. Стоит охотничек за избушкой, придерживает штаны, набитые снегом, пробует орать, но хайло снегом запечатывает. Закружился в пурге младой охотник, добро, что не метался, не бегал, потеряв избушку, иначе пропал бы.
Велико ли время прошло, да успел ознобить кое-что Архип, рот его скипелся, даже зубы не стучали, только мычанье слышалось и слезы текли из глаз.
Загнанно, панически дыша, заволокли напарники Архипа в зимовье, свалили на нары, принялись оттирать. Отогрелся, отошел Архип. Старшой ему «Отче наш» в назидание и приказ всей артели: пока ветродурь не кончится, ходить в лохань. Простая такая операция получалась лишь у старшого. Парни мучились, стыдясь друг дружки. Тот, кто бывал в больницах и госпиталях «лежачим», ведает, что насильственная эта штука хуже всякой кары.
Первым снова не выдержал и осердился Архип.
– Привык к параше! И сиди на ней! – заорал он и засобирался на улицу, забыв, как замерзал совсем недавно, волком выл, когда его оттирали. Коля солидарно с Архипом тоже шапчонку на голову, тоже на волю. Старшой прыгнул к двери, закрутил в кулаки телогрейки на парнях.
– Обсоски! – рычал он, вызверившись. – Из снега выкапывать вас, красивеньких, беленьких?! – И, отшвырнув обоих к нарам, пнул еще, не больно пнул, но остервенело, да и бранил их много, совсем как-то обидно, ровно мальчишек, и до того увлекся этим развлечением, что вывел из себя Архипа. Набычился, всхрапнул старовер и молча пошел на старшого.
Будто смертельные враги, сошлись артельщики средь избушки, схватились, испластали вмиг друг на дружке рубахи, рычали по-собачьи, хватались за горло, царапались, хрястали кулаками во что попало. Брызнула, закипела на печке кровь, запахло горелым мясом.
– Мужики-и-и! – закричал Коля, втискиваясь меж связчиками. Но где ему, заморышу, совладать с двумя здоровенными лбами, которые так ломали друг дружку, что трещали кости. До пояса голые, в кровящих царапинах, молча тилищутся – ни матюка привычного, ни ора, лишь храп, рычанье – звери и звери.
Плошка упала, погасла. Темнынь в избушке, ветер лютует за дверью, и лютуют во тьме два артельщика.
– Мужики-и-и-и! – закричал громче прежнего и заплакал Коля. – Мужики! Опомнитесь! Мужики-и-и!.. Лю-уди! Карау-ул!..
Сверкнул и вывалился из печки огонь. Избушка наполнилась дымом – своротили печку обормоты и враз отпрянули от огня, трезвея. Коля заливал головешки из чайника натаянным снегом.
– Балды! Суки! Заразы! – все кричал он и плакал. – Сгорим в тундре, что тогда?!
Старшой забрался на нары, забился в угол, натянул на себя одеяло. Архип кашлял от дыма до сблева, сипел, тужась что-то сказать, непримиримо тыкая пальцем туда, где таился старшой. Коля водружал железную печку на место, в ящик с землею.
– Всер-р-равно, всер-р-равно… Он меня… Я его… – разобрал он.
– Че буровишь-то? Совсем уже того?! – потыкал Коля себя пальцем в висок и неожиданно хватанул Архипа так, что тот оказался за мерзло крякнувшей дверью. – Остынь, недоумок! – Собрав в печку чадящие головешки, выпустив пар и дым из зимовья, Коля откашлялся, высморкался и, утирая подолом рубахи грязное от сажи и слез лицо, с горестным ожесточением обратился к старшому: – А ты-то, ты-то! Сурьезный человек! За коллектив, пусть и махонький, ответственный…
Старшой шевельнулся на нарах, прошуршал пересохшей осокой, отыскивая одежонку, спустился на пол, знаком показал на чайник – полить. Умыв разбитое лицо, начал утираться тряпицей.
– Не окажись воды, – шевельнул Коля чайником, – погорели б и, как псы, подохли средь тундры.
– Худо, Колька, худо… Н-на, худо, Колька, худо. Началось! Позови-ка эту жертву неудачного аборта, простудится, остолоп!..
Сошлись в одной избушке артельщики, деваться некуда. Не разговаривают, от папироски друг у дружки не прикуривают, принципиальные. Рожи у обоих запухли, темными синяками наливаются, экая красотища! Натешились, измордовали друг дружку, разрядили злобу. Что-то дальше будет?…
Сварив еду, Коля достал с чердака избушки из неприкосновенного запаса бутылку спирта, развел, в кружки налил и, как сердитая, но все понимающая, добросердечная хозяйка, велел чокнуться и выпить мировую.
Чокнулись, выпили. Коля хоть и натянуто, но уже с некоторыми облегчением и искательностью рассмеялся:
– Э-эх вы-ы!
Старшой стиснул рукой лицо, будто стирая с него что-то, провел сверху вниз.
– Бывает! – сказал покаянно. – Да больше не надо.
Архип тоже что-то буркнул и отвернулся. Выпили еще по малой, пытались заговорить. Однако разговор увязал, рвался. Нарушилась душевная связь людей, их не объединяло главное в жизни – работа. Они надоели, обрыдли друг другу, и недовольство, злость копились помимо их воли.
Но бывает конец пурге и в тундре. Проснулись утром – тишина, да такая оглушающая после, казалось, уж вечного воя ветра, бряканья трубы, гула снежных туч, что и тревожно от нее. Старшой вышел на волю, заорал, шапку подбросил, пнул ее, поймал Шабурку, катнулся в обнимку с ним по снегу.
Охотники разбрелись в разные стороны откапывать ловушки. Снега сделались глубоки, пурга была долгая. Песцы в поисках корма начнут теперь делать кругаля по всей тундре, глядишь, и этих мест не минуют. Врали, обманывали сами себя покрученники – надо было верить во что-то, и они убеждали себя: будет, будет удача, пусть и запоздалая.
Задыхаясь жидким воздухом – выдуло из него ветром кислород, стужей выбило сырость из снега, в коловерти пурги выварило из него клейковину, охотники бродили по тундре, отыскивали захороненные в забоях ловушки и, к удивлению своему, немало их откопали. Совы, чуя корм под снегом, разрывали наметы, наводили на места. Мало только осталось возле Дудыпты сов, переловили их охотники капканами, свели беззаботно, теперь хватились, да уж делу не помочь.
Коля придумал себе занятие: волочь на истоплю жаркий витой кряжик. Лесок был по маковку завален снегом, приходилось много трудиться, прежде чем откопаешь лыжиной суховерхое деревце со стеклянно— хрупкими от мороза сучками, с прикипелой к плоти дерева болонью и корой, под которой остановился сок. Коля тюкал топором деревце. К лезвию топора белым жиром липла смола лиственницы, тонкими паутинками пронизывающая годовые, вплотную притиснутые кольца, не давала загаснуть дыханию, с лета поднявшемуся по неглубоким, но жилистым корням. Мал лесок, всего островок крохотный, и веток живых на каждом деревце с пяток, не больше, а раскопаешь снег до земли, хвоя лежит, пусть тоненько, пусть на плесень похоже, а все напоминание о лете, о тайге. Лес жил, боролся за себя, шел вперед на север, к студеному океану. Рубить его вот как жалко. Коля выбирал деревца сломленные, полузасохшие, отбитые от табунка. Свалив лиственку, садился на вздутый комелек, отдыхивался, думая о сложности всякой жизни, о том, какая идет везде тяжкая борьба за существование.
Сделав из толстой веревки петлю, Коля надевал ее через плечо и, ширкая камусными лыжами, пер к избушке сутунок по уже хорошо накатанной лыжне, радуясь тому, что пурги нет и, может, она не скоро будет, что поработал он хорошо, что наколупают они с лиственницы серы, вытопят ее в склянке, жевать станут – все для зубов работа. Пожалуй, следует выдолбить прорубь на Дудыпте, наносить воды, натопить зимовье и побаниться – не хватало завшиветь – последнее это дело.
По полному безмолвию, по усиливающемуся морозу и скрипу снега под лыжами, по ярким, из края в край, сполохам можно было предположить – межпогодье еще продержится и, стало быть, передышка им будет. Ночь морозна, светла до того, что все впереди видно. Да что видеть-то? Снег и снег. Даже вилючую ленту речки Дудыпты и озеро застругало пургою вровень с тундрой, лишь местами, сдавленный, серел снежок с подветренной, полуденной стороны, означая крутой поворот речки или подмытый берег. Вокруг озера, как бы на всплеске, остановились гребни снега – замело кусты стлаников. Оборони Бог задуматься, заскочить лыжами на вороха эти, хуже того, на изгиб речки – обрушишься, и потечет снег, что песок, заживо хоронить станет. Бухайся, раскалывайся тогда, тори траншею, коль силы есть.
В белой тишине тундры, тенистой, зеркально-шевелящейся от сияния, охватывает блажь, являются видения: судно с мачтами и драными парусами, узкомордый белый медведь с безгласно раззявленной пастью, нарта с упряжкой оленей, на нарте знакомый еще по Плахино эвенк Ульчин. Сидит бойе с хореем, куржак обметал его плоскую мордаху, черненькие глазки радушно светятся из белого, однако хореем не шевелит, губами не чмокает, «мод-модо» не кричит, олени не фыркают, не взбивают снег. Плывут олени, да лыбится глазками бойе. «Сгинь, Ульчин, сгинь! – боязливо открещивался Коля. – Ты умер, еще когда мы всей семьей в Плахино зимогорили. Ты с папкой вино жрал. Думаешь, забыл?…»
Однажды увидел Коля собаку – остановилась в отдалении, белая с серым крапом на ногах, ждет, приветно хвостом пошевеливает. Знакомая собака, очень. Дрогнуло сердце: «Боё! Боё! Боё!» Коля сбросил лямку, подхватился, побежал – нет собаки, бугорок вместо собаки. Страсти-то! Коля вытер со лба пот, хотел перекреститься – не знает, с какого места начинать.
Больше всего он опасался повстречать шаманку. Бродит шаманка по тундре давно, в белой парке из выпоротков, в белой заячьей шапочке, в белых мохнатых рукавичках. За нею белый олень с серебряными рогами следует по пятам, головой покачивает, шаркунцами позвякивает. Шаманка жениха ищет, плачет ночами, воет, зовет жениха и никак не дозовется, потому и чарует любого встречного мужика. Чтобы жених не дознался о грехах ее сладострастных, до смерти замучив мужика ласками, шаманка зарывает его в снег. К человеческому жилью шаманка близко не подходит, боится тепла. Сердце ее тундрой, мерзлой землей рождено, оледенелое сердце, может растаять.
Сказочку такую парням поведал старшой, и поступил, как потом оказалось, опрометчиво. Парни скабрезничали, постанывали, валяясь на нарах: «Э-э, сюда бы счас шаманочку-то!..»
– Не блажите-ка, не блажите! – испуганно таращил глаза старшой и наставлял: – Чурайтесь, некрещеные морды! Навязчивы такие штукенции, еще накличете…
Шаманка явилась, когда Коля пер из леска сутунок и видел, как пыльно разбухающим облаком теснит, отжимает с неба мерцающий свет позарей. Впереди нет-нет да и вытеребит белое перышко, полетит оно, кружась и перевертываясь. Следом пушок сорится, мелконький пушок, горстка его, но сердцу тревожно – нарождается пурга. Легкое, пробное пока еще движение началось по тундре, небо пучится, набухает темной силой. Коля налег на лямку, напрягся и, частыми, мелкими глотками схлебывая воздух, проворней заширкал лыжами, низко наклонившись головой, подавшись вперед всем телом – так вроде бы легче и скорее идется. Но вот раз-другой что-то продрожало в глазах, снег начал красно плыть, густо искриться, в ушах пронзительно зазвенело – воздух, разреженный воздух северных широт угнетал организм – нужна передышка. Коля остановился. Раскатившееся бревнышко толкнуло в запятки лыж, снег гас, звон из ушей отваливал, дыхание выравнивалось.
И в это время из переменчивого, нервно дрожащего света, из волн позарей, катающихся по одной уже половине неба, выплыла ОНА и, не касаясь расшитыми бакарями снега, вовсе даже не перебирая ногами, стала приближаться, бессловесная, распрекрасная. Вытянутые раскосые глаза ее светились призывно и печально, лик бледен – дитя белой тундры. Может, болело что внутри, сердце, может, худое, порок, может, в нем какой? Поймав себя на том, что он думает о шаманке как о живом, на самом деле существующем человеке, Коля громко кашлянул, нарочито грязно выругался, сплюнул под ноги пренебрежительно и поспешил к зимовью, которое было уже близко, стараясь не поднимать головы и не оглядываться, хотя и коробило спину, казалось, вот-вот вцепится шаманка пальцами в воротник, что тогда делать? Голова сама собой утягивалась в одежду, ноги дрожали в коленях, рвался дых. Только возле дверей избушки охотник оглянулся и заметил призрачно удаляющуюся шаманку. Поймав его взгляд, она приостановилась и, перед тем как раствориться в снегах, вознестись на волнах позарей ввысь, слабо ему и укоризненно улыбнулась. Голубой свет, пронизывающий сгустившуюся ночь, сочился из ее груди, и видно сделалось ее сердце, похожее на ушастого зайчонка, сжавшегося в комочек, чуть вздрагивающего под набегающими порывами ветра.
Сбросив лыжи и лямку, Коля поскорее заскочил в избушку, вытер лоб, в изнеможении упал на чурбак возле печки.
«Кто за тобой гнался-то?» – взглядом спрашивал старшой, и, чтобы не пускаться в объяснения, Коля поскорее начал переодеваться. Одежда мокра, пар валил из-под рубахи. «Не надо бы так потеть», – вяло подумалось ему.
Коля ничего не сказал связчикам о шаманке, полагая, пока пережидают пургу, отсиживаются в избушке, наваждение уйдет, и даже самому себе боялся признаться в том, что он этого не хотел, ревниво пас в себе видение, спал неспокойно, сделался потаенным и, едва кончилась пурга, засобирался в тундру. И вдруг заметил: его связчик, тихоходный и тугодумный Архип, мечется по избушке, чего-то ищет, куда-то торопится, бросая шалые взгляды в звенышко обметанного морозом оконца. «А что, если ему она тоже явилась?! – ожгла ревнивая подозрительность Колю. – Убью! Застрелю! Не дам!..»
– Вы чего, молодцы? Чего? Вроде как не в себе? – забеспокоился старшой. – Уж не шаманка ли блазнится? Наплел я вам. Вот дурак так дурак! Креститесь, беситесь, орите, из ружья палите, топором рубите, но не поддавайтесь. Болезнь это, ребята, жуткая болезнь…
Обман. Мираж. Болезнь. Ну и пусть! В сравнении с дивным видением, сулящим что-то тайное, небывалое, жизнь, которую они влачили, так опостылела, что не было никакой охоты бороться за нее. Молодцы желали перемен, какого-то действия, яростная плоть при одной только мысли о шаманке возжигалась в парнях, толкала на безрассудство.
И, отчетливо сознавая, что делать этого нельзя, однажды Коля сбросил с себя лямку, вытащил ноги из круглых креплений лыж, почему-то поставил их торчмя и успел еще отметить: лыжи похожи сделались на страшных змей кобр со злобно раздутыми шеями, которых он видел в кино, когда служил в армии, – им почти каждый день показывали кино. Э-эх, армия, друзья, люди, города, дома, огни, машины! Где они? Были ль они?
Опираясь на таяк, он двигался к шаманке, а она пятилась от него, увертывалась. Он ее хватал, горячо нашептывал ей русские и эвенкийские нежные слова. Она понимала их, похихикивала, играла глазками. Совсем он ее заморочил, настиг, схватил за косу, но мягко отделилась коса от головы шаманки, и так с вытянутой, крепко сжатой рукой Коля обвалился под яр Дудыпты и лежал какое-то время ничком в снегу, и плыл куда-то вместе с осыпью, не веря обману. Снег все накатывался, накатывался сверху, перемерзлый, сыпучий. Он заполнял, сравнивал всякий бугорок, всякую выбоину. Забарахтался, забился человек, потерявший желание думать и бороться, когда наконец увидел над собой, на урезе Дудыпты собаку, все ту же, белую, с серым крапом на лапах и голове, родную, верную собаку.
– Боё! Боё! Боё! – Человек скребся, плыл по снегу к собаке. Поскуливая, руля хвостом, собака ползла встречь ему, и вместе с нею полз, двигался снег, из которого выметнулась вдруг и ткнулась острием в лицо лыжина. Человек ее схватил, подсунул под себя и, как в детстве на дощечке, погребся наперекор течению, сквозь этот бесконечно двигающийся снег. – Боё! Боё!.. Боё!.. – Но собаки нигде уже не было, зато вот она, вторая лыжа. Откопав ее, человек прилег, свернулся бочком на двух лыжах, мокрый, насквозь пронизаемый стужей и ветром, он грел дыханием руки. В разрывах ветра ему почудились крики, лай, тупые стуки. «Стреляют! Ружье!» Не в силах снять ружье со спины, он нащупал сзади гладкую ложу, отвел не пальцами, а всей ладонью курок, засунул в скобу ничего уже не чувствующий палец, отодвинул ствол от затылка в сторону и надавил на железо. У левого уха метнулось пламя, ахнул гром, голову откинуло волной выстрела, ухо словно бы забило пыжом, ноги стрелка подогнулись, и он упал поперек лыж…
Болезнь напарника напугала и объединила старшого с Архипом. Последнее время они уже не просто грызлись, а хватались за ружья и топоры. Коля понимал: наступит срок, и ему будет не разнять связчиков, не справиться с двумя осатанелыми мужиками, кто-то кого-то из них порешит или он их из ружья обоих положит – такая думка ему тоже голову посверливала – не уговаривать, не разнимать, не нянькаться с дубарями, а всадить по пуле каждому – и пропадай все, гибель так гибель, суд так суд – не они первые, не они последние на зимовках стреляются…
Лечили Колю артельщики напористо: жарили докрасна печку, обмазывали больного горчицей, вливали ему в жаркий рот спирта, капали в питье растопленной серы, бросали в кружку горячую монету – серебрушку. Коля метался на нарах, кричал: «Ё!.. Ё!.. Ё!..»
– Чего это он?
– Не знаю, – Архип шарил в затылке, припоминая, – собаку, может? Собака у него была, Бойе…
– Собаку? Собаку – хорошо! Собака – друг.
Гнали охотники пот аспирином из больного, компрессами, бутылками с горячей водой и достигли своего – температуру сбили, простуду напрочь выгнали, но при этом надсадили не очень-то крепкое сердце напарника. Старшой знал все: как выгонять простуду, как делать из хлебного мякиша смесь и по самодельным трафаретам изготавливать карты, из обломка железа ножик, из куска жести котелок, из кости зажигалку. Он мог сварить суп из топора, сготовить гуляш из подметок, шить без ниток, стирать без мыла, коптить рыбу, чтоб дым не видно, сушить мясо, чтоб запаху не слышно, спасаться от цинги хвоей, строить землянку без топора и выделать для нее олений пузырь руками, мертвую собаку превратить в живое чучело. Не знал и не ведал старшой, как и чем лечить сердце – в его жизни сердцем заниматься было недосуг, хоть бы грешное тело сохранить. Где-то слышал или умом своим гибким и проницательным старшой допер: при больном сердце надо меньше шевелиться, не бултыхать нутром, и, глядишь, оно, ретивое, успокоится, наберет силу, выровняет ход. Архипу, испуганному и послушному, старшой приказал носить дрова с накрошных ям, складывать их кострами неподалеку от зимовья, не палить в лампе керосин, обходиться лучиной, рыбьим жиром и только в крайнем случае жечь свечи.
Артельщики ждали самолет. Фартовой охоты больше никто не ждал. Как-то принес Архип песца, тощего, маленького, с сырой, ровно бы присоленной, шкуркой. Кости в шкурке словно истолчены. Голова зверька расклевана совами, пусто темнели глазницы, в щелях голенького черепа бурела сохлая кровь – в тундре свирепствовал голод, начался падеж.
«Смерть! Вот она какая!» Горло больного задергалось, напряглись жилы на шее, распахнулся сморщенный рот, оголив сочащиеся красным, цинготные десны.
– Боюся-а-а!..
Издали донеслось:
– Ничего, Миколаха, ничего… Держись! Мы с тобою! Мы не оставим…
В декабре, как было оговорено, самолет не пришел. Надеялись, верили – к Новому-то году обязательно будет самолет. Маковку зимы посыпало дурным снегом, справила новогодье свирепая пурга, пошатала избушку, побрякала трубой, помучила людей и природу всласть, но как только унялась пурга, зачуфыркал в небе самолетик. Сперва он «промазал» избушку, устремился резво к морю, состывшемуся с берегом и тундрой, где и разбиться мог о скалы, заметенные снегом, но Архип такие костры запалил, наплескав керосину на дрова, а старшой так бабахал из ружей, что самолет дрогнул и завернул на второй круг. Увидев сигнал, снизился, покачал крылами и, чтобы не ковырнуться кверху брюхом, опробовал лыжами снег, скользнув над самой землею. Архип попеременке со старшим все время утрамбовывали и прикатывали снег самодельными катками, изготовленными из сутунков, натасканных Колей, как будто ведал малый, что они сгодятся.
Благополучно приземлившись, самолетик покрутил пропеллером, уркнул, чихнул и замер. Зная, как их везде ждут, пилоты, улыбаясь, вышли наружу и узрели картину: на снегу сидят два здоровенных ознобленных мужика и плачут. Через порог зимовья перевалился изможденный парнишка в нижней, просторной для него рубахе и ровно в тайге кого-то кличет:
– Ё! Ё! Ё!..
Остаток зимы Коля пролежал в краевой больнице, получил группу инвалидности, какую дают лишь кандидатам в покойники – первую, но не сдался смерти, вылечился тайгой, рекой, свежей рыбой, дичиной, и скоро перевели его на третью группу. Окрепнув здоровьем, он выехал из Игарки к родичам жены, в старинный приенисейский поселок Чуш, поступил работать в рыбкооп шофером.
Однажды мы всей семьей собрались и поехали в гости к братану. Как и в прежние годы, был он бегуч, суетлив, разговорчив, на здоровье не жаловался, всем норовил угодить, обрадовать радушием. Зная, какой я заядлый рыбак, посулился свезти нас с сыном на речку Опариху, чтоб отвели мы душу на хариусах.