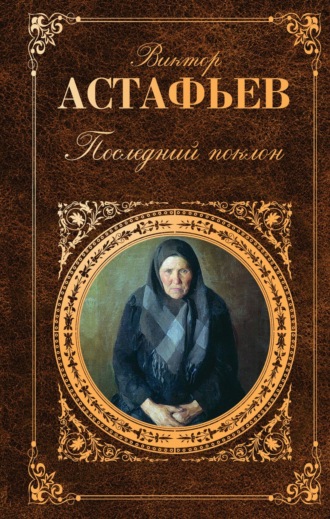
Виктор Астафьев
Последний поклон
Вот к тетке-то Авдотье и подалась бабушка с намерением перебить у нее все окна, битые не раз уже и не два разными другими людьми. А пока она бегала, выясняла обстановку, дед вернулся с реки, забрался на свой курятник и спокойно уснул.
Неизрасходованный заряд сжигал бабушку, и утром она выпалила его в деда. Тот выслушал бабушку сдержанно, лишь поскорбел лицом, и борода его, под Пугачева стриженная, раза два прошла вверх-вниз, чего бабушка, к несчастью, не заметила и вовремя не застопорила. Не дослушав до конца бабушку – завелась она надолго, – дед пошел во двор, вывел коня Ястреба, вынул заворину из ворот, забросил ее в гущу крапивы, и, смекнувши, к чему клонится дело, я ринулся в избу:
– Баб, а баб! Дедушка уезжает!..
– И понеси лешак! – с прежним накалом в голосе крикнула бабушка.
Бунт деда дошел до такого накала, что он и не запер ворота, оставил их распахнутыми и, более того, не поднял доску в подворотне, разнес ее телегою в щепье.
– И не запирай! И не запирай! – кричала бабушка с крыльца. – И я не запру! И я не запру! Стыдобушки-то! Сраму-то! Глядите, люди добрые, как у нас ворота расхабарены! Дивуйтесь! Поло! Кругом поло! У тебя поло-то! У тебя!..
Так кричала бабушка, а сама поднималась на цыпочки, вытягивала шею, надеясь, что дедушка погром учинил сгоряча и одумается еще, воротится. Но за кладбищем телега загромыхала по камешнику Фокинской речки, с бряком, звяком пронеслась в гору и исчезла в сосняке. Ястреб, перепуганный тем, что смиренный и молчаливый хозяин, стоя во весь рост в телеге, рычал, хлестал его вожжами, мчался в гору прытче племенного жеребца, по направлению к заимке, где оставалась еще наша избушка, не занятая сплавщиками, потому как стояла далеко от запани.
Кольча-младший заменил на сенокосе дедушку, чтобы высвободить его в помощь бабушке. А помощник-то, вон он, был и нету!
– Ха-рашшо-о-о! Харр-ра-шо-о-о! Очень даже славно! – подбоченилась бабушка, когда звук телеги умолк в лесу. – Съедутся детки родимые, где тятя – спросят. Внуки, деточки малые – где наш дедушка родимый? А я скажу имя: милые мои деточки, ударила ему моча в голову, и умчался ваш Илья-пророк ко всем лешакам, токо телега загремела! И поймите вы, мои родимые, скажу я имя, какая моя жизнь была с таким человеком! Ведь он на лес глянет – и лес повянет! Сколько же мук приняла я, горемышна-а-а…
Попусту причитать и высказываться бабушке недосуг, она говорила, бранилась и напевала, управляясь по хозяйству, но ворота не закрывала и мне закрывать не велела. С уязвленностью и тайной болью она все повторяла: пусть люди посмотрят, пусть полюбуются и рассудят, какова ее жизнь и какие она страдания перенесла на своем веку.
До самой ночи порота были полыми, но когда стемнело, пришлось нам их все же закрывать. Надежд на возвращение дедушки больше не оставалось. Пока нашли мы в жалице заворину, пообстрекались оба с бабушкой. Она примачивала мои волдырями взявшиеся руки и уже вяло, на последнем накале грозилась:
– Посидишь вот голодом-то, посидишь!.. Ишь, сбрындил! Че и сказала-то! Ну, не выпивал, дак не выпивал. Я тоже нервенная, тоже могу лишнее брякнуть… Конишку-то, конишку забьет! В ем, в крехтуне, зла этого… Ой, забьет…
Почти весь следующий день бабушка крепилась, сохраняя твердость, все разговаривала так, будто дед – вот он, рядом, но потом сдалась, наладила заплечный мешок с харчами, снарядила меня на заимку.
– Кольчу мне жалко, Кольчу, – толковала мне бабушка. – Сам-от хоть седни, хоть завтре с голоду окочурься – не охну. И не единой слезы не уроню. Ни единой!.. – Бабушка притопнула и кулаком в сторону заимки погрозила. Но за воротами начала переминаться, поправлять на мне мешок и конфузливо просить: – Созови дедушку-то, созови. Бычка колоть надо. Делов полон двор… Созови. Он ндравный, но тебя послушат… Созови, батюшко…
Легко сказать – созови, а как созову? Затруднительно! Малейшая оплошность могла обернуться еще большим отчуждением дедушки от дома.
Дед встретил меня на заимке хмуро, и перво-наперво надо было ликвидировать его мрачное настроение. Как ни в чем не бывало включился я в дела, схватил ведро, зазвенел им и побежал к ключу. Затем развел огонь, намыл картошек, заорал:
Распроклятая картошка,
Что ж ты долго не кипишь?
Гости все поцеловались,
Ты холодная стоишь!..
Эть, клюнуло! Дедушка потянул воздух широкой ноздрей и ухмыльнулся в бороду.
– Где соль, деда?
Он воззрился на меня с досадою: даже тут, вдалеке от постылого дома, ему покоя нет, даже тут, в тайге дремучей, не дают ему побыть в гордой уединенности, что ж ему – в землю закапываться?
– Где же ей быть? В избе…
Еще клюнуло! Выдавил из деда слово – это не так уж мало! Еще Кольча-младший скорее бы с покоса вернулся, тогда мы совсем быстро деда одолеем. Кольче-младшему не с руки поститься вместе с дедом, в деревню ему охота, по вечеркам шляться.
Соль соленая-ядреная,
Тра-та-та-та… —
орал я громче прежнего и бухнул в картошку одну горсть соли, прицелился другую бухнуть, но тут:
– Соль-то покупная…
Ага-а-а, дедушка-соседушка, все же о добре-то печешься! Не наплевать, значит, тебе на хозяйство. Думаешь, стало быть, заботишься. Пока еще меня ни о чем не спрашиваешь, пока еще делаешь вид: мол, пусгь все горит-полыхает – и не охну, и не загорюю, освободился от оков…
Картошки сварились. Я отлил воду, поставил чугунок на стол. Хлеб нарезал, шаньги картофельные из мешка вынул, простокваши две кринки выставил. Дед ни малейшего внимания, курит табак, ничего больше не делает. Сидит па чурбаке, смотрит вдаль, за Ману, полный презрения к хозяйству и труду, и от него дым, как от парохода.
– Позвать Кольчу-то?
– Зови. Мне што?
Я мчался в поле, издали махал рукой, кричал:
– Дя-а-а-а Коля-а-а! Дя-а-а-а Ко-о-оля-а-а-а!
Кольча-младший огораживал стог сена, вязал прутьями колья, зарубал жерди. Рубаха у него навыпуск, в волнистом чубе запутались сухие травинки и щепочки. Я упал в тенистое укрытие стога. Кольча-младший быстрее доделывал огорожу, расспрашивал про бабушку, про дом и как у нас дела идут. В пути от зарода до заимки мы договорились с ним о дальнейших действиях. Под видом неотложных дел он уберется после обеда с заимки. Дед, надо полагать, долго не выдержит одиночества и тоже, глядишь, соберется домой, в село.
– Только ничем ему тут не досаждай и не серди, – наказывал дядя. – Смотри, не сделай промашку!
Сполоснувшись в реке, Кольча-младший сел за стол и крикнул в открытую дверь:
– Тятя, ты чего ись-то не идешь! Ждем ведь!
– Бу-бу-бу.
Дед бубнит в бороду, чего бубнит – разбери попробуй! Наконец появился, строго и печально перекрестился на деревянную икону. Мы с Кольчей-младшим чистили картошки, стараясь не глядеть на него. Сначала нехотя, замедленно ел дед, выбирая из чугуна кособокие, маленькие, поврежденные картохи, долго, с кряхтеньем чистил, круто их солил. Сплошная скорбь наш дедушка. Кольча-младший отворачивался к окну, будто на коней смотрел, я держался из последних сил, чтобы не прыснуть. Все тогда пропало.
Постепенно дед разошелся в еде, и мы прикончили весь харч, привезенный из дому, – бабушка послала еды в обрез, чтобы раздразнить мужиков домашней снедью и выманить их с заимки. Кругом тонкая политика.
После обеда я забрался на полати, Кольча-младший, как и договорено было, смотался с заимки в село. Дед ходил по двору, бубнил, постукивал топором.
Переломный сейчас момент. Дед может одолеть обиду, а может и окончательно раздумать возвращаться в село. Очень он характерный у нас. Но вот звякнули удила оброти, дед перестал колесить по двору. Ушел за конем.
Сломался дед!
Вскоре по деревянному настилу застучали копыта. Слышно было, как дед заводил в оглобли и пятил к телеге неповоротливого Ястреба, затем собирал шмотки, шарился в сенках, отыскивал замок и ключ.
– Спать, што ли, сюда явился? – недовольно, в пространство обронил он.
Я нехотя спустился с полатей, потянулся, зевнул, будто разоспался.
В телеге свежее сено. Я плюхнулся на него брюхом и тронул со двора заимки. Дед закрывал ворота, я ждал. Долго закрывал ворота дед. Не раздумал бы. Нет. Сморкается, закуривает основательно – на дорогу.
Всю дорогу я видел непоколебимую дедушкину спину. Он не разговаривал со мной и не понукал Ястреба, ехал домой словно бы по повинности. На полпути, не оборачиваясь, мрачно полюбопытствовал:
– Сама послала?
Я прикинул – Королев лог проехали, скоро спуск к селу начнется и возвращаться на заимку никакого резона нет.
– Сама.
– А-а-а!.. То-то!
Из этих звуков, выдавленных дедом в бороду, я сделал заключение: дед насладился местью и торжествует. «А-а-а» – значит, достукалися, довели человека до крайности – и что получилось? «То-то!» – значит, какой бы я ни был «толстодум» и «крехтун», но без меня не обойтись, потому как хозяином я в дому был и хозяином останусь. Сколько бы вы там ни фордыбачили. И праздник без меня не праздник, да и в будни я еще пригожуся…
– Н-но, Ястреб! Н-но, Ястребушко! – шевелил вожжами дед и к дому подкатил на рысях.
Бабушка ворота открывала. Ястреба под узду брала, по двору не ходила она, а прямо летала, на меня смотрела благодарно, на деда – заискивающе, и все разговаривала, разговаривала. Дед никакого пока ей ответа не давал.
– Может, с устатку выпьешь? – за ужином предложила бабушка и примчала из горницы шкалик водки.
Дед вылил водку в фарфоровый бокал, опрокинул ее, крякнул одобрительно и принялся за щи.
В доме нашем наступил мир.
Гости съезжались по-разному. Кольча-старший приехал из города с женой своей Натальей на сплавщицкой моторке. В город они смотались во время коллективизации и жили там крестьянским хозяйством. Жили по-чудному: работали день и ночь, торговали на базаре, рядились за каждую копейку, потом все накопленные деньги бесшабашно, весело прогуливали и начинали снова копить.
Дядя Вася с тетей Любой пришли из Базаихи пешком, через горы. Люди они очень похожие друг на друга – аккуратные, добрые, – бабушка души в них не чаяла. Оба работали в Лалетинском опытном саду, тетя Люба – садовницей, дядя Вася – рабочим. Они принесли с собой красных яблочек, еще терпких и горьковатых. Поскольку большинство ребят, в том числе и я, никогда не видели яблок, то страшно обрадовались такому гостинцу и горькие, вяжущие эти яблоки съели за милую душу.
Маня – тетка – белая лебедка, как ее дразнили в семье, с мужем Зыряновым приплыли на лодке от Манского шивера, приплавили стерлядей и таймененка и, вручая бабушке, говорили, мол, красна изба углами, а сибирский праздник – рыбными пирогами. Зырянов работал бакенщиком, и у него была грыжа, которую он подвязывал красным ремнем. Детей у тети Мани и Зырянова не было, поэтому жили они прижимисто, богатенько. Бабушка недолюбливала Зырянова, звала его только по фамилии, тетку Марию жалела, но в жизнь их не вмешивалась. «Муж да жена – одна сатана» – скромно повторяла она, но касались эти слова лишь тети Мани и Зырянова, остальных детей бабушка и в супружестве тревожила своими решительными действиями.
Объявились, как всегда, новые родственники, и, как всегда, прибыл гость в пеленках – сын которой-то бабушкиной племянницы. Бабушка немедленно распеленала его, как бы между прочим осмотрела: пеленки чисты ли и не в рубцах ли. Провела рукой по грудке и по пузцу кривоногого мужика. В ответ на это действие младой сибиряк блаженно потянулся, зажмурился, выдал крепкий звук, отчего все захохотали.
– Вот еще новожитель! – ворковала бабушка. – Нашего полку прибыло! Пупок узелком, ноги кругляшком, дух хлебнай – па-а-ахарь будет, па-а-ахарь! – И человечишко заулыбался вдруг, молодая мама, наслышанная о том, что за характер у бабушки Катерины и каково ей потрафить, стоявшая до этого ни жива ни мертва, заткнула рот и нос платком. Бабушка, и сквозь землю зрящая, прикрикнула:
– Расклеви парня-то!
Во дворе кружатся мужики, вспоминают, что и как тут было прежде, радуются тому, что мало чего изменилось и, перешибая один другого, вспоминают: то как он, Вася, свалился с крыши в загон и сел верхом на корову, отчего бабушка, доившая корову, едва умом не тронулась; то как они с Иваном лазили за огурцами к Тимше Верехтину и как он палил по ним из восьмикалиберного дробовика, заряженного дресвой; то как укусил Васю уросливый Карька, Вася обозлился и сам Карьку укусил, так после этого Карька лишь Васю к себе и подпускал, больше никого за людей не считал; то как купались в Енисее с утра до ночи, иной раз в заберегах еще начинали; то как зорили птичьи гнезда (дураки же были, ей-Богу!); то как на заимке работали и мать прибежит, бывало, на пашню, распушит и девок и парней за нерадивость, возьмется показывать трудовой пример – свяжет снопик-другой натуго и тут же мчится в село либо на соседнюю пашню, где тоже надо командовать, давать указания, но некому этим ответственным делом заниматься.
– А помнишь?
– А помнишь? – слышалось со всех сторон.
И седые мои дядья, тетки смеялись и молодели лицом. Были они почти все рыжеваты, конопаты и скуласты. Самые рыжие – Кольча-старший и дядя Ваня, дальше, как утверждали дядья и тетки, краски на всех не хватило и пошел цвет пожиже. Кольча-младший вовсе рус, и конопатин на его долю досталось всего ничего – щепотка.
Ворота почти не затворяются, щеколда бренчит праздничным набатом – родня прибывает и прибывает. То и дело слышится присказка: «Скок на крылечко, бряк во колечко – дома ли хозяева?» Соседи, друзья дядей и теток, давно не видевшиеся, заходят поздороваться, перемолвиться словом. Их не очень настойчиво приглашают завтра быть гостями. Праздник семейный, и всяк в селе знает, что в таком празднике чужим быть незачем.
Жители нашего села состояли в основном из четырех колен родственников, и четыре фамилии главенствовали в нем. Самая распространенная фамилия – Фокины, затем – Шахматовы, затем наша – Потылицыны, а затем уже негустая, но отчаянная фамилия – Верехтины. Когда гуляла какая-нибудь из этих фамилий, ее никто не тревожил, хотя заведено у нас было гулять, перебираясь из дома в дом. Бывало, если человек слабоват, пока из одного конца села до другого доберется, то уж у него отпуск просрочен и ему зеленые чертики являются. Тогда тащили его в баню, отмывали, отпаривали, брызгали с помела водою – чтобы чертей отогнать, – и таким образом возвращали семье и труду.
Драк в общих гулянках случалось шибко много, так много, что огороды, выходившие на улицу, за зиму бывали разгорожены до основания, жерди и колья потрачены в битвах, как первейшее сподручное орудие.
Но в семейных праздниках гуляли основательно, спокойно и редко кто срывался, если и срывался тот или иной родственник, вспоминавший какую-либо давнюю обиду, его или уговаривали, или дружно связывали, не давали войти в распал.
Пожалуй, только Верехтины отличались неуемным буйством. Они почти все жили в одном переулке, гуляли обычно в Троицу, и можно было слышать из верехтинского переулка хруст ломаемого дерева, крики: «Караул!», «Мама!», «Пусти меня!» Затем грохал восьмикалиберный дробовик, следом за ним слышался голос кривоногого Тимши Верехтина, самого старшего в родове:
– Пер-ры-стреляю-у-у! Всех уложу-у-у-у!..
Никто в верехтинский переулок в эту пору не совался, хотя узнать хотелось, что и как там? И когда являлся из переулка немой Кирила, родственник Верехтиных, его облепляли женщины и тормозили расспросами. Кирила плакал, и по его носатому, большому лицу на вышитую плисовую рубаху катились слезы. Очень жалели все люди трудягу мужика, угодившего в такую неподходящую для него родню.
– Па-па – пу-у-ух! – изображал Кирила, как из дробовика палил Тимша. – Мама – ой-ой-ой!.. Я – у-у-у!
И он показывал, как растаскивал братьев, но они порывали на себе рубахи, побили в избе посуду и на нем хотели порвать рубаху, да он ушел, устал потому что, и глаза его не глядели бы на такую жизнь. Пожалуй, пойдет он сейчас и утопится. Кирила отправлялся дальше, неся утробный, протяжный звук, бабенки, что побойчее, приближались к верехтинскому переулку:
– Вот, достукалися! Кирила топиться пошел!..
Из-за верехтинского заплота посылали всех подальше. Собирая на груди изодранную кофту, с вечным синяком под глазом, выскакивала из ворот «сама» – Платошиха, спрашивала, в какую сторону ушел Кирила, отбегала на безопасное расстояние и кричала:
– Всех он вас, бандитов, обрабливает! Вы его мизинцу не стоите! Чтобы вы сегодня же поиздыхали! Чтобы вы все по тюрьмам поизгнивали!..
Улица сочувственно расступалась перед женщиной, наша бабушка, вечно недовольная дедом, мною, детьми, не удержалась и как-то изрекла признание:
– Нет, не скажу худого про своих робят и про мужа свово. Синяка единого не нашивала. А эт-то чё жа, матушки вы мои, родну мать чуть чего – и в кулаки! Да распоследнее это дело! В сельсовет надо жаловаться. В сельсове-ет.
– Ага, поди пожалуйся, – поддакивали ей. – Митроха-то чьего корня отросток? То-то и оно-то!
Бабушка не раз говаривала, что ребят своих держала строго, даже излишне строго, зато имеет результат. Она и посейчас еще напускала на себя суровость, чтоб сыны ее и дочери – иные из них уже и сами деды! – не забывали, кто она и что она. «Робяты» охотно доставляли ей удовольствие властвовать над ними и гнету не испытывали. попавши под эту, как бы уж и невзаправдашнюю, кратковременную власть.
В сбившемся на ухо платке, бабушка выпорхнула во двор, прервала праздное времяпрепровождение.
– Робята! Мужики! Вы каково же дьявола сидите, табак переводите?
– А чё нам делать-то?
– Как это чё? В ночь поельцовали бы. Я бы вам такое жарево спроворила!..
– Да сети-то где ж?
– Сети? У мамы все есть! Мама все сбережет! – ударила бабушка себя в грудь кулаком, и мужики полезли на сарай, повторяя громко, чтоб бабушка слышала: «Ну, мама! Ну до чего бережлива! Ну радость нам!..»
Слышно, как бренчали кибасья сетей на сарае, как там довольно и возбужденно переговаривались мужики, женщины с безнадежностью требовали:
– Рубахи-то чистые хоть бы поскидывали! А тебя уж подхватит! – пеняли они бабушке сердито. – Перетонут ишшо…
Бабушка вознамерилась вступить в спор, по тут раздался звонкий, бесшабашный голос тетки Августы:
– Много вас, не надо ль нас?
– Я-ави-ила-ась, голубушка, я-а-ави-ила-ась! – обрушилась на нее бабушка. – Отчего же не завтре, прямо к столу бы…
Тетка Августа больше всех Потылицыных обижена судьбой. Мужа убили, сын немой, дома своего нет – мается по чужим углам. Она помогала бабушке в будни и в праздники. Бабушка без тетки Августы жить не может, но бранит ее постоянно. Вот уж сколько дней от окна к окну бегала – не случилось ли чего с Августой на сплаве, но стоило ей появиться – бабушка в претензию.
– Я ж на производстве, мама, на сплаву. Не свое – не бросишь, – уронила с горечью Авгусга, всем как-то неловко сделалось, и бабушка не знала, что дальше сказать. Но Августа сама же все и поправила:
– Тошно мне, Любанька! – протянула она руки, обняла и расцеловала Васину жену, ко всем одинаково ласковую, всеми нежно любимую. Затем тетка Августа обнялась с тетей Талей, с дядей Колей, что-то там сказала, засмеялась – и снова стало весело, дружно в доме.
Минут через десять Августа мчалась уже с подойницей под навес, потом сеяла муку и вся ушла в работу.
Робятня толклась на крыльце. Алешка, явившийся к бабушке еще вечером, показывал и толковал мне, как рвет водою цинки на сплаве, какой дают сладкий кисель в столовке. Я переводил нашей малой и старой родне Алешкины разговоры. Люди дивовались.
– Ат смышленыш! Ат тебе и безъязыкай! Другому и с языком очки вставит!
– Он еще в шахматы играть научился! – после долгих Алешкиных разъяснений вдруг понял я и заорал об этом на весь двор. Бабушка возникла тут же, перепуганная.
– Чего-о-о?
– Алешка в шахматы играет!
– Вот горе-то! Проиграт с себя и с Гуски все!..
Дядя Вася пояснил бабушке, что такое шахматы. Не карты, мол, это, не очко.
– А-а, – успокоилась бабушка. – Все же не играл бы лучше. Мало ли чего.
Дяди Васина и тети Любина дочка Катенька, девочка с бантом, в матроске при якорях, скособочившись, почертила сандалией землю:
– Я штишок жнаю.
– Да ну?! – удивилась бабушка и присела перед балованной девчушкой на корточки, сделала умильное лицо:
– Ну-ко, ну-ко, милушка, скажи баушке стишок. – И платок с уха сдвинула бабушка, чтоб все расслышать, ничего не пропустить.
Катенька взобралась на крыльцо, будто на сцену. Дядя Вася потребовал тишины, тетя Люба вся напряглась и покраснела от переживания. Она не спускала глаз с дочки, шевелила губами следом за нею.
Ты, шорока-белобока,
Науси меня летать,
Недалеко, невысоко,
Штабы бабушку видать!
Подхалимский стишок произвел такое впечатление на всех собравшихся и особенно на бабушку, что я не могу этого и описать. Бабушка тут же исчезла с глаз долой, примчала полную горсть лампасеек. Со щедрой отчаянностью она высыпала все до единой конфетки в карманчик Катенькиной матроски, всю ее исцеловала, а дядья и тетки так хвалили Катеньку, такие о ней хорошие слова говорили, что чуть было и меня не проняли. Я тоже хотел взобраться на крыльцо и громко, с выражением прочесть выученный в школе стих:
В бою схватились двое:
Чужой солдат и наш…
Но бабушка пустит слезу: «Послушала бы да поглядела мать-то, покойница…», и посмотрит на дядьев и теток, чтоб они тоже мне посочувствовали, заодно и ее пожалели. У Кольчи-младшего и у крестной моей – тетки Апрони, которые были вместе с матерью в лодке, но спаслись, лица закаменеют, весь праздник они будут молчать. Женщины дальнего роду станут расспрашивать бабушку, и она примется рассказывать с подробностями, как и что было, как искали в реке мою мать и как нашли уж такую, что она только и узнала ее, да как потом ее хоронили, во что обрядили. Половина гостей загорюет, иные отправятся на кладбище реветь…
А я не хотел слез, потому как слезы еще впереди. Нет плаксивей народа, чем сибиряки в гулянке. Вот почему я не стал декламировать про чужого и нашего солдата, но ребятишкам, братанам своим двоюродным и троюродным, которых шибко много набралось, я все же пробормотал стих, и они очень этим остались довольны. Они тоже терпеть не могли, чтобы девчонки держали в чем-нибудь верх и пуще них глянулись бабушке.
Под вечер мужики с громким говором, возбужденные предчувствием рыбалки, требующей ловкости, сметки и быстроты, отправились на реку и отбыли в двух лодках к острову, чтобы от приверхи его сделать первый замет сетей. Никого из ребят мужики с собой не взяли, и это было мне сильно огорчительно. Любил я участвовать в азартной и хитрой рыбалке плавными сетями.
Но горевал я недолго. Народу наезжего было много, бабушка меня домой не требовала, и мы играли до темноты во всякие игры: и в городки, и в догонялки, и в прятки, и в чехарду. Играли до тех пор, пока не изнемогли. Бабушка вместе с Августой, Апроней и теткой Марией уже затопили печь, выкатывали на столе печенюшки, защипывали пироги, вязали калачи, резали орешки из теста и много чего они мастерили. Нас кормила тетя Люба и все потихоньку выспрашивала:
– Дядя Вася не выпивший поплыл? Не утонут они?
– Любанька! – крикнула из кути бабушка. – Ты гвардии-то в горнице стели. Всем в лежку – не перепутаются. Да сама-то, сама поспи, голубушка. Мы-то ведь привычные, а ты нежная, из хорошего дому…
– Да что вы, мама! Я тоже с вами буду. Как же я лягу? Вот постелю детям и присоединюсь.
– Нет уж, нет уж, Любанька, не перечь! Тут мой устав! Худой ли, какой ли, а мой! Штабы без разговору! И што это за дрожжи такие пошли? Раньше, бывало, на опаре заведешь, эва какие мягкие подымутся! Нонче и на дрожжах чисто рахитные, разъязвило бы их! Может, и удаль не та? Глаз и рука, может, сдали?
Тетки заверяли бабушку, что все нормально, что ни о чем не надо убиваться, и рассказывали друг дружке о том, как жили и живут они, кого встречали за это время, чем хворали они и дети, какая заработка на сплаве и скоро ли Зырянову грыжу вырежут?
Вот всегда бы, вечно так согласно и жили бы люди, Дружно. Так нет ведь, бабы и в первую голову старухи, а от них и молодухи отставать не хотят – все чепляют, чепляют друг дружку, в особенности мужика. Ровно бы мужик – это враг кровный и всегда поперек ее дороги лежит.
Вечер, покой благостный в дому, а она, баба, побрякивает да позвякивает посудой, пошвыривает да побрасывает поленья. В постель идет, в горницу, и одежду с себя не сымает – рвет. «Подвинься! – рычит на мужа. – Разлегся, как боров!»
По всем статьям мужик, если он истинный гробовоз, должен бабу шугануть, столкнуть ее с кровати, но он послушно подвигается, пускает жену под одеяло да еще и подтыкает под спину, чтоб теплее и мягче жене было. И она сразу усмиряется, притихает, старики поскорее уносят лампу в куть. На кровати вроде бы даже и баловаться начнут, шалить, что дети, смешки, шепотки, мир, лад, согласие…
И уяснил я еще в детстве, пусть не буквально-досконально, пусть не до самого дна, но уяснил, что днем, на свету, на народе люди и живут для народа, для других людей то есть, и к народу они оборачиваются угодным тому обликом, отстраненным, сердитым, готовым к отпору, чтобы с отпором не опоздать, первые и набрасываются на всех, в особенности на тех, кто под рукой, кто поближе, но, оставшись наедине друг с другом, люди становятся сами собой и живут друг для друга, пусть и недолго, ночью лишь, но живут, как велит им сердце, сердце, на то оно и живое сердце, чтоб ему худа не было, оно спокой любит и чтоб хорошо было, злое сердце быстро изнашивается, рвется, словно на гвоздях, истирается, будто колесо о худую дорогу, оно и воистину не камень, хотя и камень поточи, подолби, так рассыплется.
Где-то в середине ночи ударило по избе ароматом стряпни, первыми печенюшками, вынутыми из печи, и тут же в горнице появилась бабушка.
– Ребятишки, вы не спите? – шепотом спросила.
– Не-э.
– А чтоб вам пусто было! Нате вот первеньких! Да легче, легче, горячие! Малых-то поразбудите. Любанька, отведай и ты, милая моя!
– Спасибо, мама! Ох, какая горячая!
– Ешь, ешь! – Бабушка присела на минутку к тете Любе. – Как живете-то с Васильем? Ладно ли?
– Ничего живем, не скандалим.
– И слава Богу, и слава Богу! Он ведь хороший, шибко хороший. Из всех парней разумница… – Бабушка замолкла, потянула носом: – Тошно мне! Заговорилась! Девки, пятнай их, недосмотрят, завернут башку-то!.. – Бабушка выпорхнула из горницы и прикрыла обе створки дверей.
Когда приплыли мужики, мы не слышали. И тетя Люба тоже проспала, отчего угром конфузилась, дядя Вася подразнивал ее, стращая: в следующий раз с ельцовкой уплывет до города и такую там стерлядь заловит!..
– Будет болтать-то, будет! – крикнула из кладовки бабушка и протяжно, с подвывом зевнула. – Чего зарыбачили? Два тайменя: один с вошь, другой помене? – Она вышла из кладовой, где поспала часок или два на рассвете, глянула на корзину, полную ельцов, удивилась: – Гляди-ко, попалось!
– На твоего ангела закидывали, мама!
– Ничего ангел-то, рыбистай! – согласилась бабушка и приказала дяде Васе: – Не мылься коло Любы-то, не мылься, ступай с мужиками на сеновал, поспи. Ночь-то пробулькались и с первой рюмки под стол уйдете – с родней видеться… Тебе, Любанька, наказ: всю гвардию накормить и удозорить, чтоб ни один в реку не упал и никуда не делся! Гуска, Апронька, Марея! Хватит дрыхнуть! Вставайте! Экие кобылищи! Солнце на обед.
– Вот ведь нечистый дух! – заворчала в кладовке тетка Мария. – Поднимется ни свет ни заря и никому спать не дает.
Ей чё! Ей дай покомандовать! – поддакнула Апроня.
– Генерал! – вставила Августа.
Одна за другой тетки выходят во двор, потягиваются, зевают, бренчат рукомойником, и через короткое время они уже снова в ходу, в работе, вялость слетает с них, мятые лица разглаживаются.
К полудню в горнице накрыты столы. Тетки и бабушка, исчезнувшие на время, явились немыслимо нарядные, важные. Правда, важничает бабушка да еще тетка Мария. Апроня же и Августа – просмешницы, зубоскалки, хватает их серьезности ненадолго.
Дед распахнул одну створку дверей, бабушка другую и напевно, с плохо скрытым волнением стали приглашать гостей:
– Милости прошу, гостеньки дорогие! Милости прошу отведать угощения нашего небогатого. Уж не обессудьте, чего Бог послал.
А дед сам себе в бороду:
– Проходите, будьте ласковы, проходите!..
Церемонность его угнетала, не по сердцу она ему, но не раз уж коренный бабушкой за то, что и людей-то он приветить не умеет, и слова на них жалеет, дед выполнял обременительную обязанность до конца. Сыны проходили мимо деда, подмигивали ему, ободряли и даже предлагали бросить пост, отправляться за стол. Но бабушка бдила – и дед усмыгнуть к столу не решался.
После шутливой возни, короткой, шумной междоусобицы, стараясь не уронить чего и не облить наряд себе или соседу, расселось большое семейство – взрослые за двумя столами, дети за третьим. К столам еще приделаны подставки, и они совсем как в сплавщицкой столовой – от стены до стены. В конце того стола, который торцом упирался под божницу, два свободных места – дедушки и бабушки.
Столы накрыты по сибирскому закону: все, что есть в печи, в погребе, в кладовке, все, что скоплено за долгий срок, теперь должно оказаться на столе. И чем больше, тем лучше. Поэтому все на столах крупно, нарядно, все ядрено, все зажарено и запечено с красотою, большим старанием и умением.
Студень – гордость стряпух, чуть только жирком подернутый сверху, колыхнулся при появлении гостей в горнице и дрожью дрожит. Прозрачен студень, легок на вид, но резать его ножом надо. Капуста в пластах, капуста крошевом. Соленые огурцы ломтиками. Петух отварной из чашки лапы выпростал. Рыжики с луком по всему столу на мелких тарелочках радужно улыбаются пестрыми губами. Рыжик у нас не моют перед засолкой, протирают тряпками каждый по отдельности, и от этого грибы не вянут, не темнеют и на зубу хрустят свежо. На двух больших чугунных сковородах зажаренные в русской печи ельцы. Они не пересохшие, но подрумяненные так, что есть их можно с головой – только похрумкивают. Перцу в них, листа лаврового впору, жиров к ним не добавляют – что за елец, если он своего соку не даст. Тут уж или елец плох, или стряпка никудышняя. Рыбный пирог из таймененка, привезенного Зыряновым. У нас пироги делают по величине рыбы – какая рыба, такой и пирог, лишь бы в печку влез. На сей раз пирог получился невелик, но запашист. Нет лучше пирога, чем из тайменя. Как и к ельцу, в пирог, кроме перца и лаврового листа, ничего не добавляют. Он сам даст сок, жир и аромат.
Шаньги, печенюшки, мясо так, мясо этак. Малосольная стерлядь, верещага-яичница, сладкие пироги, вазы с брусникой, еще прошлогодней, вазы с вареньем черничным, еще позапрошлогодним, хворост, печенье, сушки, орешки, из теста нажаренные!..







